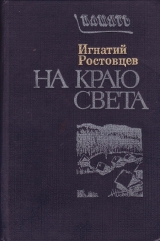
Текст книги "На краю света. Подписаренок"
Автор книги: Игнатий Ростовцев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 50 страниц)
Мне тоже было жаль Лушу. Она была такая добрая, такая ласковая. Но моя жалость к ней как-то смешивалась с жалостью к самому себе. Я очень жалел Лушу, а сам все время думал о том, что она не успела сшить мне бархатную курточку.
Никогда не быть мне красивым и нарядным, никогда люди не узнают и не увидят, какой я добрый и хороший мальчик.
А в бумажной трубке оказалась александрийская бумага. Три огромных плотных белых листа. Всю дорогу из города отец берег эту трубку, чтобы как-нибудь ненароком не измять, не сломать ее. А я так много думал о бархатной курточке, так ждал ее, что забыл даже, что просил его непременно купить мне эту бумагу.
В первую же субботу после возвращения отца из города я сдал Павлу Константиновичу книгу о маленьком лорде Фаунтлерое. Павел Константинович проверил сначала, не измазал и не истрепал ли я книгу, потом стал журить меня за то, что я долго держал ее у себя. Но, увидев мое расстроенное лицо, махнул рукой и выдал книгу Миньке Обеднину.
Через день я пошел к Миньке узнать, понравился ли ему рассказ о маленьком лорде. Но он, оказывается, еще и не раскрывал его.
– Мамаша принесла, понимаешь, от тетки Хивоньи книжку о Страшном суде божием и заставляет меня вечером читать ее вслух.
Тут Мишка достал с божницы тощенькую истрепанную книжку под названием «Новое слово о. Иоанна Кронштадского об еретичестве графа Льва Толстого и о Страшном суде Божием, грядущем и уже приближающемся».
– Вчера, понимаешь, уселись с Офимьей Щетниковой за стол и слушают меня. Я читаю им эту книжицу и ничего в ней не понимаю. Ну и они, конечно, тоже ни чох ни мох. Но все равно просят читать. Насчет Страшного суда им хочется что-нибудь узнать. Что там да как будет.
– Может, Павлу Константиновичу показать эту книжку? – предложил я Миньке.
– А для чего?
– Помнишь, он говорил нам, чтобы мы как можно больше читали дома. А если что непонятное будет, чтобы его спрашивали.
– Ну так что?
– Вот и спроси его – надо ли читать эту книжку. Сам же говоришь, что ничего в ней не понял.
– Это верно.
– То-то и оно.
На другой день у нас был обмен книг у Павла Константиновича, и я понес ему менять книжку под названием «Смелые мореплаватели» – про одного избалованного, капризного мальчика – сына американского миллионера. По дороге из Америки в Европу этот задавало во время шторма вывалился за борт парохода. В море его спасли рыбаки, приучили к тяжелой работе, и он сделался настоящим человеком.
А Мишка принес свою книжку об еретичестве графа Льна Толстого.
Павел Константинович взял у него эту книжку, взглянул на нее одним глазом, показал ее нам и громко всем сказал:
– А Ивана Кронштадского вы не читайте. Он в ссоре со Львом Толстым и сводит с ним в своих книжках счеты. Вы с этим делом по его писаниям не разберетесь. Лучше их не читать.
Такому совету Мишка очень обрадовался и дома заявил своей матери, что Павел Константинович велел ему эту книжку не читать. Тогда его мать стала оправдываться, что она только насчет Страшного суда хотела узнать что-нибудь, а об еретичестве она и сама слышать ничего не хочет, и Офимье накажет не слушать больше эту тарабарщину.
Через несколько дней я опять заявился к Мишке. На этот раз книгу о маленьком лорде он прочитал. И он ему очень понравился, и картинки в книге тоже понравились. Но к бархатной куртке Мишка остался совершенно равнодушным, сказал только, что она сшита, судя по всему, из дорогого материала, и сразу перевел разговор на самого маленького лорда.
– Конечно, – говорил он, – это хорошо, что, сделавшись лордом, Кедрик Эрроль не кичился своей знатностью и богатством. Это правильно! Каждый из нас на его месте сделал бы то же. Да приведись мне сделаться лордом, неужели я отказался бы от дружбы с нашими ребятами. Да ни за что на свете!
Или насчет его доброты к бедным людям. Тут я тоже не вижу ничего особенного. Каждый из нас на его месте сделал бы то же самое. А может быть, даже и больше. Быть наследником нескольких замков, богатых рудников и обширных поместий и не помочь бедному человеку – это, знаешь, уж последнее дело.
Теперь насчет его храбрости. Он нисколько не боялся своего зловредного дедушки и ездил по парку на смирном обученном пони, да еще в сопровождении слуги. Подумаешь, какая храбрость. Да наши ребята в его-то годы всю весну боронят на пашне, в сенокос возят копны на покосе, в страду стаскивают снопы в суслоны, осенью и весной помогают пасти скота, зимой молотить хлеб, вообще, делают тысячи таких дел, которые даже не снились маленькому лорду.
Внапоследок Мишка стал смеяться над графским парком. Подумаешь, в нем бегают и резвятся зайцы и кролики и пасутся серые большеглазые олени. А медведи, а волки, а козы в этом парке есть? А сохатые, а маралы, а белка и соболь, лисица, горностай? Ничего в этом графском парке нет! А в нашей тайге все это есть. Вот и выходит, что наши места ничем не уступают графскому парку. А если взять нашу большую тайгу по Устугу, по Убею и Сисиму, которая уходит дальше, на край света, то она больше и богаче всех графских парков, взятых вместе…
Я тоже думал обо всем этом, когда читал книгу. Но только все мои мысли об этом, при виде картинок в книге, куда-то улетучивались. Рисунки заставляли меня думать о маленьком лорде, о его злом дедушке, об его удивительном замке и, главным образом, о его бархатной курточке. Поэтому судьба маленького лорда трогала меня. Я жалел его, боялся за него, сочувствовал ему, любил его. Любил я, собственно, не маленького лорда, а бедного сироту Кедрика, которого судьба нечаянно сделала знатным вельможей, а он, несмотря на это, остался прежним хорошим мальчиком. Именно таким представлялся мне в книге Кедрик. Другим я его не знал и знать не хотел.
Все это я понимал, конечно, очень смутно и не мог объяснить Мишке. Да он, пожалуй, и не понял бы меня. У него ведь буквально засело в голову, что маленький лорд никуда не годится по сравнению с нашими деревенскими ребятами.
Не хотелось мне заводить с ним разговор и о бархатной курточке, а то, чего доброго, он начнет еще смеяться над тем, что я хотел сшить себе похожую.
В общем, я попросил у Мишки книгу на один вечер, чтобы еще раз перечитать кое-какие места, а главное, еще раз посмотреть на бархатную курточку и проститься с ней навсегда.
Глава 8 ДЕДУШКО ГАВРИЛО
Иногда отец «загуляет» и тогда приводит домой гостей. Чаще всего своего родного дяденьку и крестного отца Гаврила Родивоновича Калягина.
По этому случаю мать поставит самовар, принесет на стол всякое угощение, из погреба появится шайка пива и откуда-то бутылка водки. Подвыпивший дедушко Гаврило держится заносчиво, требует к себе особливого почтения, всячески бахвалится своим богатством, рассказывает, сколько он закупал и продавал скота и сколько нажил при этом капиталу, сколько плавил за свою жизнь хлеба в Енисейско и все такое.
В свою очередь отец заводит длинную речь о том, что хотя мы не закупаем скота ни гуртом, ни в розницу и не плавим барками хлеб в Енисейско, однако живем, слава богу, тоже ничего и в любое время не хуже добрых людей можем принять и угостить хорошего человека.
Все это дедушко Гаврило слушает с усмешкой. Уж кто-кто, а он-то лучше других знает, что если бы его племянничек, то есть мой отец, был бы порасторопней да умел бы вовремя сообразить, что и как лучше сделать по хозяйству, то он и дом себе давно поставил бы крестовый, а не жил бы в такой избенке, и тарантас себе завел бы, а не ходил бы за ним каждый раз к богатым сродственникам, ну и деньжонки имел бы кой-какие про запас на черный день…
Отец и сам, конечно, понимает, что все ссылки на то, что мы живем, слава богу, не хуже добрых людей, в глазах дедушки Гаврила, самого богатого человека в деревне, имеют не особенно большую цену. Поэтому привычный разговор о богатстве и о нашей бедности он переводит в несколько иную плоскость.
– Оно конечно, – соглашается он с дедушкой, – что и говорить. Избенка у нас дивствительно неважная, и тарантаса своего мы пока еще не завели, зато детей своих грамоте учим, чтобы они умели читать, писать и как следует обойтись и поговорить с хорошим человеком.
Тут дедушко безнадежно машет рукой и презрительно говорит, что раньше не знали этой самой грамоты, а жили лучше, чем теперь.
– Тоже сказал мне – грамоте сыновей учишь, – закончил дедушко. – Да теперь все с ума посходили с этой грамотой. Вон какое училище в деревне отгрохали. Учат, учат, а что толку от этого? Ты что думаешь, тебе легче будет от того, что твои сыновья грамоте выучатся? Грамотные-то оне совсем сядут тебе на шею. А ты гни на них горб.
Но тут отец решительно вступился за брата и за меня:
– Оно, конечно, бывает и так – выучат детей, а оне дивствительно сядут отцу на шею. Но у нас, слава богу, сыновья и грамоте выучены, и по хозяйству тянут лямку не хуже неграмотных. Вон Конко. Три года учился, школу закончил, а все равно за сохой ходит, за сеном и за дровами в тайгу ездит, а косит и жнет так, что любого однолетка заткнет за пояс. Да и младший…
– Что младший? – сердито перебивает отца дедушко.
– Тоже начинает помогать.
– Помогает… из чашки ложкой, – с насмешкой говорит дедушко.
– Нет, почему же, – не унимается отец и начинает перечислять мою работу в хозяйстве: – Уж два года, как с весны до осени на работе. Весной на пашне – боронит. Летом на покосе. Косит с утра до ночи вместе со всеми, копны возит, жнет. Скота пасет на заимке, зимой на гумне помогает. Слухмяный парень, хоть и грамотный. Нет, Гаврило Родивонович! Не прав ты! Работа, конечно, работой, а грамота тоже дело стоящее. И работе совсем не мешает. Акеха, ну-ка почитай дедушке Гаврилу «Конька-Горбунка».
Мне не нравится спор отца с дедушкой. Да и сам дедушко мне не нравится. Как придет к нам, так и начинает выхваляться своим богатством. Я хмуро сижу возле мамы и вначале отказываюсь читать.
– Не надо, тятенька. Что вы… Вроде как в школе.
– Нет, Кено. Давай, брат! Зажигай, мать, лампу, ставь на стол. Будем «Конька-Горбунка» читать. Пусть дедушко Гаврило послушает. А то он подумает, что ты у нас и в школу-то зря ходишь, и читать там даже не выучился, и «Конька-Горбунка» не знаешь.
Я смотрю на маму, надеясь найти поддержку с ее стороны. Но, вопреки моему ожиданию, она встает, проходит в куть, зажигает там лампу и несет ее на стол.
– Почитай немного, – говорит она мне. – Уважь дедушку. Пусть послушает. А то он в самом деле подумает, что ты в школе время попусту тратишь.
Тогда я достаю с божницы книжку с этой сказкой, подхожу к столу, за которым сидят отец и дедушко Гаврило, одергиваю, как перед Павлом Константиновичем, свою рубаху и начинаю:
За горами, за лесами,
За широкими морями,
Против неба – на земле
Жил старик в одном селе…
Я читаю очень хорошо, без запинок и с выражением, как учил нас Павел Константинович.
В школе мы читали «Конька-Горбунка» сначала с Павлом Константиновичем, а потом сами по себе. Начнет кто-нибудь одни стих, ты подхватишь следующий, за тобой кто-нибудь еще, и так всем классом читаем вперегонки, пока не придет Павел Константинович.
Дома у нас тоже очень любят слушать «Конька-Горбунка». Отцу, мамоньке, Чуне нравится сказка. Но, может, им больше нравится мое умение читать? Смотрите, дескать, что наука-то делает! Парнишко-то – клоп, а до чего дошел. Вычитывает такое, что и в жизнь не придумаешь.
А дедушко Гаврило – я хорошо это вижу – совсем не расположен слушать. Он нахмурился, пододвинул к себе тарелку с груздями и думает о чем-то о своем. Он, конечно, слушает меня. Но только немного. Так, одним ухом. А другим он слушает что-то свое. И на лице у него усмешка. Дескать, тоже нашли чем хвастать.
Но я не обращаю на это внимания и громко, с выражением читаю о том, как старший брат должен был идти в дозор караулить в поле пшеницу, но вместо этого проспал всю ночь в сеннике, как после него должен был пойти караулить вора второй брат и как вместо этого он всю ночь ходил дозором у соседки под забором.
Но все это дедушке, видать, не интересно. Он сидит за столом с хмурым видом, недовольный тем, что его отрывают пустяками от выпивки и закуски.
Только когда младший брат Иван-дурак вскочил в дозоре на кобылицу и она понесла его над полями и над лесами, дедушко отодвинул от себя тарелку и повернулся ко мне. Вскоре на его лице заиграла улыбка, и он стал слушать меня уж по-настоящему и даже выражать одобрение по поводу некоторых мест в сказке.
Так, ему очень понравилось, как Данило и Гаврило,
Что в ногах их мочи было,
По крапиве прямиком
Так и дуют босиком…
Как под песню дурака
Кони пляшут трепака;
А конек его горбатко
Так и ломится вприсядку…
Понравилась ему история про чудо-юдо рыбу-кит, про ерша-гуляку, крикуна и забияку. И особенно конец сказки, где крестьянский сын Иван-дурак оказывается умнее всех, женится на заморской царевне и получает в награду целое царство.
Но вот чтение закончено. Дедушко сидит за столом, позабыв про стоящую перед ним выпивку, и, немного растерянный, говорит:
– Ведь придумают же, сукины дети! Так складно да антиресно. Так бы все и слушал. Ну, спасибо, брат! Уважил старика. Молодец!
И дедушко насыпал мне в подол рубахи из кармана несколько горстей кедровых орехов. В них я заметил десятикопеечную серебрушку.
– Тут деньги, дедушко, – обращаю я его внимание.
– И деньги бери. Все равно пропью.
А мой отец?.. Он бесконечно доволен, что в споре с богатым и спесивым дядей ему удалось доказать свою правоту. И кроме того, он переполнен гордостью за меня:
– Ведь он три года не вставал. Все в зыбке лежал. Мы каждый день думали – вот умрет, вот умрет. Бывало, совсем глаза закатит. Ну, думаем, все… преставился младенец Акентий, дай бог ему царство небесное. Свечи на божнице зажжем. Мать заплачет. А он лежит, лежит, да, глядишь, вдруг и очухается. Оживет парень. А теперь гляди какой вырос. Молодец! Учится у Павла Костентиновича… Уж, слава богу, перешел в третий класс.
Дальше отец опять завел речь о том, что хотя мы люди и небогатые, но никто про нас ничего плохого не скажет.
– Не надо, Ганя, об этом. Не надо! – просит дедушко отца. – Что оно, богатство? Вот скоро подохну, и все мое богатство останется дочерям-дурам да зятевьям-хватам. Они ждут не дождутся моей смерти. Не успеют закопать меня, как начнут грызться из-за этого богатства, чтоб оно прахом пошло. Жалко, пропить все не успею… Здоровья не стало. Не могу пить, как раньше. Но деньги я им все равно не оставлю. Пусть не надеются! Я сгнию, и деньги мои сгниют! Спрячу так, что вовек не найдут. Пусть поищут, а я на том свете посмеюсь над ними, как они будут тут изворачиваться. Ох, ох, ох!.. Богатство, богатство! Чтоб ему ни дна ни покрышки. Правду говорят – не отдашь душу в ад, так не будешь богат. Давай-ко, племянник, выпьем еще немного да споем хорошую песню. Хозяин ты неважный, что и говорить, зато песни хорошо поешь. А песни, она, брат, тоже богатство. Конечно, на нее дом крестовый себе не поставишь и тарантас не купишь. Зато она лучше всякого капиталу душу лечит. Споем-ко, крестник, нашу «Птичку-невеличку», нашу «Ластовочку».
И дедушко Гаврило затянул:
Невеличка птичка ластовочка
Через море перелетывала.
Через море перелетывала,
Девкам вести перенашивала…
Голос у дедушки слабый, но поет он умело, с чувством. Он как-то приосанился без обычной для него спеси и бахвальства. Видно, что и слова песни, и напев ее ему очень нравятся.
А отец у нас действительно хороший песельник. Он любит песни и поет их без конца. И по праздникам, и в будни. И на пашне, и на покосе. И песни у него все разные.
«В песне надо иметь голос. Это верно, – говорит он. – Но одного голоса мало. Бывает, голос здоровый, а дурной. Главное в песне – склон. Тогда и петь легко. Склона нет, и песни нет!»
А песен у отца много. Но чаще всего он поет песню про знаменитого боярина, по прозванью Карачун, у которого в высоком тереме живет в заточении и проливает горькие слезы сиротинушка Любаша. Очень часто отец поет песню про доброго молодца Ванюшу. В этой песне отец уговаривает Ванюшу бросить гулять с вертихвостками и скорее жениться. Особенно хорошо получается у отца в этой песне припев:
Деньги дело нажитое,
Об них нечего тужить…
А любовь – дело другое,
Ею надо дорожить…
Иногда тятенька поет разные смешные песни. Песню про воробья: «Мы поймали воробья на зеленой конопле – на веревочку. Зарубали воробья во четыре топора – по головочке…» Песню про Дуню, которая стала прясть пряжу не толсто, не тонко – в санную завертку. Песню про привередливого дьякона. Этого дьякона угощают в гостях разными соленьями и печеньями, а он требует подать себе еще «лёду жареного».
Песня про птичку-невеличку тоже относится к любимым песням отца. Услышав, что дедушко Гаврило запел ее, отец встал и тоже приосанился. И когда дедушко пропел слова: «Девкам вести перенашивала…», он уверенно подхватил:
Не ходите, девки, замуж молоды.
Не ровен, мужик навяжется
Либо вор, а либо пьяница,
Либо вечная буяница…
Отец вступил в песню после дедушки и ведет ее теперь один. Дедушко только подтягивает ему. Он как бы уступает отцу первое место, а сам переносит все свое внимание на то, чтобы разыгрывать песню:
Он в кабак идет – шатается,
С кабака идет – валяется,
А домой придет – куражится,
Заставляет раздевать, разболокать,
Часты пуговки расстегивать…
Мои рученьки белешеньки,
На них кольца золотешеньки.
Белы рученьки мараются,
На руках кольца ломаются…
Дедушко не столько поет, сколько изображает, как мужик по дороге в кабак и из кабака шатается и валяется, как он потом куражится над своей молодой женой, заставляет ее разувать себя, разболокать. Когда же речь заходит в песне про белы рученьки, тут дедушко начинает разыгрывать своими руками разное. Дескать, посмотрите, какие они у меня белешеньки и какие кольца на них золотые. Когда же белы рученьки мараются и на них кольца ломаются, дедушко бессильно опускает свои руки и всем своим видом показывает, что с ним случилось какое-то большое горе.
Заключительные слова песни:
Невеличка птичка ластовочка
Через море перелетывала… —
дедушко и отец поют дружно, с большим подъемом. Дедушко уж не разыгрывает эту часть песни. Может быть, потому, что не знает, как представить нам птичку-невеличку, которая через море девкам вести перенашивает. А вероятнее всего, потому, что песня его увлекла и он целиком отдался ее непреодолимой силе. Он и сейчас не может удержаться, чтобы немного не подыграть. И уже не сидит за столом, а стоит рядом с отцом и делает при этом движения руками, которые говорят о том, что песня подхватила его и уносит куда-то далеко-далеко из нашей избенки.
Но вот песня допета. Отец и дедушко стоят молча, как бы в недоумении, словно они спустились с заоблачных высот. Мать тоже о чем-то задумалась и ничем не нарушает это молчание. Наконец дедушко Гаврило как бы очнулся, стряхнул с себя это наваждение и первый заговорил:
– Ну, поздно уж. Пора и честь знать. Пойду с бабкой Анной воевать. Не успею порог переступить, а она уж кричит: «Пришел, старый варнак! Опять пьяный! Нет на тебя погибели!» Да и то сказать – извожу я ее с этой выпивкой. Ведь почти каждый день одно и то же. То с похмелья, то пьян до усмерти. И кто только придумал это зелье на нашу погибель?..
Тут дедушко застегнул свой «дипломат» на все пуговицы и обратился ко мне:
– Ну, внучек. Еще раз спасибо. Ублаготворил ты меня. И надо же такое придумать. Похоже, из мужиков кто-то сочинил. Ты мне как-нибудь еще раз прочитай все это. А я послушаю да подумаю о своей жизни. До свиданья, Дуня! – обратился он к матери. – Что ты на меня так смотришь? Не сердись на старого брехуна. Пьяному-то, знаешь, море по колено. Чем дурнее, тем ему больше ндравится. Лишь бы люди завидовали. Ну, пойдем, Ганя. Проводи крестного. А то свалюсь где-нибудь под забором на посмешище всей деревне. Али черт в пруд уманит. Он любит подшучивать над пьяницами-то. Вот так-то оно, крестничек. И пить – умереть, и не пить – умереть… Так лучше, знаешь, погулять на этом свете как следует. А там видно будет…
И дедушко с отцом вышли из избы.
После их ухода мы долго молча сидели с мамонькой. Потом она убавила свет в лампе и стала убирать со стола. А я все сидел да думал об ушедшем дедушке. Наконец я спросил мамоньку, почему дедушко каждый день ходит по деревне пьяный.
– А кто его знает, – ответила она. – Лет пять уж так. Раньше он, конечно, тоже выпивал. Но знал меру. А как выдал свою Парасковью в Подкортус, так с той поры пьет уж без просыпа. Когда кабак в деревне был, он из него не вылезал. А как кабаки закрыли и монополка в Коме открылась, так дома стал пить да по родне рюмки собирать. Сегодня у нас, завтра у зятя, там к Филиным зайдет, к Илье Яковлевичу. Везде его принимают, везде угощают. Так вот и живет с тех пор.
– Ему жалко было выдавать тетку Парасковью в Подкортус?
– Жалко, видать. А что было делать. Пришлось. Сам и жениха-то ей там нашел. Можно сказать, высватал ей Кирюшу-то.
– А почему наши кульчекские женихи за тетку не сватались?
– Не хотели свататься.
– Она что же – невеста плохая была?
– Невеста она была хорошая. И богатая, и приветливая, и на работу огонь, и собой хоть куда. Всем взяла. И женихи поначалу находились. Из Подлиственной сватались, с Июса несколько раз приезжали. Но почему-то все не ндравились ей. Один ростом не вышел, другой масти рыжей. Пусть он хоть семи пядей во лбу, а если рыжий, то она и знать такого не хотела. Вот какая девка была привередливая. А дедушко Гаврило, он, конечно, хотел иметь за нее богатого зятя. Вот он и выбирал за свою Паруньку такого жениха, чтобы он и собой был хорош, и капитал имел. А она тем временем снюхалась тут с одним цыганом да и убежала с ним. Одежонку, что получше, это уж как водится, унесла с собой, да еще денег пять сотен прихватила. Кое-как поймали ее потом…
Ну, после этого никаких сватов к нашей Парасковье уж не наезжало. Кому нужна такая погонялка. Знаешь ведь – добрая слава за печкой лежит, а худая по свету бежит. Обмаралась с этим цыганом на всю округу. Вот и пришлось за сто верст жениха-то выискивать…
А дедушке Гаврилу все это было, конечно, зазорно. Раньше он чем бы ни выхвалялся, как бы ни чванился, а все больше о своей Паруньке говорил: Парунька моя то, Парунька другое… Лучше его Паруньки и на свете никого не было. А после этого он об ней и не заикается. А кого винить! Сам виноват во всем. Не якшался бы с цыганами да не привечал бы их – так, может быть, ничего и не случилось…
– А он что, с Афоней-цыганом якшался?
– Кто с нашим Афоней будет якшаться? Какой от него прибыток? Особенно богатым. Он сам-то кое-как с хлеба на квас перебивается. Семья большая, работать лень, в своей деревне воровать боязно… Вот и приходится рыскать на стороне. Известна Афонина жизнь – день густо, да неделю пусто. От богатой родни больше кормятся. То брат какой-то из-под Минусы наедет – недели две гуляют, то сват из-под Ачинскова – опять гулянка, то, глядишь, какой-нибудь кум объявится. И все с деньгами. Так и перебивается от сродственника к сродственнику…
Ну а дедушке Гаврилу Афонины гости в антирес. Везде бывали, всякое видали. Не то что наш Тереша Худяков али Еремка Грязнов. А тут еще затесались в конпанию наш Илья, да Трошка Плясунок, да Иван Купин, да Митя Крюк. У одних какие-то дела с этими цыганами, другие просто их ублажают, чтобы те их не обворовали…
В том году, сразу после устретенья, приехали к Афоне какие-то сродственники из-под Каратуза. Четыре цыгана на двух парах. Один уж старик, высокий такой да важный, с большой белой бородой. Богатый, видать… в жеребковой дохе, в бобровой шапке. Два других помоложе. Чернобровые такие. Тоже хорошо одеты. А четвертый совсем молодой. Веселый такой да приветливый и лицом пригож. Не верится даже, что цыганской родовы. Песельник да гармонист… Как заиграет на своей тальянке, ну прямо за сердце, подлец, щиплет. Днем Гриша стариков своей игрой ублажал, а по вечерам на вечерки стал ходить. Все наши девки с ума от него посходили. Вот какой был парень, хоть и цыган.
У Родивоновых он бывал с конпанией, видать, не раз. Но никто за ним ничего плохого не примечал. Видели, конечно, что он ластится немного к Паруньке. Так кто к ней в та поры не ластился. Девка богатая, веселая, обходительная… Все наши ребята около нее крутились.
В первый день масленицы собралась наша Парасковья идти ночевать к Саньке Елисеевой. И Анну упредила, чтобы та ее с вечера не дожидалась. На другой день Анна ждет ее утром. Ждала, ждала, а потом сама пошла за ней к Елисеевым. А снег в ту ночь выпал чуть не в пояс. Дорогу всю перемело. Вот бредет наша Анна кое-как по снегу к Елисеевым, а навстречу ей Санька: «Я, – говорит, – тетонька Анна, к вам иду узнать, уж не приболела ли чем Парунька. Вчера на вечерку не пришла и сегодня что-то не показывается». – «Как это на вечерку не пришла! – всполошилась тут Анна. – Она с тобой ведь вчера собиралась на вечерку, а оттуда ночевать к вам хотела идти!» – «Да не было ее, тетонька Анна, вчера на вечерке. Да и вечерка-то была ни то ни се…»
Тут Санька стала рассказывать тетке Анне о том, какая муторная вчера была вечерка без Гриши-гармониста. А у той уж кошки на сердце скребут. Чует что-то недоброе. Не дослушала Саньку и пошла скорее домой. Прибежала к себе – и сразу в горницу к Парунькиному сундуку. Открыла его, а он… пустой. Одна старенькая шаленка только и валяется на самом дне. Ну, тут и зашлась наша Анна. Сидит над сундуком да заливается слезами.
А дедушко в эту ночь у зятя ночевал. С вечера выпили со Степаном, а утром он еще опохмелился у них как следует, так что еле домой приплелся. Пришел домой и сразу, конечно, на боковую. Лежит это на кровати и слышит, как Анна причитает в горнице.
– Заголосила опять! – кричит он ей. – Спать не даешь!
Ну, тут тетка Анна и набросилась на него:
– Вставай, – говорит, – старый варнак! Нет на тебя погибели! Прогуляли девку-то! Не уберегли! Убежала с кем-то наша Парасковья. Стыд-то какой!
А дедушко, спьяна это уж, что ли, на нее же и набросился:
– Ты, Анна, брось этакую дурость пороть. Не такая у меня Парунька, чтобы из родительского дома бежать. Чего ей у нас не хватает? Ушла к кому-нибудь ночевать. Обожди немного – сама заявится…
– Жди… Заявится, – запричитала Анна. – Смотри! Весь сундук выгрузила. Все подчистую унесла!
Тут Гаврило встал с кровати, прошел в горницу, посмотрел на пустой Парасковьин сундук и рассмеялся. Анна плачет, а ему, видишь ли, смешно.
– Вот так дочка! – говорит. – Ловко она нас обчистила. Вокруг пальца обвела. Молодец девка! Узнаю свою родову!
Опосля этого пошел он зачем-то в свою кладовку. Только это он зашел туда, как сразу же начал ругаться там благим матом.
– Анна! – кричит ей. – Так тебя перетак!..
Анна, сама не своя, прибежала к нему в кладовку.
– Ты куда убрала отседова деньги?
– Какие деньги?
– Ты что, – говорит, – сдурела совсем, что ли! Не знаешь, какие деньги? Из Енисейскова привез – хлеб весной сплавили. Пятьдесят золотых по десятке. Забыла, что ли! Куды девала их?
– Не брала я эти деньги.
– Как это не брала! Куды оне могли деваться! В туесе лежали, в тряпичку завязаны и крупой сверху засыпаны. А туес под лавкой стоял, за бадейкой. С самой весны на месте были. А сейчас хватился – тряпичка в туесе, а денег нет.
И сует ей в нос этот самый туес с крупой и холщовую тряпицу.
– Вот в этой, – говорит, – тряпичке там в туеске лежали.
– Чтоб тебя леший взял с твоими деньгами, – заругалась тут Анна. – Ищи! Куда они денутся, твои деньги. Никто, кроме тебя, в этой кладовке не шарится. И ключи от нее у тебя.
Тут дедушко опять начал рыться в кладовке. Все вверх дном перевернул, а крупу чуть ли не через сито просеял. Потом в подполье искал, в других своих потаенных местах. И нигде эти деньги свои не нашел. Внапоследок он догадался:
– Она взяла, так ее растак! Отца родного обокрала! Ловко сработала, стерва!
Говорит, а самого всего так и трясет. Аж зуб на зуб не попадает. Потом пошел, налил себе сразу целую чашку водки и выпил. После этого уж отошел немного и говорит:
– Давай, Анна, думать – к кому она убежала, кому деньги мои унесла…
Тут стали они с разных сторон прикидывать да примеривать это дело. Всех женихов в деревне перебрали. И выходило так, что не к кому Парасковье в Кульчеке бежать. В суседних деревнях тоже ни одного подходящего жениха не находилось. И вдруг его тут как бы осенило, что она с Гришкой смылась. И как только он догадался об этом, так ему сразу припомнилось, как она на его глазах не раз с ним о чем-то шушукалась, и одежонку свою в горнице перебирала, и у кладовки что-то вертелась. Раньше-то ему все это было невдомек. А теперь стало ясно.
И как только дошло все это до него, так он сразу и побежал к старосте. Так, мол, и так. Родная дочь обокрала. Денег пять сотен и лопати целый сундук. И убежала вместе с цыганом.
А старостой был у нас тогда Нефед Мажоров. Сурьезный такой мужик. Он послушал, послушал дедушку-то да только махнул рукой:
– Попробуй, – говорит, – догони их теперь. Оне за ночь-то, может, верст за сто умахали. А потом, нашел кого ловить. Разве цыгана на таком деле поймаешь. Нет, брат! Что у волка в зубе, то Егорий дал. Не догнать нам теперь твою Паруньку. Да ты, – говорит, – не волновайся. Недельки через две-три она сама к тебе заявится. Как миленькая. Ты чего думаешь, нужна цыганам твоя Парунька? Им деньги твои нужны да одежонка ее. А женить своего Гришку на ней они и не думают. Он у них вроде приманки на богатых девок. Нынче твою Паруньку подцепили. А потом поедут в другое место, найдут другую богатую дуру. Им ведь тоже надо жить. Работать-то лень. Попробуй-ко заработать пять сотен на крестьянской работе. Килу наживешь, а таких денег не сколотишь.
– Что верно, то верно, – говорит тут Мажорову дедушко Гаврило. – Дивствительно, по хорошей дороге оне верст сто, а то и больше умахают. Но дорога-то сегодня непроезжая. Снег-то выпал выше колена. Все перемело. Куды погонишь по такой дороге. А потом, рассуди сам – приехал он за ней наверняка али из Анаша, али из Подлиственной. Он, может, сюды уж коней-то уморил. А потом убродом обратно. Не очень-то далеко умахаешь. Так что пишите скорее с писарем бумагу анашенскому и подлиственскому старостам, чтобы перехватывали ее там с этим цыганом.
Ну, тут дивствительно наш кульчекский писарь сразу написал по всей форме бумагу насчет этого дела в Анаш и в Подлиственную, а Мажоров отправил ее с нарочным. А потом подумал, подумал немного, взял сотского и десятского и сам поехал с ними ее разыскивать.
– А где они ее поймали-то? – интересуюсь я. – С цыганом или одну?
– Одну поймали. Цыган-то успел смыться. А ее, голубушку, сцапали в Подлиственной у наших Сюксиных.








