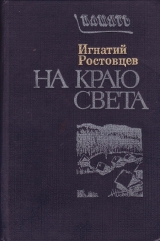
Текст книги "На краю света. Подписаренок"
Автор книги: Игнатий Ростовцев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 50 страниц)
Глава 20 ДЕРЕВЕНСКИЙ ТИЯТР
В воскресенье утром отец ни свет ни заря поехал в Кому. Он ссыпал в кадушку всю нашу ягоду и повез ее с собой. О том, что он поехал хлопотать насчет моего дела, я ничего не знал и решил, что он повез ягоду на продажу.
А вечером я, как всегда в праздники, торчал с ребятами на народе. Весна в деревне подходила к концу. Праздничные игры и хороводы на лужке сами собой прекратились. И хотя в воскресенье все были заняты неотложными делами, но все равно по весенней привычке выходили вечером на улицу побеседовать о том, что занимает и беспокоит каждого хозяина и хозяйку. Одни говорили о ягоде клубнике, за которой они только что, вроде нас, ездили в тайгу, другие о банных вениках, которые им пришлось заготовлять в этот день на зиму, третьи о погоде, о посевах, о болезнях и все такое.
А молодые парни не сдавались наступающему лету с каторжной работой во время сенокоса и страды. И хотя одеты были все уж по-будничному, но настроение было у всех все еще праздничное. То тут, то там слышались песни. Снизу из-за речки доносились развеселые звуки гармоники.
Около Сычевых, как всегда, собралось много народу. Все больше парни да так называемые женатики – молодые мужики, которые поженились недавно и не отвыкли еще ходить да гулять по деревне. И разговоры тут велись уж не о работе, не о погоде, не о болезнях, а больше о силенке, о борьбе, об охоте, о рыбалке и о других подобных вещах.
А Пантя Грязнов и Шимка Лупанов сбегали к Яше Браверману и притащили от него большую двухпудовую гирю. Вокруг этой гири сразу же началась оживленная возня. Одни стали пробовать ее на вес, другие поднимать, третьи кидать – кто бросит дальше. Но вскоре все стали смотреть на Ефима Ларивоновича и Гришку Щетникова. Сначала они стали выжимать по очереди эту гирю. И оба выжимали ее довольно-таки легко. Потом стали бросать ее, а внапоследок додумались перекидывать через ворота Яши Бравермана. И тут оказалось, что у дяди Ефима силенки все-таки больше, чем у Гришки Щетникова. Эту двухпудовую гирю он перебросил через ворота прямо в Яшину ограду. А Гришка Щетников несколько раз бросал ее, и она каждый раз задевала за верхнюю перекладину на воротах и падала обратно на нашу сторону.
Между тем становилось уже поздно. Но праздничная жизнь на улице продолжалась.
Вот к нашему кругу подходит большая толпа парней во главе с Аверькой-гармонистом. Никто и никогда до приезда Аверьки в Кульчек не играл у нас так завлекательно и так красиво на гармони. И теперь по праздникам Аверька с утра до ночи окружен целой толпой поклонников. Они или пляшут под его гармонь так, что земля дрожит, или поют песни. Или просто ходят за ним как очумелые, разинув рты, да слушают его игру.
Вот и сейчас Захар Поляков и Михайло Маслеков дружно поют под его гармошку старую сибирскую песню. Захар и Михайло считаются из наших ребят лучшими песельниками и всегда подпевают под гармонь частушки. Они поют их поодиночке, почему-то непременно изо всей мочи, стараясь перекрыть своим голосом гармониста и превзойти друг друга. А эту песню они поют вместе, хоть и громко, но как-то дружно и красиво, без надсадного крика. Большая, изрядно поношенная гармонь Аверьки в двенадцать ладов о четырех басах буквально выговаривает в его руках слова песни:
Нам приятель острый нож,
Сабля-лиходейка…
Пусть умрем мы ни за грош,
Жизнь наша копейка!..
А ребята, которые идут вместе с Аверькой, весело подхватывают припев:
Пусть умрем мы ни за грош,
Жизнь наша копейка!..
Я смотрю на все это, а сам думаю о том, что мне, пожалуй, пора уж идти домой. Мама, того и гляди, пошлет Чуню разыскивать меня по деревне.
Но Чуни пока нет, и я спокойно жду, что здесь будет происходить дальше. Вероятнее всего, начнут петь и плясать под Аверькину гармонь. Но Аверьке, видать, надоело весь день пилить на ней. Он прошел через толпу и сел на скамейку рядом с Сергеем Семеновичем. Потом сильно сжал свою гармонь, так что она аж загудела чуть не на все лады. Потом он застегнул ее на два ремешка и решительно поставил рядом с собой.
Тут в толпе произошла некоторая заминка, так как все поняли, что Аверька играть больше не будет. И вот все стоят, не поют, не пляшут, и как бы не знают, что им дальше делать без Аверьки. А уходить по домам никому не хочется. И все, вроде меня, ждут чего-то да посматривают на Аверьку. А Аверька без своей гармонии тоже не знал, что с собою делать. Он сидел, сидел на скамейке, а потом вдруг обратился к Сергею Семеновичу:
– А это что, правду про тебя бают, Ворошков, или так брехают, что будто бы ты в молодые годы урядника у себя зарезал и за это в Сибирь пошел?
Ворошков сидел молча и не отвечал на вопрос Аверьки.
– За что ты его ухлопал? – не унимался Аверька.
– За что я его ухлопал, это известно мне да тем судьям, которые меня сюда сослали, – с достоинством ответил Сергей Семенович. – И спрашивать об этом не принято. Нас здесь без малого тридцать душ на поселении-то. И у каждого своя статья, своя душевная рана. Негоже говорить об этом…
– Не сердись, Ворошков. Я ведь это так спросил. К примеру. Может, думаю, расскажешь нам что-нибудь антиресное. Ты ведь человек бывалый.
– На следующий раз думай, о чем говоришь.
– А правда ли, что ты умеешь разыгривать тиятр про шайку разбойников? Или это так, по-пустому болтают?
– Как это по-пустому? – послышался из толпы обиженный голос. – Сергей Семенович у нас каждый год на рождестве с ребятами по домам ходит да этот тиятр про разбойников разыгривает.
– Тоже скажешь. Уж два года не разыгривал.
– Потому что обидели человека. Зашел со своей шайкой к Лининым. А старик взял да и выгнал их из дома. Да еще обругал. Говорит, в такой праздник ходите чертей тешить. Ну, вот Сергей Семенович и перестал после того разыгривать свой тиятр.
Сергей Семенович был очень доволен тем, что Аверька сразу же переменил с ним тему разговора. Обождав немного, когда другие перестанут о нем рассказывать, он с достоинством ответил Аверьке, что в молодые годы ему дивствительно приходилось представлять тиятр про шайку разбойников.
– Что там молодые годы. Ты сейчас нам представь этот тиятр, – заявил Аверька.
Но Сергей Семенович почему-то стал отказываться, ссылаться на то, что у него нет уж прежнего голоса, что у него опять сильно стала болеть нога. Какой уж из него получится атаман, когда он хромает на правую ногу. Ну, и самое главное, – нет настоящего обворужения. Разве это тиятр – палкой вместо сабли махать. А потом, он один ведь все равно не может представлять и атамана, и есаула, и егеря и петь песни за всю шайку разбойников.
Тогда все стали уговаривать Сергея Семеновича не ломаться перед народом и разыграть как следует свой тиятр. Ребята помогут и споют, где надо. Престрашного егеря может разыграть Захар Поляков, на есаула пошлют за Ванюшкой Герасимовым. Оба они это дело знают. А насчет обворужения надо просить Дувку Бравермана. У него есть и сабля, и леворверт – не отличишь от настоящих.
Мне очень хотелось посмотреть и послушать, как Сергей Семенович будет представлять свой тиятр про шайку разбойников. Но я не понимал, почему он так долго заставляет себя упрашивать. Нынче зимой он зашел как-то к нам вечером посидеть да послушать разные побывальщины от отца, от дяди Ильи, от Степана Красного об охоте и о рыбалке.
Сам Сергей Семенович, конечно, не охотник и не рыбак. Но он любит послушать разные истории. Да и сам не прочь кое-что рассказать. Не об охоте, конечно, и не о рыбалке, а о науке, о чужих землях и о вечном двигателе, который он уж много лет придумывает.
В тот вечер у нас тоже попросили его показать свой тиятр. И Сергей Семенович охотно согласился на это. Он с видимым удовольствием вышел на середину избы и начал разыгрывать, как к одному богатому хозяину, вроде нашего Меркульева, нагрянула шайка разбойников под начальством грозного атамана, как они потребовали от этого хозяина вина и всякого угощения, пили и гуляли в его доме, как атаман потом посылал своего есаула за егерем, за красной девицей и как потом все разбойники сели в лодки и с песнями отправились дальше грабить купцов и богатых мужиков.
Атамана, есаула, егеря, красную девицу и всех разбойников Сергей Семенович представлял в лицах. Атамана он старался разыграть как можно страшнее и свирепее. Поэтому атаманские слова он произносил громко и грозно. При этом топал ногами, вращал глазами, махал саблей (вместо сабли он махал у нас сковородником), тряс бородой и лихо закручивал свои длинные седые усы.
– Ведь атаман он! – объяснял нам Сергей Семенович. – Ведь сколько народу пограбил, поубивал. Значит, имел такую силенку и такой голосище, что все его боялись.
Когда Сергей Семенович представлял красную девицу, он старался ходить мелкими шажками, говорить тоненьким нежным голоском. При этом закатывал глаза и делал умильную улыбку, что при его большой седой бороде и длинных усах вызывало общий хохот. Слова есаула Сергей Семенович произносил с насмешкой к атаману, чтобы все видели, что хотя он, есаул, и подчиняется атаману, но и сам парень не промах. Особенно всем нравилось, когда есаул становился перед атаманом во фронт и с явной насмешкой произносил: «Слушаю, господин атаман! Одна нога здесь, друга там! Сам к вечеру». На что атаман, не замечая есауловой насмешки, каждый раз отвечал: «То-то! Смотри, братец, поторапливайся!»
Все слова есаула, егеря, купца, красной девицы и разбойников Сергей Семенович произносил без запинки, но с показом атамана у него получалась почему-то осечка. Как только дело доходило до атамана, он начинал кричать, топать ногами, махать сковородником и сразу же забывал все, что ему надо было говорить дальше. Тогда он переставал представлять атамана и начинал вспоминать вслух его слова. Тут он сразу произносил их свободно и правильно. А потом опять напускал на себя атаманскую свирепость, начинал кричать, топать, махать сковородником и опять, под общий хохот, забывал слова.
Но Сергей Семенович нисколько не сердился на то, что все смеялись над тем, как он забывал говорить атаманские слова.
Он и сам смеялся над этим. Посмеется немного, а потом снова начинает разыгрывать свой тиятр дальше.
Сергей Семенович представлял шайку разбойников не только у нас, но и в других домах, и в деревне научились от него петь разбойничьи песни. А мы, ребятишки, часто повторяем в своих играх слова его атамана: «Вот мой меч! Полетит твоя голова с плеч!»
Пока я сидел на бревне да вспоминал все это, Сергей Семенович обсказывал Аверьке, как надо по-настоящему показывать тиятр про шайку разбойников. Он заметно оживился, когда стал говорить о том, как должны разыгрывать себя атаман, есаул, престрашный егерь и все остальные разбойники. Сергей Семенович знал не только все атаманские слова и весь разговор разбойников. Он знал даже, как все разбойники были одеты. Оказывается, разбойники ходили в красных рубахах, в кушаках и с саблями на боку. А атаман носил красную кашемировую рубаху, голубой кушак, широкие плисовые шаровары, бобровую шапку, хорошие городские сапоги, ходил при сабле и с леворвертом. А есаул ходил в красной рубахе, плисовых штанах, при сабле, но без леворверта.
Может быть, Сергей Семенович сам в молодые годы был разбойником. Может, он всему этому выучился на практике. Неспроста ведь он попал в Сибирь на каторгу, а потом к нам в Кульчек на поселенье. Вот тебе и Сергей Семенович! А еще говорят, что он мухи не обидит.
Тем временем Пантя Грязнов и Шимка Лупанов сбегали за Иваном Гарасимовым, а Дувка Браверман сходил домой и принес свою крашеную саблю и деревянный револьвер, который был так ловко сделан, что его аж не отличить от настоящего. Сергей Семенович взял саблю, махнул ею несколько раз для пробы и подцепил ее на свою опояску с левой стороны. Потом он повертел в руках Дувкин револьвер, полюбовался на него и заткнул его за свою опояску с правой стороны. Затем он попросил тех ребят, которые умеют петь разбойничьи песни и знают, как представлять разбойников, выходить в круг и садиться в легкие шлюпки. Тут сразу человек десять здоровенных ребят вместе с Михаилом Матвеевым и Захаром Поляковым вышли из толпы на середину круга и уселись на землю друг за другом, как будто они на самом деле сели в лодку на весла. А Сергей Семенович вместе с есаулом – Иваном Гарасимовым – зашли в лодку после всех. Они не стали садиться в лодке и остались в ней стоя. Потом Сергей Семенович махнул рукой, и ребята все зараз стали раскачиваться, как будто они и в самом деле сидят в лодке на веслах и плывут по реке. И тут Михайло Матвеев затянул, а остальные дружно подхватили песню, которую их научил петь Сергей Семенович:
Хороша наша деревня, только улица грязна.
Хороши наши ребята, только славушка худа.
Величают нас ворами да разбойниками…
Мы не плуты, мы не воры, не разбойники —
Мы хорошие ребята – рыболовщики…
Дальше они пели в песне о том, как эти рыболовщики ловят рыбу по сухим берегам, по амбарам, по клетям, по богатым мужикам, как у дяди у Петра они заловили осетра, да такого осетра, что с гнедого жеребца. А у тетушки Ненилы заловили три перины. И так далее в таком же роде.
Песня кончилась, когда они приплыли в какое-то распрекрасное место. Тут разбойники все встали на ноги, что означало, что они оказались уж на берегу. А Сергей Семенович вышел вперед, молодецки прошелся по кругу, как будто это он уж попал в дом к богатому хозяину, оправил свою большую бороду, лихо подкрутил усы и громогласно, без запинок, заговорил:
Что за прекрасная долина.
Все зеркала и картины!
Чем нам жить там,
Мы будем жить здесь!
Друзья, следуй за мной!
Тут он сделал знак своим разбойникам и громко запел:
Ты позволь-ко нам, хозяин,
В нову горенку войти…
А разбойники дружно, хором, рявкнули припев:
Ой ли, ой люли,
В нову горенку войти…
Толпа с интересом смотрела на этот ворошковский «тиятр», главным образом на самого Сергея Семеновича. Всегда молчаливый и какой-то пришибленный, он прямо преобразился, когда стал разыгрывать своего атамана. Он чертом расхаживал по кругу, немного припадая на свою хромую ногу. Левую руку он молодецки положил на эфес Дувкиной сабли, а правой лихо подкручивал свои длинные усы.
– Вот тебе и Ворошков! – слышалось из толпы. – Гляди, какой молодец! Настоящий атаман!
– Башковитый мужик. Ничего не скажешь.
– Увидишь, что дальше будет у него с этим есаулом. Прямо умора!
Ребята, разинув рты, смотрели на этот «тиятр», а я совсем забыл о том, что Чуня, того и гляди, явится сюда за мной.
Вдруг я почувствовал, что кто-то крепко схватил меня сзади за рубаху:
– Давай скорей домой. Тятенька из Комы приехал. Собирать надо тебя скорее в подписаренки.
– Куда собирать? В какие подписаренки? – спросил я Чуню, не понимая, о чем она ведет речь.
– В Кому тятенька повезет тебя завтра сдавать в подписаренки, – повторила Чуня. – Пойдем скорее, а то он рассердится. Да и мама не похвалит.
Тут я наконец сообразил, в чем дело, и мы бегом направились домой. Отца я нашел дома с Финогеном за столом. Они сидели за чаем и о чем-то оживленно разговаривали.
– Вот подъезжаю я к его дому, – рассказывал отец Финогену. – Стук-стук в ворота. Закрыто. Вот, думаю, какая оказия. Не уехал ли куда в гости по случаю праздника? Еще раз стучу. Слышу, кто-то идет, открывает калитку. Куфарка, видать, ихняя. «Чево тебе? – спрашивает. – Стучишь ни свет ни заря». – «Сам-то дома?» – спрашиваю. «Сам-то дома. Только он не любит, когда его в праздники по делам беспокоют». – «Какие, – говорю, – там дела… Из Кульчека – ягоду привез. Три ведра, – говорю, – самой отборной». – «Это, – говорит, – другое дело. А то, – говорит, – ходют тут разные, особенно витебские. Отбою нет». Говорит это, а сама впускает меня в ограду. «Жди, – говорит, – вон там, под крышей. Сейчас встанут». Сказала это самое и ушла. Вот жду я под крышей. Может, час, а может, и два. Вдруг слышу – скрипнула дверь, выходит сам на крылечко, вытирает губы платочком. «Кто там?» – спрашивает. «К вам, – говорю, – Иван Акентич. Из Кульчека. Ягоды привез вам, глубеницы – три ведра. Ягода, – говорю, – отборная, вчерась только набрали». – «Ягода, говоришь? Ну-ко покажи». Посмотрел, попробовал. Дивствительно, ягода и на вид, и на вкус хорошая. «В тайге, – спрашивает, – брали?» – «В Сингичжуле, – говорю ему, – брали. На самом хребте, в солнцепеке». Посмотрел он еще раз на ягоду, не говоря ни слова, вытаскивает партаманет, вынимает трехрублевку и подает. «Спасибо, – говорит, – мужичок… Вот тебе три рубля. Не обидно будет за три ведра-то?» – «Что вы, – говорю, – Иван Акентич. Я ведь не с этим. Не надо, – говорю, – мне ваших трех рублев». Ну, тут он сразу насторожился и спрашивает: «В чем дело?» – «Возьмите, – говорю, – лучше моего парня к себе в волость в подписаренки». Тут он подумал что-то и спрашивает: «Вы из Кульчека будете?» – «Из Кульчека», – говорю. «Это ваш мальчик помогает кульчекскому писарю?» – «Как же, – говорю, – все время пишет ему разные списки». – «Ну что же, – говорит, – пожалуй можно. Мне показывали его работу. Почерк еще не окрепший, но пишет разборчиво, даже красиво. Тогда давайте его, – говорит, – к нам. Если стараться будет, положу жалованье. Не сразу, конечно, а когда присмотрится к делу. Так что привозите его на неделе, а там видно будет». Сказал это, попробовал еще раз ягоду, вытер руки платочком, крикнул куфарку и ушел. А я высыпал ей ягоду в корыто и сам не свой еду домой. Даже к родне ни к кому не заглянул.
Финоген слушал отца и все время одобрительно кивал головой. А потом завел речь о том, что теперь все будет от меня зависеть. Человеком стать или обалдуем, вроде Пуданова Кондрашки. Ничего с парнем не могут сделать. Мужицкую лямку тянуть не желает, к делу ни к какому не привержен. Грамоте не пошел учиться. Ходит по деревне да выламывается.
Тут Финоген допил свою чашку, опрокинул ее на блюдечко, положил сверху обглоданный кусочек сахара. Потом не торопясь встал из-за стола, перекрестился на образа, сел к окну и не торопясь стал закуривать.
– Если будет там стараться все произойти, до всего достичь да перед народом нос не воротить, то до большого дела может дойти. Вон Бирюков-то с того же начал, а потом целой волостью заправлял. Значит, отправляетесь завтра?
– Да, ехать надо. Чего тянуть-то.
– Непременно надо ехать. С таким делом тянуть нельзя. Ну, в добрый путь. Дай вам бог удачи.
Глава 21 НА ЛЕГКУЮ ВАКАНСИЮ
Дом, в котором помещалось волостное правление, был расположен на большой площади в самой середине села, рядом с магазином купца Демидова. Это был обычный крестовый дом, под высокой шатровой крышей, с несколькими амбарами и поднавесами на дворе. Над окнами, со стороны улицы, виднелась вывеска с черным двуглавым орлом и надписью: «КОМСКОЕ ВОЛОСТНОЕ ПРАВЛЕНИЕ». Сзади во дворе к этому дому был прирублен большой придел, в котором находились, как я потом узнал, волостная тюрьма и помещение для волостных сторожей и «ходоков» (почтарей).
Мы оставили нашего Гнедка за воротами у коновязи и пошли во двор. Около пристройки, или, вернее сказать, волостной тюрьмы, на завалинке сидели и грелись на солнышке какие-то мужики. Не останавливаясь, мы прошли прямо в волость и оказались в прихожей. Здесь не было пока ни одной души, кроме волостного сторожа, в котором я сразу же признал дедушку Митрея, который живет в Коме около тетки Орины и приходится ей большой родней по дяде Егору, так что и с нами он состоял в каком-то непонятном для меня сватовстве. Дедушко Митрей производил в канцелярии уборку.
– Ты что же это, сват, опять в волости? – спросил его отец.
– А куды мне. К чежолой работе уж неспособный. Здоровья не стало. Пусть сыновья ее ворочают. По домашности есть кому управиться. Вот и нанялся сюды на легкую ваканцию. Без дела-то сидеть не хочется. А семье все-таки прибыток. А вы чего это в такую рань?
– Да вот привез парня к вам приоделять. В подписаренки. Здоровьишко у него никудышное. С самого малолетства получилось какое-то сердцебиение. Ну и внутренности, видать, тоже не в порядке. Вот и приходится теперь доводить его до дела. В крестьянстве-то от него пользы будет мало…
Мне было горько и обидно слушать сетования отца на мое плохое здоровье. Но дедушко Митрей не обратил на них никакого внимания и, видимо, сразу принял их на веру. Он одобрительно отнесся к решению отца отдать меня в волость и даже высказал уверенность в том, что из этого непременно должен получиться какой-то прок, если, конечно, я буду стараться как следует доходить тут до дела. Потому что в волости работа умственная и без старанья тут ничего не достигнешь.
И дальше дедушко Митрей стал рассказывать отцу про Бирюкова, который поначалу тоже работал здесь в подписаренках, а потом дошел до такой грамоты, что сделался волостным писарем и три года ворочал волостью, пока его не забрали в солдаты.
– Вот уж дивствительно был писарь… И дело знал, и с мужиком умел обойтись, будь он из Комы, из Кульчека али хоть из самой Витебки. С каждым поговорит, все расскажет, растолкует. За то и любили его мужики, как родного. Не то что нынешних писарей. Разве теперя писаря!
Пока дедушко Митрей разговаривал с отцом о Бирюкове и о нынешних писарях, я рассматривал волость, в которой мне, может быть, суждено будет работать.
Через открытую дверь из прихожей я видел большую комнату, заставленную канцелярскими столами. Одни стол был огромный, два других поменьше. На каждом стояли чернильницы и лежали стопками какие-то бумаги. Справа и слева у стены виднелись два шкафа, забитые какими-то делами. К этой канцелярии примыкала еще одна комната, дверь в которую была закрыта. Но, судя по всему, там тоже стояли столы и шкафы с бумагами. Кроме того, из прихожей вела еще одна дверь не то в горницу, не то в кладовку. Эта дверь была тоже плотно закрыта.
Со двора время от времени доносился чей-то разговор, а здесь, в канцелярии, стояла какая-то прохладная тишина. Тут я вспомнил, с какой злостью говорил Финоген о волостных начальниках.
– Приедешь туда, – говорил он, – и как-то даже боязно соваться к ним со своим делом. Потому что сидит человек за большим столом, обложенный со всех сторон толстыми книгами, и все что-то пишет. И одет по-чужому, и говорит не по-нашему, и чем-то все время недовольный. Не успеешь и рта раскрыть, а он тебе уж режет: «Не туда лезешь, не так говоришь!»
И вот я теперь смотрю на эти столы, заваленные бумагами, на эти шкафы, забитые канцелярскими книгами, и мне кажется, что они начинены скрытой неприязнью ко мне, к моему отцу, к Финогену, к каждому, кто приходит сюда по какому-нибудь делу. Вот с минуты на минуту явятся сюда писаря. Они сядут за эти столы, и сразу все образуется так, как говорил Финоген, что к ним и подступиться страшно. Как мне вести себя с этими людьми, одетыми по-городскому, умеющими писать разные строгие и умные бумаги об окладных листах, гоньбовых ведомостях и анатомических театрах? Сознание пропасти, лежащей между мною и этими чужими, далекими от нас людьми, делало меня ничтожным в собственных глазах.
Между тем дедушко Митрей подмел полы, отер со столов пыль и оставил нас с отцом одних в прихожей.
– Ну, вы сидите тут да ждите. Сперва помощники придут – Иван Фомич, Павел Михайлович, Иван Осипович. А потом и сам заявится. Вам ведь к самому?
– К нему, конечно, к Ивану Акентичу, – ответил отец.
– Ну, он-то на работу не торопится. Да и куда ему спешить. Жалованье огребает большое. Помощников у него много… Весь день пишут ему эти бумаги. Так что долгонько вам придется ждать его.
И дедушко Митрей пошел к себе в сторожку. А мы остались в прихожей одни. Отец, подобно мне, чувствовал себя здесь не совсем уверенно и, видимо, тоже волновался. Хотя Иван Иннокентьевич и сказал ему приводить меня в волость, но сказал он это еще в воскресенье, а сегодня уж вторник. Сегодня он может сказать совсем другое.
Вдруг в сенях раздались чьи-то торопливые шаги, и в прихожую вбежал молодой парень в темной сатинетовой рубахе, новом картузе и в новых базарных сапогах. Он быстро прошел прямо в большую канцелярию, бросил свой картуз на шкаф и стал расхаживать взад и вперед, что-то выделывая руками. Потом подошел к столу у окна, вытащил из него большую пачку бумаг, уселся за стол и стал записывать эти бумаги в толстую книгу.
Не успел я сообразить, кто бы это мог быть из помощников Ивана Иннокентьевича, о которых говорил дедушко Митрей, как в волость вошел новый человек. Он был очень похож на того заседателя, который был у нас с приставом в Кульчеке, но, присмотревшись поближе, я увидел, что это какой-то другой начальник. Он уверенно, не торопясь вошел в волость, как к себе домой, и сразу обратил на нас внимание:
– Откедова будете? Кого ждете?
– Да из Кульчека к Ивану Акентичу приехали. Вот парня привез к вам в волость приоделять…
– А, как же, знаю, знаю. Ну, ждите тогда. Вы лучше на крылечко идите. Там сподручнее ждать-то. Здесь ведь народ скоро набьется. Теснота, духотища.
Тут он прошел в большую комнату и поздоровался за руку с этим молодым парнем.
– Пишешь? – спросил он его.
– Давно уж пишу.
– Пишешь, пишешь, а толку мало. Вот придет Иван Акентич, спросит почту, а она у тебя опять не готова. Смотри, Петька! Достукаешься! Вытурит он тебя как миленького.
– Кто это? – спросил я шепотом отца.
– Волостной заседатель. Из комских. Хивоньи Ефремовой сын. Вверху живут. У самого крестика. Славный мужик…
– А волостной заседатель… он что? Тоже начальник?
– А как же. Волостным сходом выбирают.
– А он выше или ниже старшины?
– Да, видать, старшины-то пониже.
Не успели мы как следует разобраться с этим делом, как в волости появилось новое лицо. Это был полный, белобрысый, прыщеватый молодой человек в пиджаке, в брюках навыпуску, в возрасте Павла Константиновича. Только без бороды и без усов. Он шумно отдышался и прошел в большую комнату. Здесь он поздоровался с Петькой, сел за самый большой стол к окну, которое выходило в улицу, и положил перед собой пачку бумаг. Потом что-то порылся в этой пачке и обратился к Петьке:
– Тут вчера была бумага от крестьянского начальника насчет представления сведений о состоянии посевов. Дай-ко мне ее.
– Не записал еще, Иван Фомич.
– Как это не записал?!
Тут Иван Фомич встал, подошел к Петьке, взял у него бумаги и стал их перебирать.
– Слушай, Петька! У тебя мозги набекрень, что ли? Или вообще в голове у тебя труха? Ведь я тебе тысячу раз говорил – просматривай бумаги перед записью во входящий журнал. Которые посрочнее да поважнее – записывай в первую очередь, а остальные потом. А ты всю почту из Новоселовой затурил в бумаги от старост. Вот смотри – от исправника бумага, а ты засунул ее в самую середину, а вот из окружного суда – и тоже там, а вот от податного инспектора. Все важные бумаги. Ты же знаешь, что их надо сразу же отдавать Евтихиеву. А вот и от крестьянского начальника бумажка. Сейчас же впиши ее и дай мне. Да пошевеливайся. Скоро он придет и опять начнет тебя шпиговать.
Тут Иван Фомич хотел еще что-то сказать Петьке, но из соседней комнаты вышел заседатель Ефремов и позвал его к себе:
– Иди-ко сюды. Я тебе расскажу, что там вчера было.
Иван Фомич прошел за заседателем, и из той комнаты вскоре послышался его раскатистый смех.
А в канцелярию вошел какой-то новый писарь. Он тоже поздоровался с Петькой и сел за другой стол к другому окну, выходящему в улицу. Потом не торопясь свернул себе папироску, всунул ее в небольшой мундштук и закурил. Потом, поразобравшись немного в своих бумагах, обратился к Петьке:
– Ты отправил вчера с почтой повестки с вызовом в суд?
– Как же, как же, Павел Михайлович. Отправил.
– А какие это конверты лежат у тебя в разносной книге?
– А это… это, Павел Михайлович, ваши повестки лежат. Я их вчера не успел отправить.
– Как это не успел отправить? – всполошился Павел Михайлович. – Я уж судей вызвал на будущую неделю, а мы еще повестки не разослали. Ты соображаешь? Судьи приедут, а судить некого будет.
– В пятницу отправлю, Павел Михайлович, а в воскресенье им всем вручат. И все успеют приехать вовремя.
– Ну, смотри, Петька! Теперь сенокос. Время рабочее. Если суд сорвется – жалоб не оберешься. На всякий случай я все-таки скажу об этом Ивану Иннокентиевичу.
– Ой, не говорите, Павел Михайлович! Миленький, не говорите! – испугался Петька и стал слезно упрашивать Павла Михайловича ничего не говорить Ивану Иннокентиевичу.
Тем временем в волость пришел еще один писарь и занял свободное место за большим столом против Ивана Фомича. Это был Иван Осипович Арзамасов. Он жил рядом с дядей Егором, и мы все знали, что он каждый день ходит в волость на занятия.
Теперь все писаря были в сборе. Они сидели по своим местам и начали строчить свои бумаги.
А в нашу прихожую начал набиваться народ по всяким делам. Кто был посмелее, тот проходил прямо в канцелярию и обращался или к Ивану Фомичу, или к Павлу Михайловичу, или к Арзамасову. А те, кто постеснительнее, те обращались к Петьке. А он уж говорил им, к кому они должны идти со своим делом. А тут еще внапоследок заявились сисимский и коряковский старосты. Они приехали в волость сдавать подати. Ну, их с деньгами сразу увел в другую комнату волостной заседатель.
Наконец, примерно к полудню, пришел сам Иван Иннокентиевич. Был он очень толстый, в пиджаке, с золотой цепочкой на жилетке, в брюках навыпуску, в шляпе и с толстой тростью. У него была такая же козлиная бороденка, как у нашего Павла Константиновича. Жил он недалеко от волости, но почему-то, пока шел сюда, очень запыхался, дышал с хрипом и каким-то присвистом. Однако настроение у него бы то веселое.
Еще на дворе за него уж уцепились какие-то бойкие мужики. Окруженный ими, он прошел через прихожую, не обратив на нас с отцом внимания. Войдя в канцелярию, сказал своим помощникам: «Здравствуйте, господа!» – и, не задерживаясь, прошел в следующую комнату. Тут все было двинулись за ним, но их сразу же осадил заседатель:
– Обождите, мужики! Не до вас пока. Поначалу почту надо прочитать. Потом вон старосты деньги привезли. Их надо принять, оформить фитанции. Ну а после того он уж начнет с вами валандаться.
Тут заседатель плотно закрыл перед ними дверь и закричал:
– Петька! Давай почту! Чего тянешь!
Петька схватил со стола какие-то бумаги и бросился в ту комнату. Мужики обиженно зашумели и повалили обратно в прихожую. Здесь они снова расселись по скамейкам и начали ворчать. Дескать, вот какой пузан. Нет, чтобы мужика пораньше отпустить. Ведь знает же – рабочее время. Сенокос. Каждая минута дорога. А он спит до обеда. А придешь к нему – и не подступись. Гляди, как разъелся на наших хлебах-то. Как боров! Идет-то – хрюкает.








