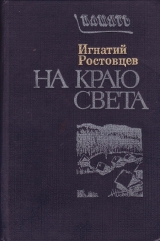
Текст книги "На краю света. Подписаренок"
Автор книги: Игнатий Ростовцев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 50 страниц)
Ну, тут сразу же начался шум и галдеж. Его подняли многосемейные. Они кричали, что такая раскладка неправильная, что ее надо делать не так, как нам указывает волостное начальство, а по-своему, не по бойцам, а по силе возможности, по домохозяйству.
Ну а которые побогаче кричали о том, что раскладка по бойцам – это и есть раскладка по силе возможности, что силен не тот, кто имеет на одну лошадь, на одну корову больше своего соседа, что силу надо считать не по лошадям и не по коровам, а по числу работников в семье. Вон у Саватеевых три здоровенных мужика, и уж все женатые.
И сам еще на ногах, в полубойцах ходит, да две девки уж на выданье. И вот все они выходят летом косить или, к примеру, жать – девять человек настоящих работников… «Вот она, сила возможности, о которой говорит закон, – распинался на сходе Федот Меркульев. – Разве сравнишь их со мной, когда я выйду на работу со своей хворой бабой. Что мы двое-то сделаем? Чирх-пырх, и выдохлись. Бьемся, бедные, от зари до зари, а подачи нет. Вот и приходится из последнего нанимать работника али работницу, везти на покос поденщиков, а в страду каждый год устраивать помочь…»
Что касается раскладки по пашне и по домашнему скоту, то от этой раскладки богатые не отказывались. Таким манером, говорили они, у нас из года в год раскладываются казенные налоги – государственная окладная подать и какой-то губернский земский сбор. Так делали и дальше, видать, придется так делать.
Несмотря на все эти доводы, многосемейные продолжали шуметь и требовать замены раскладки по бойцам раскладкой по имущественному положению.
А большинство на сходе были мужики с одним бойцом в своем хозяйстве. Они понимали, что раскладка по бойцам для многосемейных очень невыгодна. И даже поддерживали их первое время в споре с богатыми. Что касается раскладки по пашне и домашнему скоту, то никаких выгод они для себя от такой раскладки не видели. Все каждый год кричат об этом, и пока никто ничего не знает, что от такой раскладки получится и как к ней отнесется начальство. Раскладку по бойцам оно каждый год принимает и утверждает, а новую запросто может отменить. Так что как ни вертись, а, видать, придется принимать эту раскладку по бойцам. Сколько ни шуми и ни ругайся, а плетью обуха не перешибешь и делу этим не поможешь.
Финоген в этот спор на сходе не вмешивался. Сам он был на стороне многосемейных и тех мужиков, которые требовали раскладку по силе возможности, то есть по пашне и домашнему скоту у каждого хозяина. Он уж три раза бывал на волостном сходе, поначалу гласником, а потом старостой, и каждый раз там волостные сборы начисляли на все деревни в волости по бойцам, а не по имуществу. А из разговора с приехавшими на сход старостами знал, что волостной сбор раскладывается у них тоже по бойцам. Финоген понимал, что в этом деле есть какая-то неувязка, которая покрывает богатых и всю тяжесть податей перекладывает на бедных. Но ничего внятного сказать об этом не мог. Для этого нужна была грамота, знание той самой арифметики, на которую он любил ссылаться во время своих умственных разговоров, знание этого самого податного закона, на который все время ссылаются и который никто не читал и толком его не знает. Для этого надо, видать, знание той большой грамоты, которой щеголяют в Коме волостные писаря и которая, видать, недоступна нашим деревенским писарям. Уж на что Иван Адамович башковитый человек, но и он ничего вразумительного об этом сказать не может, кроме того, что как ни крутись, а раскладку по бойцам придется принимать. Другого выхода нет.
Тем временем споры насчет волостной подати решительно склонились в пользу сторонников раскладки по бойцам. Голоса многосемейных домохозяев были уж не слышны в дружном шуме и реве сторонников раскладки по бойцам, и Финоген должен был признать, что кульчекский сельский сход в полном своем составе ста двадцати домохозяев, имеющих право голоса на сходе, единогласно постановил принять окладной лист Комского волостного правления на волостной сбор в сумме шестисот двадцати четырех рублей тридцати девяти копеек к исполнению и распределить этот сбор по числу гласников на каждое домохозяйство.
А на другой день до самой полночи спорили и ругались уже насчет сельского сбора. Поначалу обсудили вопрос о прибавке жалованья Ивану Адамовичу. Против этого никто не возражал, кроме Ефима Рассказчикова. Он у нас единственный в деревне казак. Как казак он освобожден от всех государственных налогов и повинностей. Однако этого ему мало, и он отказывается от уплаты мирских податей, то есть волостного и сельского сборов, и от несения гоньбовой повинности. Ефим Рассказчиков очень любит ходить на сельский сход, лезет там всегда вперед, ближе к начальству, суется во все общественные дела и кричит больше всех. Как только зашла речь о прибавке Ивану Адамовичу, он сразу заорал, что ему и двадцати рублей хватит, что и так это огромные деньги и что в Коме общество без малого в три раза больше нашего, а своему писарю платят только тридцать рублей. Но никто Рассказчикова слушать не стал. Никому не хотелось отпускать Ивана Адамовича.
А насчет жалованья Финогену спорили весь вечер. Тут почти все оказались против Финогена. И верховые, и низовые, и богатые, и бедные. Бедные были против него из зависти. Шутка ли, платить ему от общества шестьдесят рублей. Это же целый капитал. На такие деньги можно работника год держать. А потом, старостам вообще никогда ведь не платили жалованья. С чего же платить Финогену?
А богатые не хотели платить Финогену за то, что он не давал им послабленья и все время прижимал их то с податями, то с поскотиной, то с другими повинностями.
Когда Финоген увидел, что все настроены против него, он вынул из кармана печать и свою должностную бляху, положил их на стол и заявил, что он служить больше не будет. Он готов сразу садиться в тюрьму на казенные харчи, чем оставаться дальше в старостах. Потому что эта служба для него сплошное разорение.
Тут все увидели, что Финоген дошел с этой службой до крайности и, пожалуй, в самом деле предпочтет сесть в тюрьму, чем тянуть эту лямку, и тогда, чего доброго, придется выбирать нового старосту. А новый, глядя на Финогена, тоже потребует себе жалованье. И неизвестно еще, каким он окажется старостой. Финоген – староста твердый, с характером. А чем лучше новый, когда он ни рыба ни мясо? Обществу от такого старосты облегченья нет. Наоборот, начальство начнет наезжать чаще, прижимать на всякие лады мужиков.
А потом, ведь на носу эта раскладка. Уйдет Финоген, а через день, через два заявится старшина или, того хуже, сам становой, и начнется кутерьма. «Вы что, – скажет, – раскладку податей решили сорвать! Не признаете власть! Идете против начальства!» Тут и Финоген полетит, и из общества кой-кому не поздоровится. Это уж как быть… Спорили, спорили, ругались до самой полночи и, наконец, согласились положить ему на следующий год пятьдесят рублей.
После того как с грехом пополам уладили вопрос с жалованьем Финогену, стали рядить Кузьму Тимина на содержание земской квартиры. Кузьма уж несколько лет держит у нас земскую квартиру, и общество платит ему за это по шестьдесят рублей в год. За эти деньги он должен принимать у себя, кормить и поить бесплатно приезжающее в деревню начальство. А если начальство приезжает с ночевой, то готовить для него в своей горнице мягкую постель.
Земская квартира у Кузьмы Тимина хорошая. Его Матрену считают в деревне большой мастерицей печь, варить и жарить разное угощение. И сам Тимин умеет обойтись как следует с начальством. А это для общества тоже не последнее дело. Попробуй не угодить старшине или приставу, когда он приезжает в деревню выколачивать подати. Это отзовется потом на всей деревне.
Поэтому сход без шума, без гама предложил Тимину прежнюю плату – шестьдесят рублей в год. Но неожиданно для всех Тимин заартачился. Он завел длинный разговор о том, как трудно и хлопотно ему содержать земскую квартиру, ублажать и обхаживать на разный манер начальство. Особенно напирал он на то, как убыточно ему поставлять водку волостному начальству. Старшина, заседатель, урядник не садятся за стол без бутылки. Особенно старшина и урядник. Они чаще других наезжают в деревню и каждый раз требуют себе выпивку. Вот и считай, какой расход только на водку… А сколько курей, гусей, поросят сожрут… В общем, содержать земскую квартиру на прежних условиях Кузьма Тимин категорически отказался. «Не дадите сто рублей, – заявил он, – ищите другого хозяина».
Тут сразу же вокруг этого дела возгорелся большой шум. Опять кричали, опять спорили и ругались. Попробовали подрядить других хозяев, но никто из богатых и справных мужиков не хотел ввязываться в это дело. Опять пришлось рядиться с Тиминым. Кое-как уломали его снова взять на себя земскую квартиру за восемьдесят рублей.
Наем земской квартиры сильно взбудоражил мужиков. Все возмущались тем, что общество заставляют бесплатно кормить и поить начальство. Ну, старшина, заседатель еще туда-сюда… Служат по выбору. И не дома, а в волости. А пристав, а мировой судья, крестьянский начальник, а урядник. Все они получают от казны большое жалованье, гнут мужика в три погибели и еще обжираются за его счет.
А многие завидовали Кузьме Тимину. Шутка сказать – восемьдесят рублей. И почти ни за что… Начальство, конечно, наезжает, но очень редко. Чаще всего старшина и урядник. Пристав бывает только весной – выколачивать подати. А мировой, доктор – и того реже. На всех на них от силы пойдет на год ведро водки. Зарежут за год свинью да два-три поросенка. И все. А пятьдесят рублей получается чистой прибыли.
Споры и ругань насчет жалованья Финогену и наема земской квартиры так замотали сход, что он без особых раздоров решил раскладку сельского сбора, по примеру прошлых лет, делать по бойцам.
На третий день сход собрался и без понуканий Никиты Папушина. Раньше всех на собрание явились на этот раз богатые и зажиточные. Они, как всегда, уселись плотной кучей в переднем углу поближе к Финогену и Ивану Адамовичу. Потом стали подходить остальные мужики и занимать свои привычные места. Последними явились маломощные и самые бедные и разместились подальше от начальства и поближе к выходу.
Теперь надо было решать вопрос о том, как делать раскладку казенной подати. По примеру прошлых лет хотели половину подати разложить на бойцов, а другую распределить на пашню, на покосы, на домашний скот. В этом случае на каждого бойца пришлось бы по четыре рубля сорок пять копеек, а на полубойца два рубля двадцать три копейки. Но тут подняли шум многосемейные, с которых и без того уж приходилось волостного налога по четыре рубля тридцать копеек и сельского сбора по четыре рубля пятьдесят четыре копейки с бойца. А с казенной податью по такому расчету придется уж по тринадцать рублей двадцать девять копеек, не считая налога на пашню, на покос и на домашнюю скотину. А если у кого полтора, два али три бойца, а таких в деревне немало, тем уж совсем разоренье.
Два вечера спорили об этом. Богатые и зажиточные настаивали раскладывать, как и раньше, половина на половину, а те, которые победнее и многосемейные, требовали прибавить на пашню и на скота и убавить на бойца. Наконец порешили положить на бойца только по три рубля, а всю остальную сумму распределить, на пашню, на покос и на домашнюю скотину из расчета: десятина пашни – один рубль сорок восемь копеек, покосный пай – рубль пятьдесят копеек, лошади и коровы по рублю сорок восемь копеек и овцы по тридцать копеек.
На этом раскладка кончилась, и на другой день Иван Адамович заставил меня подсчитывать и вписывать в податную ведомость каждому домохозяину волостные и сельские сборы, а сам принялся рассчитывать на всех казенную подать.
Финоген был очень доволен, что он свалил со своих плеч эту проклятую раскладку, и поинтересовался, сколько мы насчитали на него в этом году податей. Оказалось, что в нынешнем году податей приходится с него на полтора рубля больше, чем в прошлом году.
– А сколько насчитали на Меркульевых, на Кузьму Тимина, на Точилковых? – спросил он.
И тут оказалось, что на богачей мы насчитали тоже больше, чем в прошлом году. Но только самую малость – рубля на три, на четыре. Узнав об этом, Финоген даже плюнул с досады, так как увидел, что богатые и нынче остались в большой выгоде.
Финогену очень хотелось поговорить об этом с Иваном Адамовичем, но он видел, что тот совсем запурхался со своими списками и ему не до разговоров. Поохав и повздыхав, Финоген отправился на сборню, где надеялся найти собеседников.
Пока я подсчитывал и вписывал в податную ведомость волостную и сельскую подати и снимал копию общественного приговора о раскладке, пока мы проверяли раскладку казенных податей, Иван Адамович все время меня расхваливал и говорил о том, как плохо бы ему пришлось без моей помощи. А когда мы закончили с ним все эти дела, он сказал, что дальше обойдется без меня. Но за то, что я так хорошо помогал ему, он меня как следует отблагодарит. Тут он пошел к Сычевым в казенку и принес оттуда новые сапоги. Сапоги были сшиты кем-то из наших сапожников, но почему-то ему были немного маловаты. А мне они оказались немного великоваты, но в общем-то почти впору.
Иван Адамович очень обрадовался, что сапоги подошли мне, а то, говорит, не знал, что с ними делать. Хороший материал, хорошая работа, а на ноги не лезут. А теперь он рад, что немного со мною рассчитался.
После отсылки в волость общественного приговора о раскладке казенных податей и мирских сборов разговоры о несправедливой раскладке как-то притихли. Видимо, все решили, что как платили бедные за богатых, так и дальше платить будут и никакой справедливости с этим делом не добьешься.
Глава 19 ДОХА СИВОПЛЕСА
Недели через две, когда мужики немного очухались от схода, Финоген приступил к сбору податей. Он знал, конечно, у кого в деревне водятся кой-какие деньжонки, вызывал таких мужиков на сборню и без ссоры, без ругани просил их рассчитаться в первую очередь с сельским налогом на жалованье Ивану Адамовичу, на страховку школы, на земскую квартиру и все такое, а потом, по силе возможности, с волостными и казенными податями.
Мужики и сами хорошо понимали, что от начальства никуда не спрячешься и оно не мытьем, так катаньем выжмет с них эти подати, и старались по возможности рассчитаться с Финогеном. Таким манером ему удалось собрать почти весь сельский сбор и изрядную часть волостной и казенной подати.
Тем временем по волости начал ездить волостной старшина и самолично нажимать на мужиков с податями. Сначала он ездил по деревням, в которых недоимка была особенно велика, а потом заявился и к нам в Кульчек.
Подобно нашему Финогену, старшина был тоже неграмотен. Тем не менее он уж научился подтягивать старост и кричать на мужиков. От Финогена он потребовал немедленно собирать всех недоимщиков.
Через полчаса Никита Папушин уж гнал мужиков на сборню. Он подъезжал на своей кобыленке к каждому дому, стучал в окно и громко кричал: «Хозяин дома?! На сборню давай! Старшина приехал. Подати неси!»
Вечером на сборне собрался почти полный сход. Но с деньгами пришли немногие. Расчеты с ними заняли у Ивана Адамовича считанное время. После этого старшина стал поименно вызывать недоимщиков и требовать от них деньги.
Мужики не первый раз имели такие встречи с волостным начальством, но по-разному относились к его требованию немедленно погасить недоимку. Одни сдержанно говорили о том, что они не отказываются от уплаты податей, но что заплатить им пока нечем. Заработков в наших местах никаких нет, занять не у кого, скотину продать зимой некому и все такое. Другие кричали о своей бедности, о неправильном обложении и тоже ссылались на отсутствие заработков.
С недоимщиками старшина обращался грубо. Он совсем не слушал их оправданий и всем твердил одно и то же – гони подать или садись в каталажку. Таким манером он за один вечер перебрал всю деревню. Нескольких человек, которые особенно с ним скандалили, он действительно посадил под арест. Даже Никиша Сивоплес, на удивленье всем, попал в тот вечер в кутузку. Со старшиной он, конечно, не ругался. Наоборот, с перепуга утратил всякую способность говорить. А старшина вообразил – злостный неплательщик, одет в хорошую собачью доху и даже разговаривать с ним не хочет – и велел Максиму Щетникову посадить его безо всяких в темную.
По случаю приезда старшины Финоген велел Никите Папушину вымести как следует нашу каталажку и на всякий случай поставить в нее две скамейки, чтобы арестованные могли удобнее отбывать в ней свой срок и не мучиться, стоя, а то и сидя на холодном полу.
Во время пребывания старшины на сборне дверь в каталажку была открыта, и арестуемые им мужики спокойно заходили туда и устраивались на папушинских скамейках. А как только старшина кончил свои дела и ушел на земскую, все они вышли из каталажки и расположились, кому как удобнее, по всей сборне. Финогену Щетникову и Папушину и в голову не приходило загонять их обратно в каталажку или тем более сажать их туда под замок. Они только договорились с ними, раз уж такое дело, не подводить их перед начальством и не расходиться со сборни до утра.
Так все арестованные и остались там на ночь, матюгая на чем свет стоит старшину и все высшее начальство. А утром старшина распустил их по домам и велел Финогену нарядить надежных понятых, с которыми он сам будет делать обход неплательщиков. Финоген сразу же нарядил ему на это дело Ефима Рассказчикова, Проню Турпанова и Ефимушка Крысина. И старшина отправился с ними, в сопровождении сотского Щетникова и десятского Папушина, выжимать у мужиков деньги. В каждом доме их встречали руганью и слезами. Плакали, ругались и все-таки что-то платили. А у некоторых хозяев, в том числе и у Никиши Сивоплеса, он отобрал самовары и велел отнести их на сборню. Самовар у Сивоплеса оказался старый, какой-то кривобокий, почерневший, с заплатками. Тем не менее его вместе с другими самоварами выставили на сборне на всеобщее обозрение и навесили на все бирки с обозначением имен хозяев.
Перед отъездом старшина потребовал к себе на земскую квартиру Финогена и Ивана Адамовича и вручил им предписание Комского волостного правления о том, что «господин крестьянский начальник 1-го участка Минусинского уезда отменил приговор кульчекского сельского схода в части назначения старосте Финогену Головаченкову особого от общества жалованья, так как это нарушает принятый порядок отбывания общественной службы по выборам в органах крестьянского самоуправления. Об этом решении господина крестьянского начальника волостное правление обязывает кульчекского старосту поставить в известность сельское общество и об исполнении донести».
Это распоряжение оказалось полной неожиданностью для Финогена. Он ждал со стороны Кузьмы Тимина, Федота Меркульева и других своих супротивников разные подвохи с этим делом, но никак не думал, что оно дойдет до самого крестьянского и у него отберут пятьдесят рублей, которые ему с таким трудом удалось вырвать у общества. Он был так растерян, что не соображал, что надо отвечать старшине на это.
Иван Адамович тоже не знал, что ему следует говорить. А старшина был этим очень доволен и начал вовсю отчитывать Финогена:
– Сход, сказывают, не хотел давать тебе эти деньги, так ты угрозами их добивался… Запугивал всех, что самовольно бросишь свою службу… Еще сказывают, что ты при всем сходе сорвал с груди служебную бляху и бросил на стол казенную печать! Вон до чего дошло! При всем народе швырять казенную печать!
Мужики и так бузят у нас с податями. Кое-как, с грехом пополам выколачиваем у них недоимки. А у вас в Кульчеке объявилась новая раскладка на жалованье старосте. А что мы будем делать, если, к примеру, безкишенский, чернокомский и другие старосты, глядя на вас, начнут требовать себе жалованье и тоже, понимаешь, начнут бузить и отказываться от своей службы? Ты думал о том, что тут может произойтить?.. Может произойтить большой беспорядок – неповиновение начальству. Вон оно, дело-то, куда клонит. К беспорядку! Ты понимаешь, чем это пахнет? Если хоть немного понимаешь, то сиди и не рыпайся, пока тебя не взяли за жабры, и благодари бога, что у нас такой хороший крестьянский начальник. Другой на его месте сразу заарканил бы тебя куда следует. А он только махнул рукой и приказал сделать тебе хорошую протирку. Пускай, говорит, дотягивает свой строк. А если начнет бузить, то, говорит, мы найдем на него управу…
После Финогена старшина начал отчитывать Ивана Адамовича, что он что-то с этим делом недодумал, что-то недосмотрел и допустил на сходе такие споры и раздоры, что дело дошло до самого крестьянского начальника.
Но Иван Адамович к этому времени уж пришел в себя. Он несколько раз перечитал бумагу, присланную из волости, разобрался в ней как следует и заявил старшине, что ничего противозаконного у нас на том сходе не было. Споры, ругань, крики, конечно, были. А разве без этого обойдешься? У нас все дела решаются со спорами и руганью. По этому делу шума и ругани было не больше, чем по другим делам. Что касается назначения нашему старосте жалованья, то нарушение тут, конечно, есть. Все старосты и у нас в волости, и, видать, по другим волостям отбывают свою службу бесплатно. И назначать жалованье нашему старосте, может быть, не следовало. Тут господин крестьянский начальник, конечно, прав. Он лучше нас знает закон и порядок и приставлен на то, чтобы наблюдать за нами. Но никакого беспорядка и нарушения у нас не произошло. Мы не хуже других деревень взыскиваем и сдаем в волость государственную оброчную подать, губернский земский сбор и волостной налог.
С Финогеном старшина говорил долго и грубо, а с Иваном Адамовичем он спорить ни о чем не стал, сообразив, что это ему не по плечу и что Иван Адамович за словом в карман не полезет и на все может дать правильный ответ.
На этом вся история с назначением жалованья Финогену и кончилась. Поругав его еще за мягкость в обращении с недоимщиками, старшина наказал в первый же воскресный день собрать полный сход и объявить на нем это распоряжение крестьянскою начальника, а потом нажимать на сбор недоимки и не ждать приезда в деревню самого пристава.
Финоген и без старшины знал, что пристав, так или иначе, будет в Кульчеке. Каждый год, обычно к концу зимы, он объезжал свой стан. Считалось, что старосты и волостные начальники выжмут к этому времени из мужиков все, что можно, и недоимка останется только за самыми злостными неплательщиками. Вот с ними и выезжал воевать господин пристав.
Приезд пристава не особенно пугал Финогена. После отъезда старшины он всю зиму не давал своим мужикам покоя с податями и даже с Кузьмы Тимина выжал всю недоимку. В общем, дела с податями обстояли у него не хуже, чем в других деревнях, однако недоимщики в деревне все-таки были, конечно, из самых бедных домохозяев.
Приехал пристав вскоре после масленицы. Это был тот же пристав, который приезжал к нам прошлым летом ловить государственных преступников. На этот раз он явился в Кульчек вместе со старшиной, в сопровождении новоселовского и комского урядников. И сразу же потребовал к себе на земскую Финогена.
По случаю приезда столь важного начальства Финоген повесил на грудь медную бляху и заставил Максима Щетникова и Никиту Папушина тоже нацепить свои служебные медали. А потом все вместе с Иваном Адамовичем отправились на земскую.
Вот пришли мы к Тиминым, рассказывал потом он об этом, Максим и Никита остались на крыльце, а мы с Иваном Адамовичем заходим в дом. В избе пристава нет, а старшина с урядниками сидят за самоваром, и Матрена Тимина подает им на стол разное угощение. Не успели мы и слова вымолвить, как на нас набросился новоселовский урядник Михеев: «Что вы, – говорит, – сразу приперлись… Не понимаете, что людям с дороги передохнуть надо? Даже мы, – говорит, – с этими вашими податями все кишки себе вымотали, а каково ему, – и показывает на горницу, где, видать, находится сам пристав. – А каково, – говорит, – ему? И возраст не тот, и чин не чета нашему».
Сказал это и пошел с докладом насчет нашего прихода. Через минуту выходит оттудова и говорит: «Не управился еще с дороги. Ждите, позовет». Потом уселся за стол, налил себе стакан чая и спрашивает комского урядника Чернова:
– Значит, ты лесным объездчиком здесь служил? Чем же кончилась тут твоя служба?
– Ничем, – ответил Чернов. – Пришлось убраться, чтобы не кокнули. Вот и подался в полицию…
– А как теперь они тебя принимают?
– С виду признают, как-никак полицейская власть. А на самом деле ждут подходящий случай, чтобы пришить. Здесь ведь почти половина деревни ссыльнопоселенцы, бывшие каторжане. К начальству они не благоволят.
– Ну, это известно.
– Я стараюсь лишний раз сюда не соваться. Разве уж особый случай, вроде нынешнего. Ну, тогда, конечно, хочешь не хочешь, а приходится.
– Правильно делаешь, – сказал Михеев. – Чего самому на рожон лезть… А как ты себя здесь чувствуешь? – обратился он к старшине. – Не думаешь, что тебе устроят здесь темную?
– Да вроде не дошло еще до этого, – ответил старшина.
– Не дошло. Но похоже, что к этому клонится, – сказал новоселовский урядник. – Того и гляди, опять начнется такая же кутерьма, как после японской.
– А что тогда было? – спросил старшина.
– А ты что? Ничего не знаешь?
– Помню, что наше обчество здорово корежили тогда с податями. У меня тятенька тогда еще живой был. Он за все ответ держал. Я не вникал ни во что.
– А я тогда уж на службе здесь состоял. Так что сам видел все это.
И новоселовский урядник стал рассказывать о том, что делалось тогда в наших местах. Во время японской войны здесь, по его словам, держался порядок. Мужики хоть и кряхтели, но закон соблюдали, повинности выполняли, подати платили. А когда в Красноярскове началась заваруха и по другим городам тоже пошли бунты и беспорядки, тут и у нас тоже все пошатнулось. По деревням поползли слухи о скорой перемене власти, о каких-то льготах и все такое.
А потом вышел манифест о свободе всяких собрании, о созыве Думы. Мужики до этого не особенно бузовали. А как вышел этот манифест, их словно подменили. Ни одного схода ни в одной деревне не проходило без того, чтобы на нем не паскудили на разные лады государственную власть, особенно наше полицейское начальство. А потом дело пошло еще дальше. Деревни, одна за одной, начали отказываться от платежа податей. И нам, и волостному начальству нельзя стало и заикаться об этом перед мужиками. Того и гляди, самосуд устроят. Вот смотрела, смотрела на это наша высшая власть, а потом взяла да и объявила весь уезд на военном положении. Свободу собраний, конечно, отменили и начали наводить порядок. Волостную и сельскую администрацию сменили. Произвели аресты. По деревням взяли кой-кого… Особенно голосистых. А потом уж принялись за подати. С каждым мужиком пришлось иметь дело по отдельности. Уговаривать его да урезонивать. А если это не помогало, сажать в тюрьму.
– Примерно то же самое, что и сейчас, – закончил свой рассказ новоселовский урядник. – Теперь мы ведь тоже и уговариваем, и урезониваем, и даже в каталажку их сажаем. Только без солдат пока обходимся. А может, и солдат придется вызывать, если дальше так пойдет…
– К тому дело и клонится, – согласился с Михеевым Чернов.
Дальше разговор перешел у них опять на нынешние времена, и они начали припоминать, в каких деревнях их особенно плохо принимали. Но тут из горницы вышел наконец сам пристав. Урядники замолчали и вскочили на ноги. Финоген с Иваном Адамовичем тоже поднялись со своей скамейки у порога и стали ждать, какой им будет приказ.
А он сразу же потребовал себе список недоимщиков, уселся за стол и начал его читать. Читал, читал, а потом набросился на Финогена. И такой-то он, и разэтакий, и мужиков в деревне распустил, и недоимку накопил, и государственную власть подрывает, и начальство не уважает…
– Вот ругал он меня, ругал, – рассказывал Финоген, – и самому ему это, видать, уж надоело. А потом и говорит: «так что берись, староста, за дело, а то худо тебе будет. Чтобы завтра же, – говорит, – все эти недоимщики с утра были на сборне и полностью рассчитались. Кто не принесет деньги, тех сразу же будем описывать, а вечером устроим на их имущество торги. Так что сей же час назначай на это дело понятых. А на ночь, – говорит, – наряди сюда людей на охрану земской квартиры. Чтобы тут с вечера до утра один человек дежурил с улицы, а другой в ограде, прямо у самого крыльца. Вооружать их, – говорит, – не надо. Но чтобы оба непременно были с трещотками и теми трещотками перекликались друг с другом и всем прохожим и проезжим подавали таким манером знак, что они охраняют здесь начальство».
После встречи с приставом Финоген нарядил охрану земской квартиры и понятых на завтрашний день для описи и продажи с торгов имущества недоимщиков. Никто не хотел идти на это грязное дело, и Финогену с трудом удалось уговорить Федота Саетова, Кузьму Плешкова и Ефима Рассказчикова.
Вечером Финоген собрал всех недоимщиков, и старшина объявил им о том, чтобы они завтра с утра являлись на сборню прямо к самому приставу рассчитываться со своей недоимкой. А у тех, кто не заплатит, будет произведена опись имущества и все, что найдут у них поценнее, будут продавать вечером с торгов. Обсказал все это, еще раз пригрозил всем и ушел на земскую. А мужики стали думать да гадать, что им теперь делать и как оправдываться завтра перед начальством. И тут сразу зашел разговор о том, будет ли пристав описывать у недоимщиков последнюю лошаденку и последнюю коровенку. Одни стали говорить о том, что у пристава не хватит совести пускать людей по миру из-за этой недоимки, так как у некоторых недоимщиков, кроме коровенки и лошаденки, действительно ничего нет за душой. А другие начали доказывать, что у начальства нет и не может быть никакой совести и что казна платит начальникам жалованье не за то, чтобы они разбирали мужицкие дела по совести, а чтобы сильнее гнули народ, выжимали из него последние соки.
Тут в разговор вмешался Иван Адамович. Он подтвердил, что начальству полагается решать податные дела не по совести, а исходя из интересов казны. А отбирать и продавать последнюю лошаденку и коровенку у недоимщика казне невыгодно. В этом случае недоимщик уже не будет содержать хозяйство, а значит, и подлежать обложению податями. Казне выгоднее оставить недоимщику лошаденку и коровенку и из года в год продолжать доить его хоть понемножку с податями. Пристав может приказать описать у мужика последнюю лошадь. Но продавать ее начальству, видать, запрещено, так как казна лишается в этом случае налогоплательщика.








