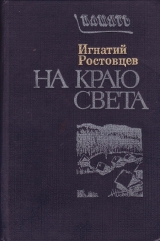
Текст книги "На краю света. Подписаренок"
Автор книги: Игнатий Ростовцев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 36 (всего у книги 50 страниц)
– И текет, и текет, и текет!.. И откудова столько воды берется! И куды она текет?
– Стихея, милок, стихея! – ответил ему Липат. – С Белогорья берется. А текет на сивер, в Туруханско.
Как только мы установили свою пару на пароме, перевозчик влез на свой помост и стал к рулевому веслу, а его парнишка ловко выпрыгнул на подмостки и снял там канат, которым паром был причален к этим подмосткам. А жена перевозчика с парнем и Липатом начали крутить колесо. Паром медленно пополз против течения. Тут мы с Тихоном тоже подошли к ним на помощь. И потом крутили посменно, очень долго. Сначала поднимались около берега вверх против течения почти на версту. Во время коротких передышек, когда Липат и Тихон сменялись у колеса, они или ругали комское общество за то, что оно до сего времени не поставило на своем перевозе хороший паром, или сокрушались тем, что вода в Енисее совсем спала и что, видать, и вверху на Белогорье дождей тоже нет и с урожаем под Минусой в этом году тоже будет туго.
Но все-таки мы кое-как переправились на ту сторону, хотя нам и здорово пришлось попотеть. А дальше мы уж спокойно поехали прямо в Новоселову, и теперь Липат ругал уж не комских, а новоселовских мужиков за то, что они не могут сделать хорошую дорогу у Красного камня. Того и гляди, ухнешь там прямо в Енисей. А Тихон смотрел на новоселовские пашни и убеждался в том, что здесь за рекой виды на урожай еще хуже, чем у нас. В Коме хоть и погорело, но все-таки на семена, может, что-нибудь соберем. Потому что места наши все же подтаежные. Не так сушит, как здесь за рекой.
В общем, ехать с Липатом и Тихоном было не скучно. И места на той стороне Енисея были очень интересные. Смотри да любуйся. Голые конусообразные сопки стоят по берегу друг над другом несколькими рядами. Будто их кто-то расставил поинтересней. А перед самой Новоселовой виднелась гора с какими-то уступами. Издали она напоминала чем-то гигантскую лестницу. Липат говорит, что новоселовские так и зовут эту гору «Три лесенки».
Пока я думал об этом, мы незаметно доехали до новоселовской пристани, где останавливаются пароходы из Красноярска и из Минусинска. Здесь я предполагал увидеть что-нибудь интересное. Все-таки здесь принимают и высаживают пассажиров, выгружают разный товар. Но на пристани, кроме маленькой избенки, оказывается, ничего нет. А в той избенке, кажется, никто не живет. Даже на нашем комском перевозе две избы, несколько амбаров, паром, лодки и все время копошится какой-то народ. А тут пристань – и никого нет.
Подъезжая к Новоселовой, я увидел прежде всего телеграфные столбы, убегающие куда-то в горы в сторону от Енисея. Тут мне вспомнились многократные споры и разговоры наших мужиков в Кульчеке о том, почему проволока на телеграфных столбах все время гудит. Одни утверждали, что проволока гудит от ветра. Другие уверяли, что она гудит потому, что по ней все время идут взад и вперед телеграммы. Мне очень хотелось побежать к телеграфному столбу, приложиться к нему ухом и послушать, как на нем гудит проволока. Но столбы были далеко от дороги. Но если бы они были и близко, я все равно постеснялся бы просить Липата и Тихона ждать меня, пока я буду бегать да слушать это телеграфное гудение.
В Новоселовой я думал узреть что-нибудь такое, чего нет ни в Кульчеке, ни в Коме. С малых лет я много слышал о новоселовских купцах, о новоселовском начальстве, о новоселовской ярмарке, о новоселовских мужиках, которые не сеют там и не жнут, а ухитряются жить лучше нас. А поначалу здесь показалось мне нисколько не лучше, чем в нашей Коме, и гораздо хуже, чем в нашем Кульчеке. Все село вытянулось в одну улицу и состояло из маленьких хибарок. Только в середине села появились большие дома.
Но в Кульчеке у нас их было гораздо больше, чем здесь, Потом мы проехали мимо нескольких домов с красивыми резными наличниками на окнах и тяжелыми воротами. Липат объяснил мне, что это дома новоселовских купцов – Терскова, Мезенина, Бобина, Неуймина.
С Липатом я доехал до почты, которая находилась в самом центре села. Здесь я оставил его и пошел искать своих родственников. По пути я увидел на площади несколько магазинов. Магазины были в Новоселовой действительно огромные. Ничего не скажешь. Не чета комским лавкам Демидова и Паршукова, а тем более нашим кульчекским лавочкам Яши Бравермана и Арона Кравца. Около этих магазинов у коновязей стояло много лошадей, запряженных в телеги и тарантасы. Несмотря на будничный день и рабочее время, здесь, видать, неплохо торговали.
Потом я посмотрел у них церковь. Она оказалась значительно меньше нашей комской и в искусственном отношении построена как-то по-другому – с высокими колоннами, с карнизами и фигурами над дверями и окнами. Зато волостное правление было не чета нашему. Оно помещалось в двух больших крестовых домах под железными крышами, окрашенными синей краской. Эти дома соединялись между собою высокой крытой галереей с красивыми перилами прямо в улицу.
Недалеко от волости была больница. Под больницу было занято целых три дома. Их поставили рядом под одну крышу. Получился длинный-длинный дом. Сюда возят лечить со всей Новоселовской и из нашей Комской волости всех покалеченных и изувеченных в драках и на работе.
А школа в Новоселовой каменная, с огромными окнами, с красивым крылечком. И тоже под железной крышей.
Еще в Кульчеке я постоянно слышал о том, что в Новоселовой живет много всякого начальства. Позже, когда я учился в Коме, к нам на школьный спектакль приехало из Новоселовой не меньше двадцати подвод, и все парами да тройками. Приехали к нам тогда новоселовские купцы да начальники с разряженными женами и детками. Таких ласковых женщин и красивых девочек мне до этого никогда не приходилось видеть. Но сегодня я не встретил ни начальников, ни их жен, ни их деток. Да оно и понятно. На улице жарища, пылища. Чего им выходить в самый полдень. Сидят себе дома да попивают чаек. А может быть, куда-нибудь разъехались. Денег много, пристань рядом. В неделю, говорят, бывает два-три парохода. Садись и поезжай. Хоть в Красноярск, хоть в Минусинск.
Тараса Васильевича дома я не застал. Он был со всей семьей на покосе. Дома была только его теща – бабушка Парасковья – полная, не особенно приветливая женщина. Узнав, чей я, зачем приехал в Новоселову, она даже обрадовалась и сказала: «Живи, хоть неделю, хоть две. Мне веселее будет. Только вечером приходи пораньше».
Теперь мне ничего не оставалось делать, как идти к крестьянскому начальнику. И вот я явился в его канцелярию. Она помещалась напротив церкви во дворе у одного богатого мужика, в небольшом новеньком флигеле, который состоял всего из одной комнаты. В этой комнате было два канцелярских стола грубой работы. Третий столик стоял в глубине у стены, рядом со шкапом, и был завален разными бумагами. Крестьянского начальника в канцелярии не было, и я застал там только его письмоводителя. Это был молодой человек в очках, одетый в суконную куртку с синими петлицами и светлыми пуговицами. В волости у нас говорили, что у крестьянского начальника письмоводительствует какой-то студент, и я сразу догадался, что это он и есть и что одет он в свою студенческую форму. По правде сказать, я в то время не знал еще, где и чему учатся студенты. Знал только, что они по учебному рангу выше минусинских семинаристов, которые учатся на учителей и одеваются тоже по форме.
Поэтому письмоводитель крестьянского начальника заслонял для меня в этом молодом человеке студента. Я видел его в студенческой, форме, но что скрывалось за этой студенческой формой, для меня было не ясно. А как письмоводителя я знал его отлично. Он пишет нам от имени крестьянского начальника мелким-мелким почерком ехидные бумаги одна строже другой. Я отлично помнил содержание многих этих бумаг, некоторые обороты в них и давно уже обратил внимание на то, что письмоводитель шлет нам строгие приказы даже в отсутствие своего крестьянского начальника. В этих случаях он привычные выражения в распоряжениях крестьянского начальника «предписываю», «приказываю», «ставлю Вам на вид» ловко заменял оборотами: «Канцелярия крестьянского начальника предписывает Вам…», «приказывает Вам», «ставит Вам на вид». И сам подписывал эти бумажки. И они производили у нас такое же магическое действие, как будто бы за подписью самого крестьянского начальника.
Студент встретил меня очень приветливо, спросил, как я устроился с квартирой, и, узнав, что я буду жить здесь у родственников, сразу перешел к делу. Он освободил для меня маленький столик, заваленный бумагами, вручил мне наши комские продовольственные списки и попросил сделать по ним общий сводный список по другой форме. Тут же он вручил мне письмо от продовольственного комитета, в котором давалась эта самая форма. Убедившись, что я правильно понял его поручение, он снабдил меня бумагой и линейкой, а сам углубился в свою работу.
Материал, над которым предстояло работать, был мне знаком. Я помогал Ивану Фомичу составлять эти продовольственные списки. И мы сделали их, как это требовалось, по каждой деревне отдельно. Теперь надо было написать сводный список по всей волости, но совершенно по-другому. Работа была нетрудная, но очень кропотливая. Сначала мне нужно было награфить ведомость со многими делениями и заполнить эти деления определенными надписями. За этим делом я мог свободно наблюдать за письмоводителем крестьянского начальника.
А он сидел и писал свои бумажки и при этом что-то напевал и насвистывал. Меня даже удивило это. Мы там в Коме читаем его строгие распоряжения: «Категорически требую!», «Последний раз предупреждаю!», «Под личную ответственность!», «Под страхом административного взыскания!». Получив такие бумажки, волостное правление гоняет по деревням нарочных, старшина и заседатель сломя шею мечутся из деревни в деревню и гнут в дугу старост и писарей. Даже Иван Иннокентиевич, который относится к волостным делам довольно прохладно, даже он, получив бумажку с таким предупреждением, перестает рассказывать свои смешные истории и начинает быстро соображать, что надо делать. А он сидит здесь и играючи пописывает эти бумажки, и притом еще напевает и насвистывает. Может быть, не такие уж эти бумаги важные, если он пишет их с песней да с посвистом? Глядя на него, у меня даже стало изменяться отношение к самому крестьянскому начальнику. Раньше я глядел на строгие бумажки со штампом и его подписью и ничего за ними не видел и ничего не чувствовал, кроме страха и ощущения того, что хочешь не хочешь, а надо скорее делать то, что он требует. А то не миновать беды. А теперь при виде его строгой бумажки я не буду всматриваться в его штамп и в его подпись и считать их воплощением его всемогущества, а буду вспоминать студента и думать о том, как он пел и насвистывал. Если он тем не менее и вкладывал в эту бумажку немного ехидства, то больше для острастки. Сам он, похоже, человек не ехидный.
В первый день я графил сводные ведомости и заполнял сделанные графы заголовками. Студент несколько раз подходил ко мне проверять работу и не делал мне никаких замечаний. Видимо, у меня все было в порядке.
На другой день я рано утром пришел в канцелярию. Студент был уже там, но пока ничего не писал, не пел и не насвистывал. Как только я появился, он сразу же встал и сказал:
– Пойдем сначала на реку искупаемся.
Мне не очень хотелось идти с ним купаться, но я не посмел отказаться, и мы пошли на новоселовскую протоку. Дорогой он расспрашивал меня о том, какую работу я выполняю в волостном правлении и сколько мне там платят. На его вопросы я отвечал коротко и односложно. Узнав, что в волости я пока ничего определенного не делаю, а только всем помогаю и получаю за это пять рублей в месяц, он больше ни о чем меня не расспрашивал. В общем, разговор у нас не клеился, и он, видимо, решил, что ничего интересного от меня не узнает.
Я же расспрашивать его стеснялся. Да и не знал, о чем с ним говорить. Сознание нашего неравенства связывало меня, порождало робость, стеснительность. За работой я мог возместить эти недостатки своей старательностью. А здесь, во время купанья, от меня ничего не требовалось, и я должен был молчать да ждать его вопросов.
А купаться-то студент не умел. Влез в воду по грудь и плещется. Потом окунется и опять плещется. И не плавает и не ныряет. Может это он по-студенчески купается. Может быть, по-студенчески так и надо – стоять по грудь в воде да полоскаться. И, глядя на него, я тоже только стоял в воде, хотя мог легко переплыть эту новоселовскую протоку. Окунешься и стоишь, стоишь и смотришь вверх по течению, как искрится и серебрится река до самой Городовой, которая неподвижной громадой высится на той стороне Енисея.
Первые два дня мы занимались со студентом одни. Крестьянского начальника не было. Это мне даже нравилось, так как я здорово побаивался его появления. Кто его знает, как он тут на меня посмотрит, особенно на мою работу. А без него я пишу себе да пишу. Письмоводитель этот, хоть он и студент и не умеет как следует купаться, в общем-то человек вроде неплохой. И меня особенно не беспокоит. Подойдет, посмотрит, как у меня идут дела, и опять начинает писать свои бумаги, напевать и насвистывать. А на третий день утром, когда мы сходили пополоскались на Енисее и потом уселись за работу, я увидел в окно, как из хозяйского дома вышел невысокий круглый человек в казенном мундире, в фуражке с кокардой, в сапогах и направился прямо в нашу канцелярию. Я сразу узнал в нем крестьянского начальника, который разносил в Коме нашего старшину. Только лицо его на этот раз не было злым. Он открыл дверь в наш флигель, задержался немного на пороге и внимательно осмотрел всю канцелярию. После этого не торопясь вошел в комнату.
Мой студент стоял за своим столом и улыбался ему. Я, конечно, тоже встал. А крестьянский начальник подошел к студенту, поцеловал его и потом потрепал немного по спине.
– Ну, как тут наши дела?
– Да, кажется, ничего.
– А что это у тебя за хлопец?
– Из Комы. От Евтихиева. Вызвал обрабатывать комский продовольственный материал.
– Ну и как?
– Уже кончаем.
Крестьянский начальник посмотрел на меня и чуть-чуть кивнул мне. Потом обратился к студенту:
– А как данные по потерям от засухи?
– По Новоселовской и Знаменской волостям получены полностью. Из Комы нет по Витебке и Александровке. Деревни самые кляузные, а сведений не дают. Ну, я взгрел комского старшину как следует. Жду сегодня. Если пришлют, то завтра можно все отправить.
– Ну что же… Обождем до завтра.
Крестьянский начальник прошелся по комнате, потом снял фуражку, повесил ее на гвоздик и уселся за свой стол у окна.
– Спасибо тебе, Сашенька, что ты не забывал тут Анну Павловну. А то она извелась бы без тебя…
Студент поклонился.
– А как вы съездили? Что нового у нас в Иркутске?
– Да как сказать. Вроде ничего не изменилось. С весны, как всегда, много солнца, но мало тепла. В начале июня на Ангаре утонуло несколько человек. Неожиданно нагрянул ураган огромной силы. В Жилкиной сорвало плашкоут. Понтон в городе еле отстояли…
– Это у нас почти каждый год.
– К сожалению, почти каждый год. Ну, дома все благополучно. Сразу же по приезде навестил твою мать, да и у наших встречались. Все досконально доложил ей о твоей жизни и клятвенно заверил, что осенью ты прямо отсюда отправишься в Томск слушать лекции в университете. А что у нас, Сашенька, делается тут насчет пожаров? Ведь горит все кругом!
– Да что делается?.. Получили из Красноярска многословный циркуляр о том, как надо осторожно обращаться в лесу с огнем. И разослали его по волостям «к неуклонному исполнению». А когда стало сильно гореть, мы с лесничим попросили Герасима Петровича срочно вызвать старшин и урядников и обязать их немедленно нарядить из подтаежных деревень особые команды для тушения пожаров. У нас в особо угрожаемом положении Комская волость. И я потребовал, чтобы из Сисима, Коряковой, Медведевой, Кульчека и Проезжей Комы в тайгу были направлены противопожарные наряды. И чтобы мне два раза в неделю сообщали о результатах принятых мер. Судя по полученным сводкам, пожары в районе Сисимского лесничества ликвидированы.
– Наивный ты человек, Сашенька! Неужели ты веришь этим дурацким сводкам? В сводках, дорогой мой, всегда все в порядке. По этой части даже безграмотные писаря набили руку.
– Как же это так? – удивился студент.
– Да так… По привычке. Каждый год мы еще с зимы делаем самые строгие внушения о том, чтобы все сельские старосты провели специальные сходы и обязали на них всех домохозяев не жечь весной в полях палов, не разводить по лесам костров. И чтобы об этом все сельские общества составили особые приговора с подписями всех домохозяев. И что же? Бумаги сами по себе, а палы и пожары сами по себе. Все старосты аккуратно представляют каждый год общественные приговора не палить палов, не разводить по лесам костров. И в каждом есть формулировка: «В том и постановляем настоящий приговор и утверждаем его нашим рукоприкладством». И дальше идет это самое рукоприкладство, пять подписей грамотных да пятьдесят пять фамилий неграмотных. По форме – не придерешься. Распоряжение выполнено. А палы как палили, так и палят. Палят жниву на полосах, прошлогоднюю траву в березняках и вообще палят везде, где есть что палить. И костры в тайге как жгли, так и жгут. А где палы и костры, там и лесные пожары. А ты говоришь – пожары в Сисимском лесничестве ликвидированы. Нет, дорогой мой. Сводки – это одно, а пожары – это другое. По сводкам, пожары потушены, а по Енисею на пароходе ехать нельзя. Над рекой стоит такой дым, что пароход не может идти. Как в осенний туман…
Дальше крестьянский начальник стал рассказывать, что тайга горит не только у нас, но, видимо, по всей Сибири. Над всей дорогой от Иркутска до Красноярска стоит ужасный дым. Это не обычная хмара от привычных, так сказать, рядовых пожаров, ежегодно заслоняющих от нас неделями солнце и наводящих на всех безнадежное уныние. Нет! Это едкий удушливый дым от близости пожаров. Между Нижнеудинском и Тайшетом тайга горит на расстоянии сотен верст, горит, можно сказать, у самого полотна железной дороги. Из вагона видны огромные выжженные площади с черными обгорелыми пнями.
Около Канска тайга немного отошла в сторону. А дышать все равно нечем. Дым свежий и стелется по земле. Приехал в Красноярск – город во мгле. Горы за рекой скрылись в дыму. Между Ачинском и Красноярском, говорят, тайга тоже горит совсем рядом с дорогой, а дальше на запад, рассказывают, все горит между Томском и Мариинском.
– А что делается, дорогой мой, на Енисее! – рассказывал крестьянский начальник. – В Красноярске я должен был навестить знакомых на даче, около монастыря. Знаете мужской монастырь выше города напротив Лалетиной? Поехал туда на катере. Кое-как, можно сказать ощупью, добрались до Лалетиной. Пока там высаживали да брали новых пассажиров, сверху, с Маны подул ветерок и нагнал столько дыма, что стало совсем темно. Как в густом тумане. Но тем не менее катер все-таки пошел дальше к монастырю. Ехали, ехали… и подъехали к тому же берегу. Только ниже Лалетиной. И так несколько раз. Отчалим – едем, едем… и приезжаем снова туда же.
Но все же кое-как мы добрались до монастыря, и я побывал у моих знакомых. К вечеру иду от них на пристань. Иду и беспокоюсь. Придет ли, думаю, катер по расписанию к восьми часам? А наш катер, оказывается, отсюда и не уходил. Как привез нас утром, так с того временя и стоит на причале. Давно ему уж пора в город. Ну, публика, понятно, начинает волноваться. В конце концов все-таки уломали команду отправиться обратно. И что бы вы думали?! Как только отошли на несколько сажен от мостков, так сразу же потеряли ориентировку и опять начали кружиться в этом дыму, как в тумане. Ехали, ехали и, представьте, приткнулись опять к тому же берегу ниже монастыря, у Гремячего ключика. А дальше уж ни с места. Как говорится, ни зги не видно. Да и опасно. Еще у моста на бык напорешься. Так и простояли в этом Гремячем до самого утра. На заре уж немного просветлело, и мы успели проскочить в город, к пристани.
А дорога назад пароходом. Ведь четверо суток шли сюда вместо положенных сорока шести часов. Пройдем час-два, приткнемся к берегу и ждем, когда хоть немного посветлеет. И заметьте, около Сисима дыма не меньше, чем у Дербиной, у Бирюсы, у Езагаша. Значит, и Сисимская тайга горит. А ты говоришь – пожары ликвидированы. По рапортам сельских старост, действительно ликвидированы. А на самом деле как горело, так и горит. Так что немедленно вызывайте комского старшину. Я заставлю его как следует заняться этим делом и не втирать нам очки своими дурацкими сводками…
Поговорив еще немного о разных делах, крестьянский начальник ушел домой и в канцелярии больше не появлялся. Так что дальше мы со студентом сидели весь день уж одни. Он как ни в чем не бывало пел и насвистывал песни, писал бумаги, а я осторожно вписывал в свой сводный список разные продовольственные цифры.
На другой день крестьянский начальник с утра пришел в канцелярию и, не снимая с головы фуражки с большой кокардой, уселся за стол и открыл окно. Стол во флигеле был у него поставлен так, что он мог с любым посетителем говорить через окно, не впуская его в канцелярию.
И как только он уселся, на дворе сразу появились к нему люди. До этого никто не заходил сюда, кроме ходока из волости да почтальона с почты. А сегодня, как только он пришел и уселся у своего окошка, сразу потянулись один за другим.
Первым явился витебский староста. Он неуверенно вошел во двор и стал оглядываться по сторонам. Увидев в открытом окне крестьянского начальника, он поспешно снял картуз и медленно с обнаженной головой направился через весь двор. Когда он подошел к окну, крестьянский спросил его:
– Кто такой?
– Витебский староста, ваше благородие. Привез пакет из волости.
Крестьянский начальник взял пакет, не торопясь распечатал его, вынул бумажку, брезгливо развернул ее, повертел в руках, потом передал студенту.
– Посмотри, Сашенька, что они там накорябали.
Студент глянул в бумажку и сказал:
– Сводка о состоянии посевов по Витебке и Александровке. Теперь мы можем завтра же отправить все наши материалы в Красноярск.
А витебский староста стоял у окна и, видимо, ждал взбучку за задержку этих сведений. Я тоже думал, что крестьянский начальник начнет его сейчас разносить, так как перед самым отъездом из Комы читал грозную бумагу насчет этого дела. К моему удивлению, крестьянский начальник не выразил никакого возмущения с задержкой этих сведений. Он не кричал на старосту, не делал ему никаких внушений, даже не спрашивал его ничего насчет этих самых посевов, а довольно равнодушно посмотрел на него и спросил:
– Чего тебе еще?
Тогда староста стал низко кланяться и без конца повторять: «Ваше благородие!», «Ваше благородие!». Потом дрожащими руками вытащил из-за пазухи свернутый лист бумаги и подал его в окошко.
Крестьянский начальник взял бумагу, взглянул на нее и сразу резко спросил:
– Общественный приговор! О чем?.. Сашенька, посмотри, что они там клянчат…
Студент взял приговор витебского общества и молча стал его читать. Пока он читал, я смотрел на крестьянского начальника и никак не мог понять, почему он сам не стал читать эту бумагу. Может, написано неразборчиво, а может быть, он вообще не любит читать и писать всякие бумаги и заставляет делать это своего студента.
Тут мне вспомнилось, как мы в Коме один раз получили от него весьма срочную и очень строгую бумагу, написанную им самим. Иван Иннокентиевич со всеми своими помощниками два дня читали ее и ничего не могли понять, кроме того, что там речь шла о каком-то анашенском деле. Потом у нас еще два дня думали, что же делать с этой строгой непонятной бумажкой. Наконец додумались послать ее анашенскому сельскому старосте «для исполнения» и стали ждать от него ответа. А в Анаше тоже не сумели прочитать эту бумагу и прислали ее обратно с просьбой объяснить им, что надо по ней делать. Тут наши комские писаря еще два дня думали, что им дальше делать с этой бумажкой. И додумались послать ее обратно крестьянскому начальнику с надписью: «На Ваше распоряжение». Через день крестьянский начальник нарочным вызвал к себе самого Ивана Иннокентиевича вместе со старшиной. Приехали они от него очень сердитые и сразу же в ночь отправились в Анаш по этому делу. После этой истории Иван Иннокентиевич целую неделю не рассказывал свои смешные истории, а старшина все время ходил какой-то сумрачный и только отмахивался, когда его что-нибудь расспрашивали про это дело.
Наконец студент дочитал приговор витебского общества.
– Они просят у казны денег на отправку в Томск на лечение какого-то больного, – объяснил он крестьянскому начальнику. – Почему-то его надо непременно отправлять в Томск… В общем, я не совсем понял, в чем тут дело.
Крестьянский начальник взял от студента приговор, осторожно положил его на стол перед собой, потом в упор уставился на старосту и спросил:
– В чем тут дело? Объясни толком!
Тут витебский староста довольно сбивчиво стал объяснять, что в прошлом году из их деревни призывался новобранец Максим Родзиевский. В солдаты его не взяли, так как он болен волчанкой. У него уж и нос провалился, и челюсти оголились. Начальство приказало везти его скорее обратно домой. А потом пришла из волости бумага, чтобы его немедленно отправить в Томск на излечение. Ну, сами Родзиевские по бедности отправить его не могли. Тогда из волости вышла новая бумага, чтобы общество его отправило в Томск за свой счет…
– Когда вы его отправляете? – спросил крестьянский начальник.
– Не отправляем мы его, ваше благородие. Не на что нам его отправлять. Народ у нас бедный. Живем плохо. Чуть по миру не побираемся. Место таежное. Хлеб не родится. Сидим на одной бульбе. А нынче еще засуха. В смочные годы хлеб не дозревает или его убивает помхой. А нынче все выгорело… А отправить его в Томск нужны большие деньги. А потом: отправим мы его в Томск, тогда нас заставят и остальных Родзиевских отправлять. У них ведь, кроме Максима, и старик со старухой, и еще двое ребятишек болеют. Выходит, обществу всех их надо отправлять. А откуда нам взять столько денег? Мы и подати-то еле выплачиваем…
– Теперь я вспомнил об этом деле, – сказал крестьянский. – Вам же ясно писали, что казна не располагает средствами на отправку вашего Родзиевского в Томск на стационарное лечение. Если Родзиевские не в состоянии лечиться на свой счет – их обязано отправить общество. Неужели вы там этого не понимаете?
– Как не понимаем, ваше благородие. Мы все понимаем. Но только мы не можем. Живем плохо. Еле концы с концами сводим. Это обществу непосильно.
– А жить с ним посильно? Ведь они всю деревню заразят.
– Не заразят, ваше благородие. Они отдельно живут от деревни. На отшибе – за речкой. Лет пятнадцать уж там живут. С самого приезда. И ничего… бог милует. Никто, кроме них, в деревне не болеет. Так что окажите божескую милость, ваше благородие. Отправьте его на казенный счет. А то у нас обчество сумлевается, как бы не прислали новой раскладки за этих Родзиевских…
– Вот что, староста, – сказал крестьянский начальник. – Приговор твой я не возьму. Никаких средств на это у меня нет. Кроме того, лечебное дело не входит в мои обязанности. Иди со своим приговором в больницу к начальнику врачебного участка доктору Овчинникову. Проси его об этом. Но учти – если вы этих Родзиевских из деревни не уберете, то я отправлю их в Томск за ваш счет. Пора кончать это безобразие, а то вы у меня заразите всю деревню, всю волость. Бери свой приговор, и чтобы духу твоего здесь не было. Иди к Овчинникову, поезжай в Минусинск, в Красноярск, к черту, к дьяволу, а Родзиевских этих из деревни убирай. Через два месяца старшина приедет проверить это дело…
Тут крестьянский начальник сунул в руки старосте приговор витебского общества и захлопнул перед его носом окно. Потом встал, подошел к шкапу, вынул из него флакон с духами, налил их на носовой платок и стал протирать себе руки.
– Какая дичь! – возмущался он. – Целая семья вымирает от туберкулеза кожи, а они дипломатию разводят: отправим одного – заставят отправлять всех!
Тут крестьянский начальник заметил, что витебский староста все еще стоит под окном с непокрытой головой и чего-то ждет. Это почему-то сильно рассердило крестьянского. Он резко открыл окно и негромко, но раздельно проговорил:
– Я тебе что сказал? Я тебе сказал, что приговор у тебя не возьму, что денег у меня на отправку Родзиевского в Томск на лечение нет, чтобы ты с этим приговором шел в больницу к доктору Овчинникову. Он начальник врачебного участка и должен заниматься этим. Марш отсюда, пока я не послал за урядником…
И снова захлопнул окно под носом витебского старосты. А тот постоял еще некоторое время, спрятал приговор в карман, надел свой картуз и медленно пошел к воротам.
Крестьянский начальник стоял у окна и смотрел ему вслед. Когда староста скрылся за воротами, он как бы сам себе сказал:
– Не даст ему Овчинников ни копейки. У него тоже нет для таких случаев кредитов. Особенно сейчас. И все-таки это дело так оставлять нельзя. Надо заставить их отправить этих Родзиевских…
Потом он прошелся по своей канцелярии, что-то подумал и обратился к студенту:
– Напишите, Сашенька, комскому старшине построже, под личную ответственность, чтобы он не позднее первого октября обеспечил отправку семьи Родзиевских в Томск на стационарное лечение за счет сельских сборов витебского общества, в крайнем случае за счет волостных сумм. И чтобы об исполнении немедленно сообщил. А я с Овчинниковым об этом поговорю.
И крестьянский начальник сердито вышел из канцелярии. Однако вскоре пришел обратно, сел за свой стол и раскрыл окно. И тут во дворе сразу появился новый проситель. Судя по одежде, тоже расейский. Подобно старосте, он при входе во двор сразу же снял свою войлочную шляпу и через весь двор шел с непокрытой головой. Подойдя к окну крестьянского начальника, стал низко кланяться и жалостливо повторять: «К вашей милости, ваше благородие… К вашей милости».
– Что у тебя?
– С прошением к вашей милости. – Мужик вынул из своей шляпы сложенное прошение и подал его в окно. – Окажите божескую милость. Помогите! Невтерпеж стало. Семья большая.
Крестьянский начальник взял прошение, развернул его, посмотрел и недовольно сказал:
– Опять витебский. Эти витебские в печенке у меня сидят.
– Семья большая, – продолжал мужик, – хлеб не родится, пшеница не дозревает, рожь вымокает. А если что и уродится, то каждый год убивает помхой. Хоть глаза закрывай да убегай куда-нибудь или возвращайся обратно в Могилевскую губернию…








