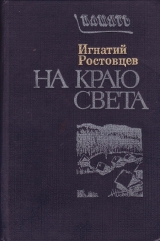
Текст книги "На краю света. Подписаренок"
Автор книги: Игнатий Ростовцев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 50 страниц)
Тут старшина сразу сообразил, что старост и десятских надо непременно задержать. Но решить это своей властью он боялся и побежал куда-то договариваться обо всем с Иваном Иннокентиевичем. Через час он явился обратно и, не говоря ни слова, отправился на перевоз.
А на следующий день все писаря как ни в чем не бывало явились в волость. Они ни о чем друг друга не расспрашивали и ничего друг другу не рассказывали, как будто все пришли сюда из одного места, где отсиживались эти дни… Видать, в самом деле прятались где-то на заимке. А может быть, по домам сидели. Ведь мобилизованные буянили в Коме только поначалу. А в следующие дни даже пьяных не было.
Но Иван Иннокентиевич и его помощники были убеждены в том, что им грозила здесь жестокая расправа, и держались теперь геройски. Они были уверены, что после разгрома монополки мобилизованные непременно взялись бы за волость, если бы они вовремя не убрались оттуда в безопасное место.
В этот же день из Витебки приехал заступать на должность новый волостной заседатель. Это был молодой еще расейский мужик огромного роста, в аккуратном пиджаке из самодельного сукна, в каких щеголяют у нас все переселенцы. В волость он явился с каким-то потерянным, даже испуганным видом. Судя по всему, ему в первый раз в жизни пришлось близко встречаться с такими важными людьми. Изредка он силился улыбаться, когда речь заходила о его семье и хозяйстве. Но эта улыбка сразу же куда-то пропадала.
И вот старшина повел его к Ивану Иннокентиевичу, объяснив заранее, какую большую силу и власть Иван Иннокентиевич имеет в волости. При встрече со Станиславом Болиным Иван Иннокентиевич сразу напустил на себя важный вид. Не говоря ни слова, он уставился на Болина, как будто что-то хотел рассмотреть у него внутри. Он так долго в упор рассматривал Болина, что у того от страха дух захватило. Потом Иван Иннокентиевич с шумом открыл свой железный ящик, вынул из него большую медную бляху с надписью «ВОЛОСТНОЙ ЗАСЪДАТЕЛЬ», положил ее перед собою и только после этого пригласил Болина садиться. Затем он спросил Болина, сколько ему лет, какого он вероисповедания и может ли он подписывать казенные бумаги. Узнав, что Болин совершенно неграмотен, Иван Иннокентиевич сокрушенно покачал головою, откинулся на спинку стула, посмотрел в потолок, потом снова уставился на Станислава Болина и начал вразумлять его насчет тех обязанностей, которые ему предстоит выполнять, став волостным заседателем.
– Волостной заседатель, – втолковывал Станиславу Болину Иван Иннокентиевич, – является большим начальником. Он первое лицо в волости после старшины, а при отсутствии старшины, которому часто приходится отлучаться по делам, остается главным лицом в волостном правлении. Как должностное лицо заседатель имеет свою печать и должен носить на груди медную бляху. Половина всех бумаг в волости идет за его подписью и печатью…
Станислав Болин с испугом слушал Ивана Иннокентиевича. Он, видимо, никак не ожидал, что будет наделен в волости такой огромной властью. И никак не мог сообразить, что он будет делать, сделавшись таким большим начальником. А Иван Иннокентиевич продолжал втолковывать ему обязанности волостного заседателя.
– Старшина, – вразумлял Иван Иннокентиевич Станислава Болина, – отвечает у нас за сбор податей, за общий распорядок, за тишину и спокойствие в волости, а вы, как волостной заседатель, должны поддерживать порядок в волостном правлении, чтобы все здесь делалось как положено, чтобы правильно велись все денежные книги и отчетность, чтобы аккуратно велось все делопроизводство. Потом, на заседателя возлагается у нас обязанность волостного казначея. Он должен принимать от сельских старост казенные подати и волостные сборы. Казенные подати своевременно отправлять в уездное казначейство, а волостные сборы расходовать по назначению волостного схода на наем писарей, на покупку канцелярских принадлежностей, на оплату гоньбовых расходов и все такое. И, конечно, заседатель несет полную ответственность за сохранность этих денег. Случись с ними что-нибудь неладное, он первый в ответе, его первого потянут в суд, ему первому тюрьма…
Станислав Болин сидел ни жив ни мертв, а когда Иван Иннокентиевич спрашивал: понятны ли ему обязанности волостного заседателя, бормотал в ответ что-то невнятное…
Дальше Иван Иннокентиевич возложил на Станислава Болина ответственность за состояние волостной тюрьмы и за своевременное представление разных статистических сведений, за составление призывных и мобилизационных списков, за работу волостного суда и за состояние гоньбовой повинности. Ближайшую обязанность Станислава Болина как волостного заседателя Иван Иннокентиевич усматривал в хранении денежных сумм, налоговых и денежных книг в нашем железном несгораемом ящике. Ключ от этого ящика он – Станислав Болин – должен хранить теперь денно и нощно при себе и открывать этот ящик только по требованию волостного писаря. В заключение Иван Иннокентиевич велел Петьке Казачонку принести печать волостного заседателя и положил ее на стол рядом с медной бляхой и ключами от железного ящика. Потом он встал и несколько торжественно произнес:
– А теперь, старшина, прицепи новому заседателю положенный ему по должности знак служебного достоинства…
Старшина встал, принял от Ивана Иннокентиевича медную бляху и подошел к Станиславу Болину. Тот испуганно вскочил.
– Чего ты дрожишь, как необъезженный жеребец? – сказал старшина и стал прицеплять бляху на грудь Болину.
– А теперь получай печать волостного заседателя и ключи от несгораемого ящика, – продолжал Иван Иннокентиевич и показал Болину на железный ящик. – Печать выдавай моим помощникам для припечатывания казенных бумаг, а ключ никому, кроме меня, не доверяй.
Тут Иван Иннокентиевич позвал к себе в комнату всех своих помощников и на их глазах торжественно вручил Станиславу Болину печать волостного заседателя и ключи от железного ящика:
– Вот, господа, наш новый волостной заседатель – Станислав Викентьевич Болин. Прошу любить и жаловать…
Станислав Болин с виноватым видом стоял перед всеми с казенной печатью и ключами в руках, с большой медной бляхой на груди. Он был бледен. Пот градом катился с него. Он что-то бессвязно бормотал, потом вдруг, неожиданно для всех, начал всхлипывать, как ребенок.
Никто не ожидал такого оборота. Иван Иннокентиевич даже растерялся и велел Петьке Казачонку сбегать в сторожку за водой. А Станислав Викентьевич, всхлипывая, опустился на стул и начал бормотать что-то бессвязное. Он попробовал пить принесенную Петькой воду, но руки его тряслись, зубы выбивали дробь, вода из ковшика расплескивалась.
– Эх, беда какая, – не то с удивлением, не то с сожалением произнес старшина.
– Отведи его в сторожку и успокой, – приказал старшине Иван Иннокентиевич. – Объясни, что ничего страшного в его службе нет. Я, кажется, немного сгустил краски…
С этого дня Станислав Болин насовсем водворился в нашей канцелярии. Он с утра до ночи сидел в комнате Ивана Иннокентиевича и охранял свой железный ящик, в котором кроме денежных книг и документов, как я теперь знал, хранились еще красные мобилизационные пакеты. А вскоре Болин совсем перешел на жительство в волость. Столовался он где-то на стороне. Значит, имел какую-то квартиру. Но на ночь непременно приходил в волость и устраивался спать возле своего железного ящика.
Вскоре все узнали, что Станислав Болин – добродушнейшее существо, наивный и робкий, как ребенок, и стали над ним всячески потешаться. А мы с Петькой вызнали, что он до смерти боится щекотки. Достаточно протянуть к нему руку с намерением пощекотать его, как он начинал корчиться и всхлипывать от смеха. И мы все время мучили и пугали его этим. Вот он сидит в комнате Ивана Иннокентиевича и ждет, когда тот потребует у него ключ от железного ящика. А Петька подойдет к дверям и издали нацелится на него линейкой. Болин, конечно, сразу заметит это и начинает беспокойно ерзать на стуле, потом осторожно смеяться, а потом всхлипывать и корчиться от смеха. Кончалось это тем, что Станислав Болин, забыв и про Ивана Иннокентиевича, и про старшину, и про других писарей, с яростью бросался на Петьку, чтобы вырвать у него эту злополучную линейку. А тот, разумеется, давал стрекача. Конец этой истории доигрывался обычно во дворе. Первое время это всех забавляло, но потом Иван Иннокентиевич запретил устраивать такие игры в канцелярии. Но в его отсутствие и когда в волости не было народа, в эту игру включались все писаря и в первую очередь старшина, которому особенно нравилось дразнить Болина.
Недели через две после мобилизации в волости появился урядник Чернов. Все это время он состоял при приставе на Минусинском тракте. При следовании по тракту мобилизованные громили все монополки и частные винные лавки, сдирали со столбов телеграфные провода и расправлялись с начальством, если оно появлялось на тракте. И новоселовский пристав со своими урядниками старались им там не попадаться. Они мотались поблизости от тракта по соседним деревням, сгоняя оттуда подводы на тракт для перевозки мобилизованных. Но все же один раз пристав вместе с нашим Черновым как-то оплошали и попали им в лапы. И попали каким-то шутникам, которые, то ли от большого ума, или от большой дурости, решили извести их на тот свет веселым способом. Они выставили им по четверти водки и велели выпить ее без остатка. И пить заставили с песнями, с пляской, под гармошку. Поначалу пристав и Чернов пили только для отвода глаз и старались больше петь и плясать. Однако этот номер у них не прошел, и их заставили пить без обмана все до конца, пока они не могли уж ни встать, ни сесть, лишились языка и потеряли человеческий облик. Тогда их усадили на их же пароконную подводу и отпустили на все четыре стороны. А ямщик был у них откуда-то из ближнего притрактового села и повез их прямо к себе. А там, на их счастье, оказался новоселовский доктор. Он кое-как и отводился с ними.
После мобилизации все пошло в волости по-старому. Мужики, как и раньше, являлись к нам по своим делам. Иван Иннокентиевич по-прежнему стал приходить на занятия только к одиннадцати часам и как ни в чем не бывало рассказывал свои веселые истории. Так же два раза в неделю ходила почта в Новоселову и по волости. Только увеличилось количество писем, да у Ивана Фомича прибавилось работы с военным учетом.
Но все-таки у нас стало теперь как-то шумнее и многолюднее. С самого утра к нам стали заходить новые люди, чтобы узнать, не было ли ночью нарочного из Новоселовой, не приезжал ли оттуда кто из большого начальства, не заглядывал ли в волость за почтой сисимский лесничий и если приезжал, то что он рассказывал о войне. На удивление всем, он привозил в волость самые интересные новости. Живет человек на отлете от всех, почти в самой тайге, а знает больше всех, что делается на белом свете.
А на белом свете творилось что-то несуразное. После мобилизации все ждали войны с Японией. Мысль о такой войне для всех была привычной. А когда вышел первый манифест, то оказалось, что нам объявила войну Германия. А потом вышел манифест о войне с Австро-Венгрией и, наконец, с Турцией.
Манифесты эти были для всех совершенно непонятны. Ну, война с турками еще туда-сюда. Воевать с турками – все это хорошо знали – приходилось много раз. Но никто не помнил ни одной войны с Германией и Австро-Венгрией. Знали, что в этих государствах живут немцы, которых почему-то называют колбасниками. Знали, что в наших городах живет много немцев. Есть среди них даже генералы. Но чтобы воевать с немцами… Этого никто не мог понять. В конце концов, что надо от нас этим колбасникам?
А новости с каждой почтой сыпались как из мешка. Сообщали о назначении великого князя Николая Николаевича верховным главнокомандующим, писали в газетах о каких-то патриотических манифестациях в Петербурге и в Москве. В связи с войной была введена военная цензура, и все государство было объявлено на каком-то особом положении, а Сибирская железная дорога на военном положении. В связи с этим на всю Восточную Сибирь, включая нашу Енисейскую губернию, был назначен какой-то главноначальствующий – генерал Нищенков. Никто об этом генерале ничего не слыхал, а теперь он был поставлен над всеми губернаторами и даже над самим генерал-губернатором. Назначение на Восточную Сибирь особого главноначальствующего вызвало много разговоров. Из них выходило, что вся власть начала перестраиваться на военный лад и, чего доброго, эта перестройка дойдет и до сельских мест. Того и гляди, рядом с крестьянским начальником и становым приставом над нами поставят еще какого-нибудь полковника, а то и генерала. Ну а там дело дойдет и до деревень. И по деревням начнут сажать военных начальников. Неспроста же говорил пристав о какой-то конной полицейской страже из унтер-офицеров, которую, по его словам, давно уж собираются установить в Сибири. Того и гляди, поставят эту стражу в наших местах.
О патриотических манифестациях в Петербурге и в Москве особенно не распространялись. Они не вызывали в наших местах никаких откликов. К немцам, которые были объявлены теперь нашими врагами, никто никаких неприязненных чувств пока не выказывал. Даже урядник Чернов ничего плохого о них не говорил. Но это было только поначалу. По мере развития военных событий стало известно, что немцы всегда были нашими врагами и только тем и занимались, что вставляли нам палки в колеса. А теперь решили совсем порешить нашу державу. Так что придется воевать с ними до победного конца.
А война все шла и шла, и конца ей не предвиделось. За первой мобилизацией последовала вторая, за второй третья. Призывали все старых солдат, и Иван Фомич готовил на них новые и новые списки. А я эти списки ему переписывал.
В первую мобилизацию солдаты готовы были все крушить и ломать. А к повторным призывам они как бы привыкли: не бузили, не шумели, не собирались бить начальство, а послушно следовали на свои сборные пункты. И новоселовское, и наше комское начальство, и Иван Иннокентиевич, и все его помощники не прятались уж от них по заимкам, а спокойно занимались своим делом. У всех создалось впечатление, что в народе что-то надломилось и мобилизуемые уразумели, что криком и шумом тут делу не поможешь, что от войны никуда не уйдешь, от мобилизации не спрячешься, что высшая власть здорово укрепилась и установила такой порядок, что теперь даже пикнуть нельзя против начальства без того, чтобы не угодить в тюрьму или под военный суд.
И слез при проводах мобилизованных стало меньше. Слез стало меньше, но от этого было не легче. Вместо них у каждого при проводах был тяжелый камень на сердце.
После нескольких мобилизаций бывших солдат (нижних чинов запаса) принялись за ратников. Сначала за ратников ополчения первого разряда, потом за ратников ополчения второго разряда. Тут все решили, что дальше возьмутся за старых солдат-инвалидов, которые воевали с японцами. В запас их в свое время не зачислили, а выдали им белые билеты. И вот теперь откуда-то стало известно, что высшая власть решила призвать их в армию, так как солдатскую службу они знают, и хоть на войне и покалечены, но могут еще хорошо охранять военные склады и выполнять в военных лагерях разные хозяйственные работы.
Однако неожиданно для всех высшая власть решила пополнять действующую армию по-другому и распорядилась досрочно призывать на военную службу рекрутов-новобранцев. Раньше их брали в солдаты на двадцать втором году от рождения, а теперь решили призывать досрочно, начиная с восемнадцати лет. И тут Ивану Фомичу пришлось срочно готовить на них призывные списки, а мне эти списки переписывать. В один из них попал и наш Конон. С этими досрочными призывниками долго не церемонились. Их всех быстро освидетельствовали на призывном пункте, и через некоторое время мы с мамой отвезли Конона в Новоселову на сборный пункт. Там его вместе с другими новобранцами сразу же загнали в огромную баржу, стоявшую у причала. По дороге обратно, когда мы подъезжали уже к комскому перевозу, на реке показался огромный пассажирский пароход с двумя баржами. День был теплый, ясный, хороший, а на пароходе и на баржах не было видно ни одного человека.
– Некрутов везут… – догадалась сразу мама. – Как баранов, внутрь всех загнали, – сказала она и утерла слезы. – А потом из Красноярскова уж повезут их в каких-то теплушках на войну. С лошадями, говорят, везут их туда. На убой. Как скота на мясобойню…
Глава 10 КРЕСТЬЯНСКИЙ НАЧАЛЬНИК
Лето выдалось нынче на редкость жаркое, засушливое. С самой весны не было ни одного дождя. После троицы начала гореть тайга. Солнце скрылось в дымной хмаре. Над селом с утра до ночи висела едкая пыль. Из деревень поступали тревожные вести: хлеб выгорал на корню. Травы на покосах тоже были плохие. Скот отощал. Мужики приходили в волость злые и без конца говорили о том, что не миновать в этом году голодовки. Да и сена совсем не будет. Придется в тайге косить, ворочать там дурную траву, а зимой гнать туда скотину на кормежку. И работников нет. Все на войне, которой и конца не видно…
В газетах все чаще и чаще стали писать о засухе. Иван Фомич, который один из всех писарей более или менее аккуратно читал газеты, сказывал, что засуха приняла в нынешнем году небывалые размеры. В Ачинском и Канском уездах, оказывается, тоже все выгорело. В Иркутской и Томской губерниях, в Акмолинской области тоже была засуха.
Начальство было сильно обеспокоено плохими видами на урожай и без конца требовало от волости разные сводки о состоянии посевов. А в Красноярске, говорят, образовался какой-то продовольственный комитет, который должен был закупать хлеб для нас в урожайных местах. Этому комитету надо было знать, сколько он должен закупить хлеба для каждой деревни, для каждой волости, для каждого уезда, для всей Енисейской губернии.
Эти сведения, разумеется, затребовали от волостных правлений, а те в свою очередь препоручили это дело сельским старостам. Они должны были в самый короткий срок представить в волость ведомости о потребном количестве хлеба тля своих селений по каждой семье отдельно, с указанием количества едоков.
Вся эта работа была проведена сельскими писарями в очень короткий срок. Потом эти ведомости проверяли и уточняли у нас в волости и сильно убавили общую сумму продовольственной ссуды и отослали крестьянскому начальнику.
Через несколько дней Иван Иннокентиевич позвал меня к себе и спросил:
– У тебя есть в Новоселовой родственники или какие-нибудь знакомые, у которых ты мог бы прожить несколько дней?
Я подумал немного и сказал, что у меня есть в Новоселовой родственники и я могу прожить у них хоть целую неделю.
В Новоселовой у нас был действительно родственник – Тарас Васильевич Тахтин. Он заезжал иногда к нам в Кульчек проездом куда-то в Солбинскую волость и всегда вызывал у меня к себе повышенный интерес. Тарас Васильевич совсем не походил на наших кульчекских мужиков. Водку не пил. Так что при его приездах тятенька не метался по деревне в поисках бутылочки. Держался Тарас Васильевич как-то строго, говорил обо всем обдуманно, никого не ругал, не матюгал, и как-то по особому уважительно относился к моей матери.
Родом Тарас Васильевич был чернавский и приходился матери двоюродным братом. А в Новоселову он ушел в дом к Назару Бережковскому. Жили они там справно, и я почему-то сразу решил, что могу остановиться у них.
– Ну, если так, – сказал Иван Иннокентиевич, – то иди скорее, собирайся. Поедешь денька на два к крестьянскому начальнику. Поможешь там в его канцелярии писать эти продовольственные списки. Видимо, еще сокращать решили. Возьми с собой на всякий случай пальтишко и еще что-нибудь. Через час пойдет почта. Поедешь с Липатом.
У Ивана Иннокентиевича я недопонял, что должен буду писать продовольственные списки у самого крестьянского начальника. А пока я бегал домой сказать тетке Татьяне, что на несколько дней уезжаю в Новоселову, эти слова Ивана Иннокентиевича дошли до меня как следует. И я сильно струсил.
За время своего короткого пребывания в подписаренках я узнал, что наше Комское волостное правление подчинено бесчисленным начальникам. С каждой почтой из Новоселовой приходил целый ворох разных распоряжений, предписаний, указаний, требований и отношений. Они поступают из Минусинска от уездного исправника, от воинского присутствия и уездного съезда крестьянских начальников, от уездного казначейства, из Красноярска от губернского по крестьянским делам присутствия, от казенной палаты, окружного суда, духовной консистории, тюремной инспекции, от какого-то горного надзора, и еще от кого-то из других городов, и даже от каких-то Богомдарованных рудников. И все они начинаются строгими приказаниями, а кончаются еще более строгими предупреждениями и угрозами.
Но все же самым главным начальником является у нас крестьянский начальник. Он непосредственно направляет работу волостного правления и наделен такой властью, что может отменить любое решение волостного старшины. Более того. Он может отменить любое решение волостного схода. Он может даже запретить собираться волостному сходу.
Я знал, что крестьянский начальник имеет большую власть над нами, но никогда не думал, что мне придется являться к нему на работу. Я читал десятки его распоряжений, многие из которых повергали в страх наших волостных начальников и даже самого Ивана Иннокентиевича. Часто совсем маленькая бумажка от него заставляла их метаться по всей волости. А нынче осенью он сам неожиданно нагрянул к нам. В волостную канцелярию он даже не зашел, а остановился на своей тройке у ворот и потребовал старшину Безрукова. Говорил он с ним властно и грубо, не сходя со своего тарантаса. Он приказал ему в самый короткий срок собрать все недоимки, которые состоят по волости за мужиками, причем особенно напирал на медведевское общество.
– Ты потакаешь медведевским! – кричал он старшине. – Потому что сам медведевский. Но смотри! Я с тобой разделаюсь, если ты не подгонишь мне окладные сборы.
Пригрозил так и укатил на своей тройке в Новоселову.
После этой встречи с крестьянским начальником наш старшина с ног сбился, разъезжая из деревни в деревню, распекая старост, устраивая сходы, уговаривая мужиков, угрожая им отсидкой, описью и распродажей имущества. Но его увещания и угрозы на мужиков уже не действовали.
До войны все было проще. Отберут у мужика за недоимку самовар и выставят его на сборне всем напоказ. Смотрите, дескать, Филины-то без самовара остались. Чай-то из чугунки теперь пьют. И, конечно, Филиным было стыдно перед всей деревней пить чай из чугунки. Большего позора у нас в деревне и не знали. Разве уж кому ворота вымажут дегтем… Ну и приходилось, хочешь не хочешь, где-то искать деньги, влезать в долги или продавать скотину и выплачивать эту проклятую недоимку. Можно сказать, выкупать свой собственный самовар. А сейчас мужика уж никаким самоваром не прошибешь. Во всех деревнях все сборни ими забиты. А толку никакого… «Обойдемся, – говорят, – как-нибудь и без самоваров, а платить все равно не будем». Вот старшина и мечется из деревни в деревню, сажает недоимщиков в каталажку и ждет, скоро ли его самого потянут в тюрьму и куда потянут – в Новоселову или прямо в Красноярск в тюремный замок.
Но не только старшина, но и все волостные начальники живут под постоянным страхом перед крестьянским начальником, потому что у нас на местах нет здесь другой власти, выше его. Даже Иван Иннокентиевич, который командует в волости и старшиной, и заседателем, и волостными судьями, и всеми сельскими старостами, и даже волостным сходом, даже он боится крестьянского начальника. Боится, потому что тот в любое время может снять его с должности и поставить на его место кого-нибудь другого.
Иван Фомич, Павел Михайлович и Иван Осипович тоже побаиваются крестьянского начальника, хотя они и не волостные начальники, а только помощники Ивана Иннокентиевича и ни за что в волости не отвечают. Но мало ли, что ему может прийти в голову. Пришлет в одно прекрасное время Евтихиеву какого-либо другого помощника, а из них кого-нибудь прикажет вытурить вон. И жаловаться некому.
Я не был волостным начальником, и мне пока не грозили от крестьянского начальника ни тюрьма, ни увольнение. Однако я боялся его, вероятно, сильнее всех. Потому, что был заражен общим страхом перед ним, и, конечно, потому еще, что я был все-таки меньше всех. И сейчас, когда я как следует расчухал, что мне надо выезжать прямо к нему на работу, то не на шутку струсил. Что там надо будет делать с этими списками, как их переписывать и переделывать? Справлюсь ли я с этим? Может, лучше не ездить туда? Пусть посылают писать эти списки Петьку Терскова, а я за него буду вписывать и выписывать бумаги во входящий и исходящий журналы.
Но отказываться от поездки было поздно. Липат уже поджидал меня, сидя со своим почтовым баулом в тарантасе, а Тихон Зыков восседал на облучке. Я с побитым видом влез к Липату в тарантас и устроился на его бауле. Тихон тронул лошадей, и мы покатили на комский перевоз.
Подобно дедушке Митрею, Липат несколько лет состоял при волости ходоком. Был он мал ростом, горбат, имел жиденькую черную бороденку. Из-за своего физического недостатка к тяжелой крестьянской работе он был, конечно, непригоден. Это обстоятельство и заставило его податься в волость на «легкую ваканцию» и из года в год наниматься в ходоки. Но ходок он был очень хороший. Вот уж несколько лет аккуратно доставлял по понедельникам и четвергам почту в Новоселову и из Новоселовой, будь это самый сильный весенний или осенний ледоход или любая непогода, когда самые отчаянные люди воздерживаются перебираться через реку.
Но никто в волости не придавал этому особого значения. Все уже привыкли к аккуратности Липата, да и сам Липат тоже, видимо, не видел в своих поездках ничего особенного. Только каждый раз после такой оказии он был возбужден более обычного, чаще курил и все время над чем-то посмеивался.
Большой горб и маленький рост не особенно обременяли Липата в жизни и, во всяком случае, не портили ему настроения. Он выглядел всегда веселым. Даже большая семья и постоянная нужда не сломили его, и он принимал это от жизни как само собой разумеющееся. «Большая семья, – говорил он, – большая нужда, маленькая семья – и нужды меньше», – и сразу старался перевести разговор на другую тему.
В Новоселову за почтой Липат ездил всегда с огромным револьвером, который каждый раз не знал, куда прятать. Карман штанов он оттягивал, из-за пазухи выкатывался. Кроме того, револьвер делал Липата похожим на начальника. А это ему не нравилось. Наконец он додумался завертывать его в тряпку, класть в баул и запечатывать вместе с почтой. Это сразу развязало Липату руки и особенно язык. Что-что, а поговорить он любил.
Сегодня Липат, как всегда, был в хорошем настроении. Подобно дедушке Митрею, он стал расспрашивать, как у меня обстоят дела насчет девчонок. Увидев, что я стесняюсь отвечать на его расспросы, он вступил в спор с Тихоном Зыковым, с которым у него были свои темы для разговора.
В противоположность Липату Тихон был настроен крайне мрачно и преисполнен самых тяжелых предчувствий.
– Тебе все хахоньки да хихоньки. Все шутки разные выкамариваешь, – укоризненно говорил он Липату. – А ты всурьез подумал о том, как мы жить-то будем. Если такая жара еще неделю-две простоит, кусать-то зимой нечего будет. Все сгорит на корню. Да и скоту кормов не будет. Смотри, что делается!
И Тихон широким жестом показал на Енисей, над которым нависла сизая пелена дыма, на еле видимую в густой хмаре громаду Тона, на тусклое солнце, изливавшее на сожженную землю потоки тепла.
– Был бы рот, а кусать что-нибудь найдем, – бодро возразил Тихону Липат.
– А что найдешь-то? Картошки и той не будет. И та выгорела. Лебеду, что ли, жевать будешь али из полыни оладьи печь?
– Ссуду дадут из мангазина, – не сдавался Липат.
– Ссуду дадут на посев, а не на еду. Так что на эту ссуду ты не надейся.
– Из урожайных мест привезут. Сам знаешь, в волости списки составляли. По два пуда на душу в месяц записывали.
– Разевай рот шире. Написать все можно. Вам, дуракам, наобещают, а вы и тешите себя…
– Так списки же составляли. Мне на восемь душ сто девяносто два пуда записали.
– Тебе сто девяносто два пуда, да мне полтораста, да моему соседу тоже без малого двести. А в Коме у нас почти пять сотен дворов, и в каждом доме не меньше пяти ртов. Ну-ко, сочти, сколько на них надо будет? Иван Фомич сказывал – на одних комских только на один месяц надо четыре тысячи пудов. А сколько на год?.. А ведь у нас в волости восемнадцать деревень и везде есть хотят. А Новоселовская волость, а Балахтинская, а Знаменская, Беллыкская, а под Минусой… Там ведь вон какие поселения… Тут только на один наш уезд надо мильон пудов. А где их купить и как их привезти сюды? И чем мы будем расплачиваться за это? Вот и подумай как следует…
Липат сидел, подавленный доводами Тихона.
– Молчишь! – торжествующе сказал Тихон. – То-то и оно… Прогневали бога, вот теперь и расхлебываем. В воскресенье ходили с иконами. Молебны служили. Сначала в Карасуке, потом в Симистюле. Молились, молились… Глядим – из-за Тона что-то стало натягивать и немного погромыхивать… Ну, думаем, благодаренье богу. Вроде умолили. Не тут-то было. Тянуло, тянуло, но так и не вытянуло. Вдруг ни с того ни с сего подуло из-за реки. Так и разнесло наши тучки. – Тихон опустил вожжи и, как бы под тяжестью, согнулся на своем облучке. Лошади сразу сбавили ходу и уныло брели по пыльной дороге.
– А тут еще эта война! Воюем, воюем… Сколько народу перебили, а все конца-краю не видно. Того и гляди, последних мужиков подберут. Правду старые люди говорят, что скоро конец света. Видать, дело и впрямь клонится к этому…
Против таких доводов Тихона Липату трудно было что-нибудь возражать, и он постарался перевести разговор на другую тему. Мы подъезжали уже к перевозу, где нас ждал паром. Паром после первой мобилизации переделали. Вместо четырех огромных весел, или, как их еще называют, гребей, на него поставили большое колесо с широкими плицами, как на пароходных колесах. Это колесо надо было вертеть руками за большие железные ручки. Крутить должны были сами пассажиры. Но сегодня, по случаю волостной почты, перевозчик привел на паром жену и сына – парнишку лет четырнадцати – крутить это колесо. Кроме того, к нашему приезду на пароме уже стояла одна подвода. На ней, закутавшись в шаль, с обреченным видом сидела старая женщина и смотрела на едва видимый в дымной хмаре противоположный берег. Судя по всему, она боялась плыть на пароме и на всякий случай оставалась на своей телеге. Мало ли что может быть. Если и тонуть, то все-таки на своей телеге, при своем месте. А около паромного колеса стоял молодой парень, видать, ее сын. Он не отрываясь смотрел вниз на стремительное течение воды. Увидев подошедшего Липата, оторвался от лицезрения реки и, как бы подводя итог увиденному, сказал:








