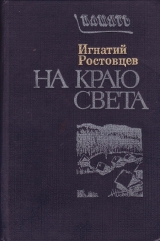
Текст книги "На краю света. Подписаренок"
Автор книги: Игнатий Ростовцев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 50 страниц)
И тут между ними начался длинный, много раз еще в Кульчеке слышанный мною разговор о лягавых.
Лягавыми у нас называют всех тех, кто богато живет, нарядно по-городскому одевается, говорит по-образованному, кто каждый день сладко ест и пьяно пьет и не ворочает эту каторжную мужицкую работу.
К лягавым у нас относят прежде всего больших начальников, которые сидят у мужика на шее (крестьянский начальник, мировой судья, становой пристав), потом больших купцов, которые обжуливают и обирают его разным манером (Терсков, Мезенин, Бобин, Демидов), и, наконец, людей, работающих на легких вакансиях и получающих от казны или от волости большое жалование (доктора, фельдшера, учителя, писаря).
Лягавых начальников мужик ненавидит прочной и постоянной ненавистью, считает их дармоедами, поставленными измываться над народом и выколачивать из него подати. Купцов он не любит, но терпит, так как без них все равно не обойтись. А к людям, работающим на легких вакансиях, относится по-разному, в зависимости от того, как они сами к нему относятся.
Мужики долго и лениво вели этот привычный для них разговор о лягавых. Тем временем из комнаты Ивана Иннокентиевича стали доноситься раскатистые взрывы смеха… Всем было интересно знать, над чем они там так здорово смеются. Даже писаря перестали писать свои бумаги и стали прислушиваться к тому, о чем там ведется разговор. Наконец, после очередного взрыва смеха, оттуда вышли волостной заседатель, сисимский и коряковский старосты.
– И учудит же Иван Акентич! Так запомни, говорит, молодушка, и обязательно передай ему… приезжали, мол, волостной старшина Крапивин и волостной писарь Лопухин.
– А она им, – захлебываясь от смеха, подхватил другой. – Да чего, говорит, не запомнить-то. Ведь в крапиву мы… ходим, а лопухом-то… подтираем.
И старосты закатились смехом.
– А про попа-то что отморозил. Ведь придумает же такое. Прямо умора.
– Да! По этой части он специялист, – многозначительно сказал заседатель. – Целый день может отмачивать такие номера.
– И откуда такое берется у человека. Прямо на удивленье!
– Талан такой. Да и образование не наше, – объяснил заседатель и, обратившись в прихожую, спросил:
– А теперь, мужики, кто из вас к Ивану Акентичу?
Тут несколько человек повскакали со скамеек. Мы с отцом тоже встали, чтобы заседатель обратил на нас внимание. И он сразу же нас заметил:
– Обождите, мужики. Пропустим сначала кульчекских. Они раньше всех сюды заявились. Да и дело у них, я думаю, не займет много времени. Не то что у вас. Давайте! – обратился он к отцу. – Идите скорее…
Отец осторожно подтолкнул меня в бок, и мы пошли с ним через канцелярию в другую комнату. Здесь за единственным письменным столом восседал волостной писарь Иван Иннокентиевич Евтихиев. Ридом, около стола, стоят большой железный ящик, а сзади на стене висел большой царский портрет в раме. Иван Иннокентиевич сразу узнал отца, поздоровался с ним за ручку и тут же приступил к делу.
– Привез хлопца? Вот и хорошо Как звать-то? – обратился он ко мне.
– Иннокентий, – ответил я.
– Иннокентий так Иннокентий. Хорошо, что не Сосифат какой-нибудь, не Карп, не Варсанофий. Имена-то у вас такие, что язык сломаешь.
– Не мы ведь имена-то даем, Иван Акентич. Батюшко нарекает при крещении. Он уж приставлен на это.
– Вот он и придумывает, как бы потруднее да посмешнее. Ну что ж, Иннокентий. Приходи завтра с утра на работу. Присматривайся. Первое время будешь так ходить, а поднатореешь – положу жалованье.
Тут Иван Иннокентиевич встал, взял меня за руку, вывел в большую комнату и громко сказал:
– Вот, господа, знакомьтесь – мой новый помощник. У нас будет работать. Собственно, не работать, а учиться. Подписаренком пока будет. Присматриваться к делу. А там увидим. Так что прошу любить и жаловать.
Не успел я сообразить, как мне знакомиться с этими людьми, как Иван Иннокентиевич круто повернулся и ушел в свою горницу. Теперь я остался один стоять посредине канцелярии. Все помощники Ивана Иннокентиевича молча на меня посмотрели, и никто не сказал мне ни слова. Все остались на своих местах и занимались своим делом. Они разговаривали с мужиками, которые стояли около их столов, и не обращали на меня никакого внимания, как будто Иван Иннокентиевич не выводил меня к ним напоказ в канцелярию, как будто не говорил, что я с завтрашнего дня должен буду работать с ними подписаренком. А я стоял посредине канцелярии и не знал, что мне делать, куда мне себя девать. На мое счастье, в это время от Ивана Иннокентиевича вышел отец.
– Чего стоишь? – сказал он мне. – Ступай теперь на фатеру к тетке Татьяне. А завтра уж с утра заявишься сюда. Пошли.
Мы вышли из волости. На дворе группами сидели и лежали те же мужики. Тут же мы встретили дедушку Митрея, который только что принес откуда-то ведро пива.
– Ну, как дела-то? – поинтересовался он. – Были у самого-то?
– Да вроде в порядке, – ответил отец. – Сказал, завтра приходить на занятие.
– Ну, если сказал приходить – значит, все идет как следует. Теперь уж старанье нужно…
– Ты тут, сват, уж досматривай за парнем, – обратился отец к дедушке Митрею. – Чтобы он, значит, не баловал здесь, доходил до всего.
– А сам-то ты почаще сюды наведывайся, – посоветовал дедушко Митрей. – Следить за ним надо. Ты забеги-ко к Оксинье Ларивоновне. Она ведь тебе родня. А Иван Фомич ей деверем приходится. Пусть попросит его за парнем приглядывать.
– И то правда. Как это мне самому-то не втемяшилось? Да ведь на покосе она.
– Дома сидит. Вчерась видел ее. От фершала шла. Парнишко у нее хворает.
– Тогда надо заехать.
И мы пошли с тятенькой за ворота.
– Ну, теперь иди на фатеру, – напутствовал меня отец, усаживаясь в тарантас. – А завтра являйся сюда пораньше. Да слушай, что тебе будут говорить. Вникай! А может, к Оксинье Ларивоновне заедем?..
Мне не очень хотелось идти на квартиру к Малаховым. Тетка Татьяна с утра на покосе. И будет только к вечеру. Значит, я один буду весь день сидеть в пустом доме да ждать ее приезда. Нет, уж лучше побуду еще с отцом, заеду с ним к тетке Оксинье, а оттуда провожу его домой, в Кульчек.
Тетку Оксинью мы застали дома. Она очень обрадовалась нашему приезду и сразу поставила самовар. А потом стала снаряжать на стол. И все жаловалась на то, что совсем извелась последние дни. Сенокос пришел. Работать надо. А тут парнишко заболел. То ли обкормила его, то ли на солнце, варнак, перегрелся. Совсем было извелся. Спасибо фершалу. Дал какие-то порошки. Сегодня ребенок и спал спокойно, и желудок вроде наладился. Дальше тетка Оксинья спросила про своих родных, как они живут там в Кульчеке.
– Лаврентий на прошлой неделе в волость кого-то привозил, так забежал на минуту. Посидел немного и уехал. Я толком и не поняла, что там у них. То ли тятенька захворал, то ли мамонька. Мамонька-то, слава богу, у нас пока ничего. За седьмой десяток перевалило, а ни на что пока не жалуется. Я больше за тятеньку боюсь. Семья большая, работы много. А он лезет везде. Куда надо, куда и не надо. Надорвется еще…
Выговорив все, что у нее наболело и что она считала важным непременно нам рассказать, тетка Оксинья усадила нас пить чай и наконец спросила, зачем это мы заявились в Кому в сенокос да еще в будни, когда дорога каждая минута. Тут отец объяснил ей, что он привез меня отдавать в волость в подписаренки, что здоровьишко у меня не ахти какое и что для этой каторжной мужицкой работы я все равно мало соответствую.
– Ну что же… Может, так-то даже и лучше. Может, в люди парень выйдет, если будет стараться. Но только я тебе скажу – в волости работа тоже нелегкая. Это только говорят, что там сидят, мол, люди на легких ваканциях. А на самом деле там часто ой как трудно бывает. У нас Ваня приходит иной раз оттуда прямо сам не свой.
– Известное дело, – рассудил отец. – Тут по своему-то хозяйству умишком раскинешь, и то голова кругом идет. А большое ли наше хозяйство. А там ведь целая волость. Двадцать деревень.
– А осенью, когда на мужиков подати накладывают, так там ночей не спят. Всё считают, считают! Писаря-то со всей волости съезжаются со своими старостами. Сами-то насчитывать не умеют, ну и норовят все к нашему Ване. Один просит помоги, другой просит. За неделю-то, пока подати эти раскладывают, парень так изведется, и не узнать. Вроде лихоманкой хворал. Вот тебе и легкая ваканция!
Долго еще тятенька с теткой Оксиньей толковали о волости и о волостных начальниках. Наконец он спохватился, что ему давно пора ехать домой.
– А мы к тебе ведь с докукой, – сказал он на прощанье. – Ты уж попроси Ивана Фомича, чтобы он немного доглядывал за парнем там в волости, приструнивал бы его как следует.
– Как же, как же, – сказала тетка Оксинья. – Свои ведь. И Ваню попрошу привечать. И сама буду узнавать, как он там поведет себя. Коваленковы-то тут рядом живут. В случае чего и у них всегда можно узнать…
Домой отец поехал горами, через Тон. Я решил его проводить. Дорога из Комы к Тону все время идет в гору до самого Симистюля. Поэтому мы ехали все время шагом. Отец молчал и сосал трубку. Изредка он как бы спохватывался, что ему надо поторапливаться, и понукал Гнедка. Но потом опять впадал в свою молчаливость. Видимо, он все передумывал, что сегодня он видел и слышал и в волости и у тетки Оксиньи.
Я тоже молчал и тоже думал. Но мои думы были связаны почему-то не с волостью, а с дорогой, по которой мы медленно поднимались на Симистюль. Комские ездят по ней на свои пашни и покосы. Меня же эта дорога, если я даже только смотрю на нее, непременно уводит к нам в Кульчек. Может быть, это потому, что я по ней много раз ездил к себе домой, когда учился в комской школе. Особенно запомнились поездки с братом, когда он приезжал за мной накануне пасхи и увозил меня на целую неделю на каникулы.
А пасха приходится у нас часто на самую распутицу, когда с гор бросается весенняя вода и сносит все мосты. Тогда в Кульчек надо пробираться на верховых через горы по Подтонью. А это дело не такое простое, так как приходится проезжать несколько ключей, по которым с шумом и ревом катится весенняя вода. И как только мы выезжали из Комы, то сразу начинали думать, как нам перебраться через Симистюль, как бы не накупаться в Казлыке и в других безымянных логах. Помилуй бог! Чуть не сообразишь, в каком месте лучше переехать какой-нибудь ерундовый ложок, так и ухнешь вместе с конем в какую-нибудь яму. Попробуй потом из нее выбраться. Хорошо, если благополучно вылезешь. И мы, конечно, много раз купались с Кононом во время этих поездок. Тонуть, правда, не приходилось, потому что Конон хитрый и смелый. И сразу видит, как лучше проехать в опасных местах.
Зато как хорошо, когда приедешь домой. Сколько разговоров о том, что хоть и перемокли, и даже накупались, но не ушиблись, не покалечились и, слава богу, благополучно добрались до дома.
А как хорошо идти в Кульчек из Комы пешком около троицы. Весна в полном разгаре. Деревья, трава, хлеба на полосах – все в самом соку, все густо зеленеет и как бы радуется жизни. Цветов видимо-невидимо. Даже хмурый Тон весь покрыт высокой густой травой и выглядит приветливее, чем обычно. Птицы все время перепархивают с куста на куст. Где-то невдалеке о чем-то кукует кукушка. Даже комары не особенно надоедают. Сорвешь несколько березовых веток и спокойно отмахиваешься. А идти интересно. Дорога идет больше березняками с широкими полянами, покрытыми сплошным ковром ярких цветов. Место высокое. Идешь и обозреваешь и комские, и чернавские, и безкишенские пашни. Все они со своими сопками, стрелками, солнопеками и заветерами виднеются где-то внизу. Дальше, за темным анашенским бором, голубеют таинственные горы за Енисеем. А пройдешь Тон – впереди высится громада Шерегеша. Стоит огромный и какой-то торжественный. И стоит прямо над нашим Кульчеком. А от Тона начинаются уж наши кульчекские пашни. А недалеко за Хмелевкой и наша пашня. Идешь и вспоминаешь, как ты там боронил, возил копны, как потом начал косить и жать. Вспоминаешь, как мы неделями жили там с братом на пашне. Он с восходом солнца выезжал с сохой на полосу, а я корчевал березовые пни на старой заброшенной залежи.
Наконец мы выехали на Симистюльскую гору. Пришло время расставаться. Отец слез с тарантаса, поправил шлею на Гнедке, подтянул перетягу и долго-долго что-то возился с супонью. Он затягивал ее и вновь распускал, опять затягивал и завязывал и опять отпускал. И все что-то ворчал про себя. Я стоял около тарантаса и не мог понять, почему он так долго валандается с этой супонью. Тем более что и супонь-то исправная. Я сам запрягал утром Гнедка. Наконец он последний раз затянул и завязал ее, поправил на Гнедке еще раз шлею, подтянул перетягу и подошел ко мне.
– Ну, брат, оставайся. А я поеду. А то дома уж заждались меня. В это воскресенье мать ты уж не жди. А на следующей неделе она приедет понаведать тебя. Ну, я поехал…
Отец слегка тронул Гнедка и медленно, не оглядываясь, поехал вниз в Симистюль. Я долго стоял на дороге и смотрел ему вслед. А потом, когда он скрылся за поворотом, поднялся на высокий чудской курган недалеко от дороги. С него хорошо была видна вся противоположная сторона Симистюля. Дорога медленно наизволок поднималась там в гору. Она то скрывалась за березками, то опять шла чистым местом. Я сел на курган и стал смотреть, как отец медленно едет в гору. Гнедко шагисто, без понуканий, идет по дороге. Он, вероятно, доволен, что наконец-то кончилась эта длинная комская морока с непонятными ожиданиями то у одного, то у другого дома. Отец чувствовал, конечно, что я стою на этом чудском кургане. Но он не оглядываясь ехал шагом в гору, пока не скрылся за крутым поворотом в густом березняке.
Долго еще сидел я на кургане и смотрел на дорогу, по которой отец уехал домой. Я знал, что теперь он едет уж не шагом, а крупной рысью, и хорошо понимал, почему он не оглядывался и не подавал мне с той стороны никаких прощальных знаков. Он понимал, что, может быть, навсегда отвез меня из родного дома и отправил в чужие люди искать свою судьбу…
ПОДПИСАРЕНОК
Глава 1 ВОЛОСТЬ
Я пришел в волостное правление, когда дедушко Митрей только что начал там свою утреннюю уборку.
Я тихо прошел через сени в прихожую и уселся на скамейку.
– На занятие явился? – сразу заметил меня дедушко Митрей.
– Явился… – не очень уверенно ответил я.
– Рановато пришел. Никого еще нет. У кого жить-то будешь?
– У Малаховых…
– Ну что ж… У них тебе будет неплохо. Вот только до волости далековато. Ну да ничего… Молодой еще. Я в твои годы-то бегал как угорелый. И откуда только сила бралась. А теперь совсем здоровья не стало. Сегодня, думал, не встану. Ноги ноют, спина гудит, а голова вроде мякиной набита. К дождю, что ли… Кое-как размялся. Того и гляди, писаря придут, а у меня еще не прибрано. Вон Фомич уж идет. И чего его черт несет в такую рань…
И дедушко Митрей торопливо стал протирать столы и подоконники в канцелярии.
Иван Фомич, о котором нам с отцом рассказывала вчера тетка Оксинья, оказался невысоким, довольно полным человеком лет двадцати пяти в черном картузе, в синей сатинетовой рубахе со шнурком вместо пояса, в черных брюках навыпуску. Проходя через прихожую, он кивнул мне, поздоровался с дедушкой Митреем и стал ходить взад и вперед по канцелярии. Он был, видимо, в хорошем настроении, потому что все время чему-то улыбался и мурлыкал какую-то песню. А потом сел за стол и стал читать откуда-то появившуюся у него газету. За чтением он то смеялся, то ругался и в заключение кликнул дедушку Митрея.
– Чего тебе? – недовольно отозвался дедушко Митрей.
– Не чевокай, когда тебя зовут по делу. Ты кто такой будешь? Спирин, Димитрий Васильевич? Да? – строгим голосом спросил Иван Фомич.
– Ну, Спирин… – неохотно ответил дедушко Митрей и вышел с веником и тряпкой из комнаты Ивана Иннокентиевича.
– Ты что здесь делаешь?
– Как что! Видишь, пол подметаю, столы вытираю.
– А кто ты есть такой?
– Кто есть, тот и есть.
– Ты отвечай как следует, когда тебя спрашивают… – строго сказал Иван Фомич. – Здесь, в волости, ты кто? Старшина? Заседатель? Судья? Ходок?
– Ну, сторож я… Ты что, не знаешь, что ли? – Дедушко Митрей уж не понимал: шутит с ним Иван Фомич или допрашивает по-настоящему.
– И давно ты тут сторожишь?
– Да давненько уж. Сначала ходоком был, почту по деревням развозил, а теперича, значит, волость охраняю…
– Ну и что ты тут думаешь выслужить?
– А что я здесь выслужу? Служу – этот год за улазских, лонись служил за коряковских, а еще раньше за медведевских. Им самим-то сидеть здесь невыгодно, вот и нанимают меня. Сорок рублей в год получаю, на своих харчах. Это все-таки деньги. На дороге не валяются.
– А благодарности от них ты имеешь?
– Каки таки благодарности?
– Ну, благодарят они тебя как-нибудь за хорошую работу? К пасхе, к рождеству?
– Разевай рот шире! Отблагодарят! Они сами норовят, как бы с меня благодарность сорвать. Как наймут, так и требуют магарыч. Улазскому старосте выставил осенесь две бутылки да ведро пива. Даже не угостил, сукин сын! Все сам вылакал.
– Вот видишь как! А ведь другим сторожам награды дают за хорошую работу, медалями награждают.
– Это где же их так ублажают?
– А вот слушай! – Тут Иван Фомич взял свою газету и стал читать: – «Государь император по всеподданнейшему представлению г. министра финансов в первый день января 1914 г. всемилостивейше соизволил пожаловать за особые заслуги и отлично усердную службу золотые медали с надписью „За усердие“ для ношения на груди на Аннинской ленте сторожам Енисейской казенной палаты: отставному рядовому Михаилу Шатову и запасному ротному барабанщику Петру Клявину…» Хочешь иметь такую медаль? Похлопочем. Завтра же напишем крестьянскому начальнику. А там пойдет дальше.
– А деньги за нее платят? – сразу оживился дедушко Митрей.
– За медаль? Нет, не платят.
Дедушко Митрей подумал немного и потом решительно заявил:
– Тогда не хочу. Не хлопочите.
– Вот те раз! Тебе что – не нужна медаль?
– А для чего мне она, если за нее не платят? Вон Кузька Анашкин пришел с японской с Егорием, и Белошенков отхлопотал ему за этого Егория большие деньги. Вот это я понимаю – награда!
– Ты что же, спиться хочешь, как Кузьма Анашкин?
– Чево?
– Я говорю, ты что хочешь, вроде Кузьмы Анашкина, спиться на даровые деньги?
– Не хочу спиться. Просто не надо мне никакой медали, если за нее не платят. К чему мне она?
И дедушко Митрей направился к выходу.
– Постой, постой! – окликнул его Иван Фомич.
– Ну, чево тебе еще?.. – спросил его дедушко Митрей.
– Я еще со вчерашнего дня дома не был, – просительным тоном начал Иван Фомич. – Пойду спать. Если будут спрашивать, так ты скажи, что я к приходу почты обязательно буду.
– Прогулял, поди, всю ночь? – ворчливо сказал дедушко Митрей.
– Прогулял не прогулял, а надо пойти соснуть.
Тут Иван Фомич снова что-то замурлыкал и отправился домой.
– Вот смотри да наматывай на ус, – многозначительно сказал мне дедушко Митрей. – Умнеющий человек. Главный помощник у Ивана Акентича. Вся волость на нем держится. А гляди, что винище-то делает. Пьянствовал, видать, всю ночь. И дома уж не ночует – вот до чего дошел. Ох, пошатнулся народ. Покорежился. Как и жить будет? В каталажку в нашу так и везут со всей волости. И все за пьянство да за буянство.
– А какие это мужики во дворе сидят, дедушко Митрей? На подамбарье?
– Да они самые и сидят – волостные арестанты. Отсиживают свой строк.
– А почему они не в каталажке?
– В каталажке, брат, душно. В каталажку мы их толкаем, когда пристава али крестьянского ждем. А так они сидят у нас на вольном воздухе. Летом – на подамбарье, под навесом, по всему двору. Кому где удобнее. А зимой в сторожке с ямщиками и ходоками. Вина пить им не позволяем, за ворота не пущаем. Разве уж так – посидеть вечером на лавочке, когда начальства нет. А трезвые-то они ведь люди как люди.
И дедушко Митрей ушел к себе в сторожку, а я остался в прихожей ждать писарей. Вскоре сюда стал собираться народ по разным делам к волостному начальству. А кое-кто явился на почту. Оказывается, при волостном правлении производились почтовые операции, и ведал ими сам Иван Иннокентиевич.
Одни пришли сюда пешком, другие приехали на тарантасах, а то и на телегах по дороге на пашню. Тут же с утра торчали ямщики, которые отбывали при волостном правлении гоньбу. В любую погоду они должны были ехать по волости с почтой или везти куда-нибудь по делам волостных начальников. Скоро маленькая прихожая до отказа набилась народом. Мужики сидели на лавках и на скамейках, говорили о погоде, о сенокосе и лениво матюгали волостных писарей, что они так поздно приходят на работу.
Первым прибежал в канцелярию Петька Терсков и как угорелый начал записывать в толстый журнал какие-то бумаги. Потом появился Павел Михайлович. Он был много старше Ивана Фомича. Бритый, с длинными висячими усами, с короткими ершистыми волосами, в аккуратном сером пиджаке, он показался мне почему-то очень строгим. В прихожей к нему сразу же бросилось несколько человек. Но он молча, не говоря ни слова, прошел в канцелярию, уселся там за свой стол, разложил на нем какие-то дела, свернул не торопясь цигарку и только после этого подозвал к себе какого-то просителя.
Позже всех пришел Иван Осипович. Он был совсем еще молодой. Одет был, как и Иван Фомич, по-летнему, в рубашку с гарусным шнурком вместо пояса и темные брюки навыпуску. Но только рубашка у него была новая, брюки в складочку, а штиблеты начищены до блеска. И выглядел он празднично, как именинник. Его длинные черные волосы были аккуратно зачесаны, а лицо, изъеденное оспой, было почему-то очень бледное. Как только он уселся на свое место, его сразу же окружило несколько человек.
А я сидел и сидел в прихожей. Павел Михайлович и Иван Осипович второпях меня, видать, не заметили, а подойти к ним я не решался. «Может, заседатель Ефремов, – думалось мне, – придет и заставит меня что-нибудь делать». Но и заседатель почему-то не приходил. Теперь у меня оставалась одна надежда на Ивана Иннокентиевича. Но я и сам понимал, что это была плохая надежда. Пришел он только к полудню, в шляпе, с толстой тростью с золотым набалдашником. Сегодня он дышал тоже с хрипом и свистом. Тем не менее у него, как и вчера, было веселое настроение. Окруженный посетителями, он прошел в канцелярию, сказал помощникам: «Здравствуйте, господа!» – и скрылся в своей комнате. А я так и остался сидеть в прихожей.
Мне было это до слез обидно. Но все же я как-то укрепился и не раскис. А потом стал присматриваться к тому, как работают Павел Михайлович и Иван Осипович. Около Павла Михайловича народ особенно не задерживался. А Иван Осипович, тот сначала поговорит с человеком, потом начнет что-то искать в книгах, потом напишет что-то и с этим написанным идет к Ивану Иннокентиевичу. А то сразу напишет несколько бумаг и отнесет их ему. А просители, которым он напишет эти бумаги, уже толкутся около дверей Ивана Иннокентиевича или прямо лезут к нему в комнату.
А Иван Иннокентиевич сидел у себя за закрытой дверью и принимал этих посетителей. Принимал он их по одному – тихо, спокойно. Но иногда оттуда слышался шумный разговор. Это Иван Иннокентиевич отказывал кому-то в какой-то просьбе. И люди выходили от него то с какими-то бумажками, а то с пустыми руками. Те мужики, которые выходили с бумажками, были очень довольны. А те, которые выходили без всяких бумажек, были очень сердиты. После их ухода Иван Иннокентиевич, видать, тоже некоторое время сердился.
Иногда Иван Иннокентиевич звал к себе Павла Михайловича или Ивана Осиповича, а иногда сам выходил к ним и что-то спрашивал.
А один раз, когда в прихожей уж никого не было, а в канцелярии стояло только три человека около Ивана Осиповича, он вышел очень сердитый.
– Как же это так, Иван Осипович, вы ссыльнопоселенцу выдаете нормальный паспорт?..
– Но по справке от старосты он числится крестьянином, имеет домообзаводство, исправно платит подати.
– Это на порядок выдачи паспортов не распространяется. Канышев, – обратился он к мужику, который с сердитым видом стоял около Ивана Осиповича. – Вы ссыльнопоселенец?
– Крестьянин я, – ответил Канышев.
– Но из ссыльных?
– Ну, из ссыльных. Уж без малого пятнадцать годов состою в крестьянстве.
– Вот видите, – обратился опять к Ивану Осиповичу Иван Иннокентиевич. – Надо проверять все эти справки. Хорошо, что я случайно помню, что Канышев поселенец. Так что исправьте ему в паспорте так: предъявитель сего Енисейской губернии, Минусинского уезда, Комской волости, деревни Коряковой крестьянин ИЗ ССЫЛЬНЫХ Василий Алексеевич Канышев уволен в разные города и села Российской империи в пределах Восточной Сибири… Понимаете – крестьянин из ссыльных и в пределах Восточной Сибири… Всем поселенцам, прожившим не менее десяти лет на месте приписки или перечисленным в крестьяне, мы можем выдавать паспорта, но только на Восточную Сибирь… Понимаете? На ВОСТОЧНУЮ СИБИРЬ. Вы куда, Канышев, хотите ехать?
– На родину хочу ехать. В Расею.
– Поезжайте, Канышев, куда хотите. Но мы за вас не в ответе. Мы отпускаем нас только по Восточной Сибири…
– Это как же понимать… по Восточной Сибири?
– Значит, в пределах Иркутского генерал-губернаторства – Енисейская и Иркутская губернии, Забайкальская и Якутская области.
– Мне надо в Тамбовскую губернию.
– Городской или деревенский был на родине-то?
– Деревенские мы… Может, знаете Моршанский уезд, село Голощекино?
– Ну и поезжай с богом. Только не останавливайся надолго в городах. Повидаешься с кем надо – и домой. Сейчас везде спокойно. А если какая заваруха начнется, сразу возвращайся. Когда собираешься ехать-то?
– Да после страды уж. Управлюсь с хлебом и поеду…
– Ну, благополучного тебе пути, – сказал Иван Иннокентиевич, подписал исправленный Иваном Осиповичем паспорт и вручил его Канышеву. Тот осторожно взял паспорт и вышел в прихожую. Здесь он смачно сплюнул в угол и ушел.
А Иван Иннокентиевич продолжал строчить Ивана Осиповича:
– …И могилевским выдаете нормальные паспорта. Они же еврейки… Вы же сами пишете – иудейского вероисповедания. Значит, надо добавить: уволены в разные города и села Российской империи в черте еврейской оседлости. Понимаете, в черте еврейской оседлости. Всем евреям мы выдаем паспорта обязательно с такой оговоркой… Вы куда едете, Фейга Моисеевна? – спросил он одну из женщин, которая была постарше.
– Во Владивосток.
– Ну и прекрасно. С таким паспортом вы можете ехать куда угодно, кроме столичных городов.
– В столичных городах нам делать нечего, – сердито ответила Фейга Моисеевна.
Хотя эти женщины и получили паспорта, но ушли из волости чем-то недовольные. После этого в канцелярии на некоторое время установилась тишина. Иван Иннокентиевич ушел в свою комнату, Иван Осипович с обиженным видом рылся в бумагах, а Павел Михайлович что-то писал за своим большим столом.
Я уж подумывал, не пойти ли мне теперь к Ивану Иннокентиевичу? Подумывать-то подумывал, но так и не пошел. Не очень-то пойдешь к нему, когда он даже Ивана Осиповича так отчитал. И я по-прежнему остался сидеть в своем уголке в прихожей.
Скоро в волость стал собираться новый народ. Сначала пришел комский писарь Родионов, высокий, нескладно скроенный молодой человек. Он принес какие-то бумаги и сразу же вручил их Петьке. После него заявился кругленький, лысенький, наголо бритый человек в вышитой белой рубашке, в брюках навыпуску. Он как-то вкрадчиво поздоровался со всеми, осторожно посмотрел в другую комнату на Ивана Иннокентиевича, повертелся некоторое время в канцелярии и незаметно ушел. Оказывается, это был тот самый Белошенков, который писал мужикам всякие жалобы и прошения по начальству.
Потом пришел старшина и привел с собой какого-то старика из богатых комских мужиков. Старик этот почему-то все время подхихикивал и всем подмигивал, а со старшиной говорил какими-то многозначительными намеками. И старшина был уже не тот, который наезжал к нам в Кульчек выколачивать подати. Тот был высокий, чахлый, бритый, с обвислыми усами, а этот здоровый и румяный, со стриженой бородой и стрижеными усами. Он заглянул в комнату Ивана Иннокентиевича, а потом уселся за стол Ивана Фомича и стал рассказывать, как у комского богача Тимофея Зыкова дочь съездила нынче весной на пароходе в Красноярск, прожила там две недели и за это время научилась говорить по-городскому, по-образованному.
– Тимофея она зовет теперь папаней, а Анну – маманей, – рассказывал со смехом старшина. – Сестренку Настю кличет Тюней, а брата Микишку величает Миком…
– А телегу называет екипажем, – подхватил старик. – Папаня, говорит, с утра запрёг в екипаж Пегануху, а маманя собрала и сложила в него все наши шундры-мундры…
– При нас она учила их есть по-образованному, – продолжал старшина. – Прямо умора! Налила всем по отдельной тарелке и сует под нос каждому. «Теперича, – говорит, – дохтура запрещают есть из общей чашки». А Тимофей смотрел, смотрел на все это, потом плюнул и говорит: «Ты хоть при добрых людях-то не страми меня со своим городским обхождением!» Потом пошел в куть, принес оттуда большую хлебальную чашку, вылил в нее из всех тарелок щи и говорит: «Пусть в городе едят по-городскому, а мы в деревне будем есть по-своему, по-деревенски». Сказал это и сунул ей ложку в руки: «Ешь, – говорит, – из общей чашки, лахудра этакая, пока я тебя по-деревенски не отдубасил!» Та, конечно, в слезы. Ну, куды там… Мужик так завелся, что, того и гляди, за перетягу возьмется. Тут мы с Епифаном уж стали его уговаривать. Брось, говорим, Тимофей. Не растравляй себя. Может быть, в городе и на самом деле ездят в екипажах, а едят каждый наособицу с отдельных тарелок.
Пока шел разговор о Тимофее Зыкове и его дочери, в волость пришел урядник – плотный человек невысокого роста, в полной полицейской форме, с саблей и револьвером. Он поздоровался со всеми, заглянул в комнату Ивана Иннокентиевича и важно расселся в канцелярии ждать почту из Новоселовой.
Наконец в волости появился Иван Фомич. Он, видать, не особенно торопился сюда. А может быть, у него сегодня не было здесь срочной работы. Он сразу же заметил меня в прихожей:
– Ты что тут сидишь?
– На занятия пришел, а работы не дают, – чуть не со слезами ответил я.
– Ай, ай, ай! – укоризненно промолвил он. – Это никуда не годится. Тебя как звать-то?
– Иннокентием… – ответил я.
– Обожди немного. – Он прошел в канцелярию и через минуту позвал меня. – Ты не топчись там в прихожей. Утром, как придешь, сразу садись на мое место. А потом я тебя уж устрою… Петька! Как у нас там гектограф?
– Ничего не берет, Иван Фомич. Надо перетапливать.








