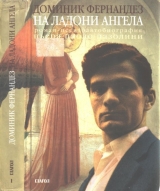
Текст книги "На ладони ангела"
Автор книги: Доминик Фернандез
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 38 страниц)
12
Мы не вернулись в Болонью после пасхальных праздников. Мама оставила нас с собой в Касарсе, где, она думала, мы будем защищены от бомбардировок. Долгие каникулы, которыми мы с Гвидо, нашим кузеном Рико (сыном тети Энриетты), и Сезаром Бортотто, нашим другом, сбежавшим из Болоньи, не преминули воспользоваться, чтобы изучить деревенскую жизнь, заглянуть к крестьянам на их фермы, записать, сидя у камелька, устные фриулийские традиции, обогатить свои познания диалекта и поучиться остроумию народа, равнодушного к судьбам Рима.
Вечером 25 июля, один сержант карабинеров к нашему всеобщему удивлению написал на стенах церкви «ДА ЗДРАВСТВУЕТ СВОБОДА». Четырнадцатилетний Рико выронил из рук банку с краской и убежал в поле. Бортотто, побледнев, застыл как вкопанный. Я держал в руке кисть и готов был в любую секунду смыться. Гвидо отважно подошел к унтер-офицеру. Тот слегка повел бровью в знак признания, смешанного с удивлением. И добродушно потрепал его за ухо. В нашем распоряжении была только черная краска, красную берегли, чтобы поярче отпраздновать падение Муссолини.
Еще одно воспоминание о пролитой на землю краске осталось у меня отлета 43-го: ночные луга вдоль железной дороги и мириады светлячков, мерцающих во мгле. Я очутился тогда в Пизе, меня с первого сентября призвали в армию. На следующий день в казармы вошли немцы и запихали всех в поезд, следовавший в Бреннер. Состав, состоявший из двух деревянных вагонов третьего класса, в которых нас заперли, рассовав по купе, тронулся в путь, когда уже стемнело. У дверей в конце каждого вагона стоял часовой.
Поезд то и дело останавливался в открытом поле. Мой сосед, южанин, носил на шее медальон с портретом своей матери. Он также счел необходимым показать мне выгравированного на обратной стороне слона Катании с обелиском на спине. Как ему удалось незаметно для охранников опустить окно? «Будь наготове», – шепнул он мне ни с того ни с сего на ухо. Состав часто застывал посреди бесконечных лугов, обрамленных вдалеке приморскими соснами. Другие новобранцы дремали в тусклом свете ночников, словно голубоватые призраки, унесенные в неизвестность. Чтобы побороть сон, я заставлял себя считать светлячков: невыполнимая задача, так как они беспорядочно вспыхивали и угасали, словно звезды на небе. Мне приглянулся один, как мне показалось, очень крупный светляк. Я изо всех сил пыжился не отвести от него взгляд.
«Быстро», – шепнул мне сицилиец, которого я и не думал просить взять меня с собой в побег. Я видел, как он поднес к губам свой медальон, поцеловал мамин портрет, перекрестился, проворно перекинул ноги и соскользнул в заполненную водой канаву, которая тянулась вдоль дороги. Я сиганул за ним так быстро, как только мог, и распластался на животе рядом с ним. Поезд уже тронулся с места. От страха, что часовые на подножках могут нас заметить, нам пришлось сунуть голову в воду.
Когда я приподнялся, то первое, что ощутил, был не холод оттого, что я весь промок, и не радость оттого, что я избежал депортации, а изумление от мерцающего танца светлячков. Они обменивались в прозрачном ночном воздухе своими мистическими сигналами прямо у меня перед носом. Морской ветер ласкал волнами вздымавшиеся и опускавшиеся луга, усыпанные россыпью карбункулов. Мой приятель уже отжал свою куртку и брюки и начал переодеваться. А я все еще пребывал в экстазе от этого светящегося танца, который залил зеленовато-голубым свечением все поле.
«Ты не ушибся? – спросил он меня, присев рядом на корточки, чтобы перешнуровать свои солдатские ботинки. – Надо тикать, а то если пойдет другой поезд…» Мы добежали до опушки леса. Могучие сосны раскачивались над нашими головами густыми ветвями своих верхушек.
Сицилиец сказал мне, что я околею, если не сниму с себя мокрую одежду. «Скидывай догола» Его резкий нелюбезный голос как-то не сочетался с его намерениями. «Это тоже снимай» Я чуть было не спросил его, почему он проявлял ко мне такую заботу, но у меня вырвался другой – дурацкий – вопрос.
– Слушай, слон Катании, он тебе к чему?
Я перестал выжимать трусы и показал пальцем на медальон.
– Это обет, – сказал он с суровым видом.
Слова эти дались ему нелегко, и он выдохнул из себя еще одну фразу:
– Меня зовут Таддео.
– Красивое имя.
Его темное лицо на мгновение озарилось каким-то внутренним блеском. После чего столь стремительно, что я даже не успел понять, что со мной происходит, он подошел ко мне и поцеловал в губы, вслед за чем он развернулся на каблуках и бросился во все лопатки на своих коротких сицилийских ногах куда-то за деревья.
Я сел, как был, под сосной, даже не переодевшись. Я помню, как провел несколько раз рукой по губам и смотрел после этого на свои пальцы, пытаясь разгадать по ним смысл этого жеста, который я даже не решался назвать поцелуем. «Таддео, – взволнованно повторял я вполголоса, – Таддео». Я пытался вспомнить его лицо: узкий лоб, густые брови, загнутый вперед подбородок. «Ба! – подумал я, – да ведь я же южнее Флоренции никогда и не ездил, обычаев их южных и не знаю. Туридду кусает своего компаре[17]17
крестного.
[Закрыть] Альфио за ухо в знак того, что они будут драться на ножах».
Неужели широта так влияет на яркость светлячков? Никогда я не видел во Фриули их в таком количестве, да еще таких ярких. Я мог бы до бесконечности смотреть, как очарованный, на них, не замечая как бежит время. В двухстах метрах пронесся с жалобным гудком состав на север. Вроде того, из которого меня вытащил Таддео. Поезд вернул мне чувство опасности. Весь свет в вагонах, в которых спали солдаты, был потушен. Если бы не светлячки, которые не давали мне уснуть, Таддео сбежал без меня. Это последнее, что я подумал о сицилийце, которого я больше никогда не видел.
Если то, что я предполагаю сегодня относительно его невинного поцелуя, является правдой, тогда я надеюсь, что, стоя между своей женой, которую ему выбрала его мама, и слоном на площади перед собором, он не клянет себя с горечью, что лучше бы в ночь побега с незнакомым парнем он сорвал с себя медальон и бросил его в траву.
Я отмотал почти сто километров пешком, прежде чем решился сесть на поезд во Флоренции, на другой ветке. В Касарсе меня встретили как героя. Один только Гвидо сказал мне таким же двусмысленным как и его слова тоном: «Поздравляю, что сумел сбежать». Потом я узнал, что в мое отсутствие он несколько раз рисковал своей жизнью, воруя оружие у немцев в их расположении в Касарсе. Ренато, один из его друзей, потерял при этом руку и глаз.
Смерть двух часовых, убитых партизанами, повлекла за собой первую зачистку. Мужчины попрятались в полях, а мы с Рико залезли на церковную колокольню. Мы укрывались там двое суток. Я захватил с собой кожаный портфель со всеми черновиками и последний том по истории литературы. Американские самолеты пикировали над вокзалом и обстреливали немецкие эшелоны. Мост через Тальяменто разбомбили, колокол после этого раскачивался несколько минут. Рико глядел через церковные бойницы, как немцы носились в разные стороны по всей площади. Мне, наверно, нравилось пьянящее чувство опасности и головокружительное ощущение одиночества посреди великих исторических потрясений. Но по-настоящему меня занимали только две вещи. 1. Хватит ли нам хлеба до того, как мы сможем спуститься после ухода немцев? 2. Пиранделло и Свево, которыми я восхищаюсь, прославились только к пятидесяти годам. Этот фигляр Д’Аннунцио стал знаменитым в двадцать. Итак, мне нравится слава, но доживу ли я до пятидесяти лет?
За эти двое суток изоляции я, пожалуй, упустил прекрасную возможность. Там, в восьмидесяти футах над землей, как Фабриций на колокольне аббатства Бланес, я так и не познал небесного счастья непричастности земному миру.
Гвидо остался дома, в окружении женщин. Итальянские солдаты в черной форме явились его арестовывать. Он успел перекинуться с мамой парой слов. В тот момент, когда он садился в фашистский грузовик, наша бабушка встала на колени перед офицером, умоляя освободить восемнадцатилетнего мальчика. Они заставили ее вернуться домой, приставив револьвер к ее сутулой спине. Сбиры с упорством переворачивали все верх дном, отпуская галантные шутки в адрес мамы, которая плакала в своей спальной. Они убрались, только когда она вытащила из старого ящика и показала им фотографию плененного в Кении капитана в обществе герцога д’Аосты. Гвидо, перед тем как его увезли, успел дать маме и теткам еще один знак. Под полом в его спальне они нашли гранаты, винтовки и патроны, которые он украл на военном складе. Он ничего не говорил мне про этот тайник. Мама с тетками целый день выносили оружие из дома, выбрасывая его в навозную яму.
Гвидо вернулся через три дня. Его допрашивали и избивали. Бабушка так и не отошла от его кровати. Она умерла через три недели. Джулия Закко, вдова Колусси, на семьдесят восьмом году своей жизни. Я сделал посмертный набросок с ее лица. Чтобы не падала челюсть, мама перебинтовала ее.
Американцы продолжали бомбить мост и железнодорожный узел в Касарсе. Ездить на поезде в Удине стало слишком опасно: родители больше не пускали детей в лицей. Я открыл что-то вроде частных курсов для своих кузенов и их друзей. Джованна Б., прятавшаяся в соседней деревне, приходила преподавать латынь и греческий. К нам присоединилась экспатриированная во Фриули молодая словенская скрипачка. Наши ученики сами сочиняли стихи, которые они распевали небольшими группками в окрестных деревнях, а Вильма Кальц аккомпанировала им на скрипке. Большую часть времени наших занятий занимало составление альманаха на фриулийском языке. Мы печатали лучшие стихи вместе с хроникой основных местных событий. Чтобы не разбегаться во время каникул, я основал свою «Малую академию», которая стала дружеским продолжением наших школьных занятий. Каждое воскресенье мы собирались у меня дома, или на ферме одного из моих учеников. Каждый читал вслух свои стихи или рассказы, а Вильма в изумленной тишине своих деревенских почитателей играла чакону Иоганна-Себастьяна Баха. Затем мы обсуждали стихи и проблемы языка, убежденные в том, что возрождали в своих творениях на диалектном языке величайшую народную традицию. Этот литературный кружок с его восторженной наивностью мог появиться только среди тех, кто заткнул себе уши, чтобы не слышать разрывы бомб на привокзальной площади.
В нашей столовой, переделанной в школьный класс, стояла покрытая черным лаком пузатая мебель с флористической резьбой, которую мой отец заказал в свое время у полкового столяра. Идиллическое счастье школьных часов и собраний моей Малой академии могла потревожить в моем сердце только ежемесячная почтовая открытка из Найроби.
Насколько скуднее становилось раз от разу их содержание, настолько жирнее становилась подпись. На первых открытках была изображена королева Виктория на троне в день ее коронации. За ней последовали король Георг V, лорд Балфур, Китченер и портрет Киплинга работы Берна-Джонса. Затем либо истощился запас славных ликов, предоставленных английской армией в распоряжение заключенных, либо пленник захотел нас впечатлить более уместным своему положению символическим языком, но он стал доверять свои «У меня все хорошо» то ползающему в жиже озера Родольфа крокодилу, то какому-нибудь другому представителю кенийской фауны. Эдакий ощипанный стервятник – вполне красноречивый образ отеческого декаданса.
«Таковы мои собратья по неволе, таков мой жребий!» – казалось, восклицал он. Когда же нам пришла вопиющей расцветки открытка с изображением колдуньи-негритянки, которая прыгала вокруг своего тамтама в опоясывающей ее эбеновую талию набедренной повязке из страусовых перьев, мы и не думали списывать это на внезапно проснувшееся в капитане любопытство к этнологии. Уж кто-кто, а он бы не стал копаться в тех книжках в фиолетовых обложках, что стали выпускаться издательством «Эйнауди Турин» под редакцией Павезе, и в которых я с помощью Фрезера, Малиновского и Фроберниуса не замедлил почерпнуть интересующие меня сведения о третьем мире, и в первую очередь об Африке. Мой отец – убежденный в превосходстве белой расы до такой степени, что мог кичиться каким-то своим сомнительным титулом – посылал нам весь этот тамтам исключительно в насмешку.
Мама не без содрогания читала эти весточки, приходившие в начале каждого месяца. В каком состоянии вернется с войны ее муж? Размеры подписи свидетельствовали о былом высокомерии. Но выбор шимпанзе в качестве почтальона говорил о глубине отчаяния и презрения к самому себе, до которого скатился солдафонский потомок Даль’Онды.
Больше всего меня поразила открытка с путешественником, на которого набросился тигр. Хищник подмял его под себя лапами, так что была видна только голова и плечи, и пожирал оторванную от его туловища руку, готовясь запустить свои когти в другую. Юный искатель приключений, нисколько не напуганный происходящим, хотя ясно осознающий свою участь, распластался на земле и не только не проявлял никаких признаков борьбы со страшной смертью, но делал это даже с каким-то покорным изяществом жертвы, сдавшейся на милость своего палача. Тиф разодрал его рубашку, из-под которой виднелась загорелая грудь сильного молодого тела.
Мама, как обычно, бросила открытку в корзину для бумаг, мельком проглядев пару ритуальных фраз, нацарапанных на обратной стороне. Движимый внезапным приливом чувств, я впервые решил достать открытку из мусора. Но вместо того, чтобы просто попросить ее сохранить, я подождал, пока мама вышла из комнаты, и схватив ее, словно воришка, унес в свою спальню, так чтобы никто не видел. Приколотая кнопкой к изголовью кровати, она стала для меня своего рода фетишем: перед тем как заснуть, я обращался к тигру со своеобразной молитвой, чтобы он разодрал меня своими лапами и устроил себе пир из моего тела. Путаясь в сонных мыслях, я представлял, как убегаю со всех ног по тропическому лесу от страшного зверя. Не столько, чтобы ускользнуть от его когтей, сколько для того, чтобы обострить отдаляемое погоней наслаждение своим фиаско. Как и путешественник, я в конце концов падал на пол и сдавался на волю победителю. О! как вонзаются в тебя острые когти, как перемалывают тебя челюсти и как смыкаются над тобою зубы полосатого зверя с изумительной шерстью!
Я хранил эту открытку в своей спальне вплоть до отъезда из Касарсы. Было бы крайне неискренне полагать, что в этих моих ежевечерних видениях, сопровождавшихся сексуальными фантазиями, отец, автор данного послания, не играл никакой роли. Кто, как не он, руководил из своей далекой Африки моими ночными грезами? Кто, как не он, насыщал мою кровь этой страшной смесью ненасытной жадности и комплекса вины? И, наконец, не под его ли покровительством мне были ниспосланы грех сладострастия и наказание за него, смешавшиеся в едином образе насилия и наслаждения?
13
Вильма Кальц научила меня любить музыку и то, как ее любить. Вместе с ней я прослушал по радио несколько симфоний Бетховена. До того времени я был способен оценить в симфонической музыке лишь пафос человеческих чувств или ассоциативное описание природы. И ничего прекраснее «Времен года» Вивальди для меня не существовало – так искусно передать скрипичными пиццикато ощущение моросящего зимнего дождя! Воссоздать в энергичных аккордах гром и молнии весенней грозы! Вильма с улыбкой прислушивалась к моим восторгам, после чего она своим нежным, спокойным голосом с очаровательной ноткой словенского акцента раскрывала мне музыкальные достоинства непревзойденного гения венецианца, предлагая, к примеру, признать вторичными эффекты подражательной гармонии, и обращала мое внимание на выбор тональностей: округлый и светящийся ми мажор для весны; взволнованный и меланхоличный соль минор для лета; лесной и полевой фа мажор, свойственный настроению осенней охоты; унылый, безутешный фа минор для зимы. Или на тонкости инструментовки: заметил ли я, как отсутствие виолончелей и контрабасов неожиданно раскрывало в медленном темпе вивальдиевской «Весны» прозрачность апрельского утра? Или как искусно были использованы в адажио «Осени» сурдинки, под которые в нашем воображении засыпали сборщики винограда после своих обильных возлияний?
Разумеется, эти тонкости ранее были неподвластны моему слуху. Я принадлежал к тем профанам, что с умным видом покачивают головой, когда в Шестой симфонии Бетховена им мимоходом слышится то журчание ручейка, то пение кукушки и перепела, то танец крестьян, то грозовые раскаты. Заменять ноты зрительными образами – одна из самых распространенных ошибок начинающих меломанов. Еще больше я краснел за свои ляпсусы, когда Роберто Лонги учил нас правильно смотреть картины, объясняя, что ценность картины составляет отнюдь не сюжет, а ее композиционная и цветовая гармония. Точно так же, убеждала меня Вильма, и гениальная музыка, она существует лишь как сочетание звуков. К чему изыскивать состояния души в том, что передает исключительно гармонию и ритм? Почему аллегро должно непременно соответствовать радостному порыву, а медленный темп – печальному туману? И ассоциируем ли мы автоматически определенный цвет с определенным чувством, красный – с приступом гнева, синий – с желанием покоя, а зеленый – с ностальгией по деревне?
Вильма привела мне в качестве примера звуковой конструкции, лишенной какого бы то ни было смысла, Седьмую симфонию Бетховена. Но когда я попросил ее объяснить это наглядно, вместо пианино, более подходящего, как мне казалось, для отвлеченных исследований, Вильма выбрала инструмент, который по-моему, хотим мы того или нет, воздействует непосредственно на наше сердце, повергая человека в состояние лихорадочного сплина, и, на мгновенье задумавшись, она взялась за смычок. Музыка, которую исполняют в оркестре, будь то скрипка или фортепьяно, и которую называют соответственно ноктюрном или баркаролой, капризной или убаюкивающей, не выражает ничего, кроме как самой себя, повторяла мне юная словенка с такой угрюмой настойчивостью, в которой мои робкие возражения, сопровождавшиеся покорными покачиваниями головой, безусловно не нуждались. Она хмурила брови и опускала взгляд, как будто хотела собрать все свои силы, чтобы изложить до конца свой решающий аргумент. Кто угодно бы на моем месте почувствовал, какие важные для себя позиции она отстаивала. Ее любимые куски опровергали ее же собственные слова. Она сыграла мне «Сон любви» в переложении для скрипки: плоский, чересчур пленительный романс, как она затем сказала, «дурного Листа»; а я, вместо того, чтобы догадаться, что она придерживалась этой точки зрения только из гордости и нежелания раскрывать свои чувства, соглашался с нею.
Странные воспоминания – все эти бесконечные летние посиделки. После того, как мы отпустили своих учеников, я показал Вильме свой чердак, который я снимал в Версуте, в ближайшей к Касарсе деревушке. Я вытащил на балкон два плетеных стула. Перед нами во мгле простиралась равнина, обрамленная вдалеке кустарником, резкие черные силуэты которого тянулись вдоль Тальяменто. Кукурузные поля колыхались под ветром, а светлая ленточка канала, в которой отражались последние солнечные лучи, отливала серебром между двойной изгородью стройных тополей. С другой стороны, к западу, свет заката вышил пурпурной каймою уплывающие к морю облака. По разъезженной дороге возвращались домой на велосипедах ребятишки с соседней фермы, держа для равновесия на руле бидоны с молоком. До нас доносился скрип колонки во дворе, потом начинался переполох в курятнике, где возмущенные тем, что у них отбирали яйца, шумно кудахтали куры, но потом все снова затихало. Вильма вынимала из футляра скрипку и играла мне самые нежные и ласковые мелодии из своего репертуара, не уставая объяснять мне между отдельными вещами ценность музыки, записанной по правилам нотной грамоты. Половинки, целые, восьмые, четверти тона, диезы, триоли, арпеджио… Условность, под которой я спешил расписаться, боясь ответить на влюбленные взгляды, которыми она, пользуясь сумерками, осыпала меня, пока ее смычок скользил по струнам.
Не желая оставаться в долгу, я убеждал Вильму, что литературу тоже нужно оценивать, как стремление к чистой красоте, независимо от содержания. Я сказал ей, так же неискренне (или наивно), как и она, что на мой взгляд лучшим в плане композиции и стиля мне представляется роман Жида «Имморалист». Я только что открыл для себя эту книгу, чей ловко завуалированный сюжет остается понятен далеко не всем читателям, и я, наверно, не был исключением. История Мишеля производила на меня неизъяснимое впечатление, которое я приписывал исключительно магии стиля, но тот факт, что из всех книг в своей библиотеке я выбрал для своей юной знакомой именно эту, безусловно доказывал, что я подсознательно рассчитывал найти подобным жестом выход из ситуации, день ото дня становившейся все более запутанной для нас обоих. В любом случае, вольно или невольно, мое послание достигло цели. Вильма поняла, что я воспользовался приключениями юного француза в Северной Африке, чтобы освободить себя от груза тайны, которую я не мог поведать ей вслух.
Она вернула мне книгу с грустной улыбкой, заверив меня, что уже давно обо всем догадалась. Правда, теперь, добавила она, когда я развеял ее последние иллюзии, я не должен думать, что не смогу рассчитывать на нее. Напротив, она поблагодарила меня за откровенность, которая повысила меня в ее глазах. Все было сказано быстро и тихо, так что я даже не успел ни подтвердить, ни опровергнуть ее слова. Все это время Вильма с какой-то материнской нежностью поглаживала свою скрипку. Договорив, она взялась за гриф и в свете восходящей над полями луны сыграла в медленной аранжировке бетховенскую сонату «Прощания».
Ни одна из моих знакомых не проявила такой деликатности, такого благородства и человечности, как Вильма. Ценой непростых внутренних усилий заставив себя посещать нашу Малую академию после этого полупризнания, она ходила вместе со мной, когда я водил своих учеников на какую-нибудь ферму или на городскую площадь читать свои стихи перед изумленными крестьянами. Чтобы подчеркнуть ловкость и грациозность наших учеников, я придумал сопровождать чтение вилотой. Она укладывается в четыре коротких стиха и ее танцуют, приставляя пальцы рук к бедрам и поочередно подпрыгивая то на одной, то на другой ноге. Наши ученики неожиданно обнаруживали в своих уже зрелых жестах ту инстинктивную гармонию, которая проходит вместе с отрочеством. Я брал с собой маленькие подарки и награждал ими самых лучших: карамельки, рогатки и разноцветные резинки. Могу сказать, что мои намерения по отношению к этим еще совсем безусым ребятам были абсолютно бескорыстны. Самое большее, о чем я мог подумать, глядя на то, как они прыгают на радость фермерским детишкам, пускавшимся порою пританцовывать вместе с ними, так это, кто из них мог бы в будущем привлечь мое внимание, которое вышло бы за рамки педагогического интереса.
Меня сразу восхитил один мальчик своим талантом прямо держаться и сохранять голову неподвижной при необычайно бойких прыжках. Его хорошо очерченная губа уже начала покрываться светлым пушком. Его имя никогда не встречалось в наших краях, и оно одно могло свести меня с ума. Одна единственная гласная, утонченная и стройная, выстреливавшая прозрачной нотой, словно стебель юного деревца: Свен. Но не доверяя самому себе и опасаясь последствий влюбленности в тринадцатилетнего мальчика, я старался быть вдвойне осторожным с ним, до такой степени, что стал относиться к нему крайне несправедливо. Обещанный победителю конкурса подарок всегда доставался одному из его друзей. Свен сквозь свои длинные ресницы разочарованно смотрел на меня, после чего встряхивал своими золотистыми кудрями, забрасывал за спину свой ранец и уходил, что-то насвистывая, прежде чем я успевал объявить об окончании занятий. Тогда уже Вильма, чтобы оживить нашу маленькую компанию, к которой после ухода моего любимчика я невольно терял интерес, брала в руки скрипку и хороводом увлекала всех нас в исступленный пляс.
Она притворялась веселой, хотя ей было мучительно неприятно сравнивать ту рассеянную вежливость, которую я соблюдал по отношению к ней, с тем бесконечным благодушием, которым я награждал всех учеников. Но не думай, что она поступала так, движима неким подспудным стремлением к страданиям (известный женский мазохизм, как поспешил бы промямлить первый встречный психиатр). После того вечера с бетховенскими «Прощаниями» она больше не приходила ко мне на чердак в Версуте. Мы расставались в поле: она возвращалась в свою деревушку, а я направлялся к своим книгам. Бессмысленно было просить ее сыграть еще раз «Сон любви». Она очень хотела взять на себя часть школьных проблем; но лететь ко мне на огонек и, словно мотылек, приносить себя в жертву, нет, эта роль была ниже ее достоинства.
Сожалея о том, что она больше не сыграет для меня одно из своих нежных адажио, чей жалобный стон сливался (несмотря на наши категорические воззрения о безличности искусства) со смятением и трепетом наших сердец, я все же одобрительно смотрел на то, что Вильма положила конец нашим свиданиям. Почему она полностью не отказалась встречаться со мной? Чувствовала ли Марчелина себя достаточно сильной, чтобы оградить меня от Моктиров?
Данные ею объяснения поразили меня как громом.
– Тебе двадцать три года и ты еще не обручен. Остерегайся слухов, которые начали распускать. Пусть все думают, что я твоя невеста. Можешь использовать меня в качестве ширмы.
Был ли я вообще способен связать свою жизнь с женщиной, и кто уж, как не Вильма, заслуживала эту любовь? Когда она сделала это предложение, мне пришлось отвернуться, чтобы она не видела, как я плачу. Настал тот благословенный час вечерни, когда в прозрачном воздухе разливался звон колоколов. Мы шли по пыльной акациевой аллее. Никогда еще ложь не была инспирирована столь трогательной жертвенностью. Я готов был взять в свои ладони руку этой юной девушки и покрыть ее поцелуями. Вильма (она часто дразнила меня за сентиментальность) сразу пресекла всякую вероятность взаимной нежности. Она пролезла между акаций и спрыгнула на свекольное поле, крикнув мне, что решила срезать путь, и что мы увидимся на следующий день.
Ее предложение так сильно меня потрясло, что потребовалась какое-то время, пока смысл произнесенных ею слов наконец дошел до меня: несмотря на усиленные меры предосторожности, мое неженатое положение вызывало подозрения. В Касарсе подумывали, не найти ли ему более подходящего определения. О Фриули, мой земной рай! Я впервые ощутил дыхание ветра злословия и травли.
Несколько месяцев спустя, когда закончилась война, Вильма уехала из наших краев к себе на родину. На перроне она подставила мне для поцелуя щеку, как и всем ребятишкам, что пришли попрощаться с ней. Теперь, когда вместо того, чтобы распустить, как мы привыкли, свои волосы по плечам, она по словенскому обычаю заплела их в собранную на затылке косу, ее головка казалась более округлой, а лицо ее выражало еще более ясную и осознанную решимость. Ее хрупкая худенькая фигурка скрылась за дверью вагона. И только в эту самую секунду я заметил, как сильно были перекошены из-за занятий скрипкой ее асимметричные плечи. Она поймала мой взгляд и исчезла в своем купе.
С тех пор каждый раз, как я слышу звуки скрипки, в моем сознании всегда всплывают наши прогулки вдоль поля и, конечно, тот весенний вечер, когда она меня предупредила, что я попал под подозрение.
Говорят, что к скрипке долгое время относились с презрением. Вплоть до конца Средневековья ее считали слишком шумной, резкой и пригодной только для танцев в тавернах. Хлеб менестрелей и бродячих актеров. И если бы не цыгане и евреи, быть может, она так бы и не снискала своей славы. И так как настроить и перевозить ее легко, прижилась она у народов гонимых. Музыка странствия и изгнания, в мечтательно-грустных излучинах ее бесконечных аккордов находит свое успокоение вечная жалоба беглых и ссыльных.
По воле какого случая эта верная спутница евреев посвятила меня в мир звуков? По какому наитию я оставался невосприимчив к музыке, пока не услышал ее чаще раненный, нежели радостный голос? Ни фортепьяно, что с его огромными вариативными возможностями требует тем не менее значительных удобств и неподвижной обстановки, ни орган, чье громовое звучание буквально нисходит с неба, заставляя содрогаться стены церквей, не смогли первыми очаровать меня. Раньше я с наслаждением слушал, как мама напевала песни на старые фриулийские мотивы, но я никогда бы не подумал, что чей-нибудь – иной, не материнский – голос сможет когда-нибудь тронуть мое сердце. Опера казалась мне пошлой и карикатурной. Скрипка же покорила меня сразу, равно как и моя судьба должна была во многом повторить судьбу детей Израиля.
Раскрывая свое сердце ее звукам, не вслушивался ли я в древнюю какофонию погромов, когда уцелевшие в них бежали ночью, унося на своей спине единственное имущество, которое им удалось спасти? Скрипка была их спасением и утешением, каким для меня стало во время моих будущих испытаний целительное воспоминание о счастливых днях, проведенных с Вильмой.








