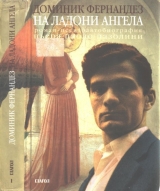
Текст книги "На ладони ангела"
Автор книги: Доминик Фернандез
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 38 страниц)
– Мы дарим вам последний шанс, – продолжил Вальтер. – Эдоардо Сангинетти предлагает вам написать для нашего издания «Иль Верри». Две темы на выбор. Первая: «Значение Алана Роб-Грийе в очищении романного текста от идеологической фальши». Вторая: «Как и почему на одну и ту же тему отчуждения в неокапиталистическом обществе Моравия и Антониони действуют на двух кардинально разных уровнях».
– С удовольствием, – сказал я, радуясь, что попал на более родное поле, на котором они дадут мне вставить пару-тройку фраз. Одиночество современного человека, такова по сути общая тема «Ночи» Антониони и «Скуки» Моравии. Но в фильме речь идет о смутном, иррациональном, практически невыразимом состоянии выпадения из жизни. Джованни и Лидия скользят словно во сне. Они не знают, кто они, почему они так себя ведут, откуда они пришли, куда они идут. Их гнетет одна всепоглощающая боль. Они предаются саморазрушению, не оставляя себе шанса на искупление. Лидия бесцельно расхаживает по городу, нервно царапая ногтем штукатурку стен. Джованни шляется наугад по улицам и по барам с похоронным лицом. Они выпадают из пространства Истории, уходя в застывший, остановившийся мир, мир, замкнутый на самом себе. Антониони ограничивается описанием тревоги как состояния природы, беспричинного и непоправимого. Моравиа же, наоборот, вводит измерение сознания. Дино страдает от гнетущей невозможности общения с другими, но вмешательство автора позволяет нам понять, почему он остается замурованным в своей тюрьме. Герой «Скуки» – исторический персонаж, тревога Дино – тревога, объясняющаяся Историей. Сын богатых буржуа, закомплексованный на своем классовом происхождении и на своем детстве, он становится объектом двойного кризиса, социологического и психологического. Маркс и Фрейд…
– И какой вы делаете вывод? – резко обрывает меня Вальтер, сидевший все это время с немигающим взором.
– Я делаю тот вывод, что очень жаль, если зрители узнают себя гораздо больше в фильме Антониони, нежели в романе Моравиа. К сожалению «Ночь» потакает ментальной лености зрителя, его отказу от всякой рациональной попытки осознания, его интимной удовлетворенности мыслью, что все мы заключенные нашего злобытия, нашего изящного злобытия.
Вальтер одернул вниз свой френч, после чего высказал свое суждение.
– Моравиа оперирует на уровне реальности, Антониони – на уровне языка. Как вы можете сравнивать изживший себя метод событийного моносемантизма и нео-авангардистскую полисемию? Мы наотрез отказываемся следовать за вами в вашем анализе, когда вы заявляете, что Джованни бродит по салонам, а Лидия царапает стены. Правильно, Армандо? Мы не можем допустить такого скандального затемнения антониониевского текста.
Но не успел Армандо проглотить свой зевок, как с треском распахнулась дверь. Данило открыл ее ногой. Он вошел, поддерживая на своих неловких руках поднос с кофе. За ним вошла мама: она оставила за собой право принести сахарницу – серебряную, для гостей – которую она держала за ручки в форме сирен. Ни Вальтер, ни Армандо даже не приподнялись, чтобы поприветствовать их. Вальтер лишь едва заметным механическим движением кивнул закорючкой своего подбородка. Армандо даже не счел нужным выпрямиться и принять более подобающую позу. Глядя, как Данило протягивал поднос Вальтеру и маме, которая держала ложечку в руке, как он скромно спрашивал у молодого человека, сколько сахара ей положить ему, я разозлился еще больше. Армандо в свою очередь не удосужился даже поблагодарить, когда ему протянули его чашку с кофе. Он состроил, как мне показалось, какую-то гримасу, словно хотел сказать: «А! не хватало тут еще его старой мамаши с кофе!» Я раздраженно схватил чашку, выпил ее залпом и заявил с неожиданной резкостью:
– Ну что ж, если хотите, я вам скажу! У неокапитализма, с которым вы, как вы утверждаете, боретесь, нет более ценного союзника, чем Антониони. Художник, который отказывается от рациональной интерпретации мира, находя удовольствие в пустом формализме, попросту заигрывает с властью. И ничто так не тешит покровителей подобных вычурных и безжизненных произведений, потому что они оставляют за ними свободу спекулировать на Бирже, эксплуатировать рабочих, усмирять профсоюзы и наживаться на горбу у бедных.
Выведенный из себя их молчанием, я добавил, рискуя оказаться в невыгодном положении из-за этого в общем-то низкого аргумента:
– А художник, который покрывает свой холст бессмысленными линиями или пятнами, думаете, он кого-то этим сильно потревожит? Покажите мне хоть одного менеджера Фиата, у которого бы на стене в столовой не висела своя абстракция!
– Прошли уже времена Золя и Курбе, – презрительно бросил мне Вальтер.
А! времена Золя уже прошли! Я посмотрел на маму, как она стояла в своей привычной позе у двери, скрестив руки на животе, и мне захотелось схватить его за глотку. В ней было столько смирения и самозабвения, что она, казалось, была готова спросить у этих недоумков, понравился ли им кофе. Чтобы пересказать ее печали и страданья, чтобы воздать должное испытаниям, что молча переносила эта женщина, которая прошла через две жестокие войны, у которой убили сына, на глазах у которой от медленной деградации умирал ее муж, которая убиралась и мыла посуду у чужих людей, которая разделила с выжившим сыном в каком-то смысле жалкую, полную неопределенности жизнь, которая упала в обморок ему на руки, когда суд вынес ему свой приговор, для этого понадобится талант, сила и широта души, несоизмеримые с догматизмом этих шарлатанов. Нанося последний удар, я сказал им:
– Лучшее доказательство того, что ваши книги, далекие от какого бы то ни было революционного заряда, работают на упрочение власти, это то, что они переводятся и свободно продаются в Испании Франко. Мои же, напротив, запрещены там цензурой.
Вальтер выпрямился как штык, прошел к двери и, обернувшись на пороге, визгливо заявил:
– Низкое оскорбление – недопустимая преграда для диалектического процесса. Пойдем, Армандо. Нет сомнений, что на уровне построения негативной антонимии мы потрудились максимально.
Едва они скрылись за дверью, Данило дернул меня за рукав, расхохотался и прыгнул мне на шею.
– Тоже мне, выступил тут со своей рубахой! Знаешь, откуда она?
– Из Катманду, как и все их шмотки!
– Идиот! Я чувствую, чего-то там не так. Он когда на стул залез, я не упустил момента, там у него снизу ярлычок от Ринашенте остался. Я сразу догадался, что это показуха!
– Ну да, а мокасины за двадцать тысяч лир?!
– А! ты тоже заметил!
Данило был счастлив, он снова обнял меня. Только вот почему-то мне было не до веселья. Почему меня мучило воспоминание об этих гостях, о том, что я сказал и чего не сказал? Долго рассуждать тут смысла не было: если весь нео-авангард исчерпывается этой тарабарской мистификацией, то лучше, в тысячу раз лучше, сойти за «классического», читай «традиционного», но остаться тем, кем я есть, продолжать писать книги, как я их пишу и говорить о них то, что интересно Данило и что ему нравится. Только фраза Рембо предательски возвращалась и не давала мне покоя. «Нужно быть современным». В чем сегодня заключается современность? В том, чтоб презирать невоспитанных и необразованных молокососов? Или хихикать над тем, как разносят в Риме хлеб? И над тем, что думает сын рабочего фабрики Марелли, выгружая свою корзину в ресторане, в котором какие-нибудь члены Группы 63 излагают друг другу свои ребусы за пуританской бутылочкой минералки?
Меня бесит от мысли, что те же критики, что приветственно нарекут «современным» роман, написанный без знаков препинания, под пред логом того, что точки и запятые выполняют репрессивную функцию, те же критики начнут высокомерно рассуждать о «нео-веризме», стоит мне заговорить о мальчике на побегушках.
Я смотрю на Данило, который помогает маме относить на кухню посуду. И страшная мысль пронзает мой ум: ведь в том, что мне приходится писать понятные стихи, снимать легкие по восприятию фильмы, словом лишать себя всякой надежды снискать расположение у властителей дум, виноват именно он, его простота, его недостаточная культура. Вальтер упомянул Бурри: мучительный образ. Этот художник выставлялся в самой элегантной галерее Рима. Данило тогда скорчился от смеха: «Мешки! Мешки с мукой, как в булочной!» – и покрутил пальцем у виска, как бы говоря всем своим видом: «Он что, совсем того!» А я мучительно боялся защитить того, кого считаю подлинно большим мастером, и в то же время боялся дискредитировать себя в глазах «Всего Рима», приняв сторону традиционного восприятия… И в результате: через пять минут, не дожидаясь основной массы гостей, мы по-английски скрылись из галереи.
Чем теснее Данило будет привязан к моей жизни, тем реже я смогу ускользать из подобных ловушек. Нужно быстро решать, что делать с той ситуацией лжи, в которую я попал из-за своих отношений с разносчиком хлеба, рядом с которым я едва сдерживаюсь от смеха, глядя, по какой цене продаются мешки, которые ничем не отличаются от тех мешков из грубого джута, что он видел на складе у своего патрона.
Или всем моим убеждениям уже пришел конец? О чем мне еще думать? О чем! Неужели я поставлю на одни весы одобрение нескольких снобов, лишенных всякого чувства, и искренность, чистоту Данило? И разве не за эту свежесть нравится он мне, и люблю я его? Да! Лучше найти в себе силу терпеть свою изолированность в римской литературной среде, чем хоть на миг позволить себе обидеться на того, кто с такой непосредственной легкостью отдает мне свою юность, свое тепло и любовь. Я гоню постыдные мысли. Но они возвращаются, они оставляют во мне свой след, они омрачают то интеллектуальное одиночество, которое сгущается вокруг меня.
– Слушай, – говорю я, доставая свою чековую книжку, – тебе еще не надоел твой драндулет?
– Ну, Пьер Паоло…
Не понимая, что меня толкает подарить ему сегодня мотороллер, который он уже давно присмотрел себе в гараже подержанных авто на виале Европа, Данило в десятый раз рассказывает мне об опасностях езды на велосипеде, с тех пор как на улицах сделали специальные коридоры для автобусов.
– Да и вообще! – бесхитростно кричит он мне. – Я ведь хочу такой, с хромированными буферами!
Откровенность принесла бы ему и автомобиль, если бы он попросил меня о ней! Я подпишу ему чек, он побежит, как сумасшедший, а я, прислушиваясь к последнему эху его прыжков по мраморной лестнице, буду стоять у перил, не решаясь сразу вернуться в свой кабинет, где меня ждут для правки фанки нового сборника. Который, выйдя в свет, станет источником новых тревог, когда на меня свалится вердикт критиков, готовых превозносить лишь черт знает какую заумь:
– П.П.П., с каждым новой книгой ты все больше отдаляешься от поколения молодых.
44
7 января у меня украли машину. Два дня спустя я прочитал в «Паэзе Сера» о встрече, организованной в Турине первыми университетскими агитационными комитетами. Миланский католический университет был захвачен еще 18 ноября. Движение достигло Генуи, Павии, Кальяри, Салерне, Флоренции. Рим – пока еще нет. (Не удивительно, – сказал бы мой дядя Колусси.) В столкновениях в Милане был серьезно ранен полицейский Состеньо. Телеграмма президента Республики: заклеймить позором «варварское покушение». Реплика судьи «Демократической магистратуры»: полиция напала первой, без всяких оснований. Подчеркнуть красной чертой этот пассаж, чтобы выразить общее возмущение с Данилой. Не успел я найти карандаш, как раздался звонок. Прибежала мама, в полной растерянности.
– Полицейский!
Я поспешил. Бригадир, совсем молодой, маленького роста, коренастый, щелкнул передо мной каблуками.
– Сударь, ваша машина найдена. Я принес вам ключи.
– А! – смягчился я, – входите.
Он спросил разрешения снять свою фуражку, которую он повесил на вешалку. От его черных, кучерявых и коротко стриженых волос сильно пахло брильянтином. Стесняясь стука своих тяжелых кованых ботинок, он на цыпочках прошел в коридор.
– Мне подать кофе? – шепнула мне мама за моей спиной.
– Не вопрос, – так же тихо ответил я.
Бригадир ждал меня, застыв по стойке смирно посереди гостиной. Я невольно предложил ему сесть.
– Мы также нашли вора, – сказал он мне. – Можно по крайней мере с уверенностью говорить о серьезных основаниях для ареста вышеупомянутого.
«Какой стиль!» – подумал я, разглядывая на его загорелой щеке маленькие порезы от слишком тщательного бритья. Бюрократические нюансы его рассказа отнюдь не покоробили меня, я даже почувствовал определенную снисходительность к моему гостю. В нем все выражало амбициозное желание – обреченное на неудачу – скрыть этим чрезмерным шиком свое южное происхождение. Он полагал, что вылив себе на голову флакон ароматизированной помады для волос, он устранит недостаток в росте, доставшийся ему от его предков, которым хроническое недоедание никогда не позволяло вырасти выше одного метра шестидесяти сантиметров.
– Теперь, – подытожил он, – я прошу вас сказать мне, намерены ли вы подавать иск.
– Кто он, этот подозреваемый? – спросил я. – Сколько ему лет?
– Восемнадцать лет.
– А откуда он? Какие-то сведения о нем имеются?
– Он из рабочей семьи.
– Ему восемнадцать, и он сын рабочего!
– Так точно, – сказал он, машинально поднеся руку к фуражке, как будто он был на смотре.
– И вам бы хотелось, чтобы я подал иск и отправил этого парня в тюрьму, так? – сказал я, не скрывая своего недовольства.
Я уже ругал себя за то, что впустил человека, непроизвольно скомпрометировавшего себя, даже если он был лично невиновен, в многочисленных преступлениях, к которым приложили руку его коллеги: притеснения сельскохозяйственных рабочих во Фриули при правительстве Де Гаспери, подавление рабочих выступлений при Тамброни, двадцать трупов в Генуе и Реджо в 60-м году, чуть раньше – двое убитых в Аволе на Сицилии, потом преследования пастухов на Сардинии, война со сторонниками автономии в Верхнем Адидже, сегодня – разгон дубинками студенческих демонстраций в Милане. На низком столике между нашими креслами перед бригадиром лежала «Паэзе Сера» с вынесенным в заголовок хлестким заявлением судьи «Демократической магистратуры».
Полицейский взглянул на газету, но потом буквально сразил меня, пробормотав, краснея при этом до ушей:
– Я тоже сын рабочего.
Заметив, как я недоверчиво разглядываю его, он продолжил:
– Вас это удивляет, да, что сын рабочего занимается таким делом? Я читал ваши статьи, сударь, и вы, должно быть, думаете, что это некрасиво с моей стороны.
Не зная что и ответить, я от волнения громко крикнул: «Мама, ты не сделаешь нам кофе?»
– Вы будете кофе, бригадир?
Он грустно улыбнулся, и прикурив «Нацьонале», которую я ему протянул, принялся молча курить. Мне хотелось узнать о нем побольше. Чтобы завоевать его доверие, я заговорил с ним:
– Судя по акценту, вы неаполитанец. О! – добавил я спешно, боясь, как бы его не обидело мое замечание. – Вот уж какой акцент я люблю, так этот тот, что в Санта Лючии и Порта Альба. Я об этом тоже в своих статьях писал. Так, значит, вы из Неаполя?
– Мой отец работал на сталелитейном заводе Баньоли. Развозил тележки. Мы жили в Фуоригротта. Ввосьмером в двух комнатах.
– Можно войти? – спросила мама.
Она принесла на подносе две чашки и сахарницу.
Бригадир поднялся, встал по стойке смирно, пока мама пододвигала столик, и не сел, пока она не вышла из комнаты. Он пил кофе с приподнятым мизинцем. Меня умилил этот жест, в котором еще пять минут назад я усмотрел бы лишь сервильные потуги копировать манеры той буржуазии, которая приказывала ему дубасить забастовщиков на пьяцца Сант'Амброджо.
– Ввосьмером в двух комнатах? – переспросил я, заметив, что он ему не терпелось выговориться.
– Мы подыхали с голоду. Мама пристроила меня к консьержу во дворце Сан Феличе. Каждое утро я должен был там вымыть четыре лестницы и два двора. А ночью – открывать дверь квартиросъемщикам, которые возвращались после десяти часов. Я спал, не раздеваясь, на сундуке, прямо под дверью. И подскакивал на каждый звонок. Мне было-то всего восемь лет, и мне приходилось вставать на табурет, чтобы дотянуться до засова. Эти дамы в длинных платьях и шляпах и синьоры, которые постукивали меня тросточкой по бокам, проплывали в облаке духов, посмеиваясь над моими всклокоченными волосами. «Метелка! Обезьянка!» Консьерж кормил меня в то же время, что и свою собаку. Мама приходила ко мне по субботам, чтобы забрать заработанные мною сто лир. Вы так терпеливо слушаете меня, сударь. Я это первый раз кому-то рассказываю. Наверно, не нужно было.
Он замолчал, смутившись, инстинктивно провел пальцем по шву на брюках, вздрогнул, наткнувшись на черную каемку, и им вновь овладела необходимость оправдать свою униформу.
– Через несколько недель у меня нашли вшей. Мое место занял один из моих братьев, а меня послали к парикмахеру, чтоб он побрил меня наголо, после чего я остался у него в услужении. Здоровенной щеткой, которую я едва мог удержать в своей руке, я счищал с клиентов упавшие им на пиджаки волосы. Они вознаграждали меня чаевыми, которые хозяин, как только они уходили, быстро засовывал к себе в карман. Сколько бесформенных копен превратились на моих глазах в волнообразные шевелюры под его искусной рукой! Сколько отросших усов сумел облагородить этот человек! «А ля Умберто!» – кричал роялист: «А ля Тосканини!» – меломан. Некоторые требовали лосьон. Холодный и сырой салон наполнялся тогда экзотическими ароматами. Но верхом всего был брильянтин. Предмет роскоши для нашей пригородной глуши. Он хранился в закрывавшемся на ключ шкафчике с зеркалом, откуда я доставал эту склянку с густым и маслянистым содержимым лишь по особым случаям. Хозяин, плюхнув изрядную его порцию на череп какого-нибудь avvocato[48]48
адвоката.
[Закрыть], который то и дело одергивал рукав, подчеркнуто глядя на свои золотые часы, находил после этого удобным вытирать свои руки о мои волосы. Я выходил из парикмахерской, сияя брильянтином. Сильный запах, который исходил от меня, вызывал восхищение у моих товарищей. Корона на голове не снискала бы мне такого уважения у мальчишек с нашей улицы.
Полицейский поднес руку к своим волосам таким наивным жестом, что совсем растрогал меня. Тридцать лет спустя после общения с провинциальным цирюльником из Фуоригротты, он полагался на те же методы придания себе уверенности. Поймав мой взгляд, он выпятил грудь, подтянул узел своего галстука и улыбнулся.
– Я думаю, сударь, понимаю, что вы так снисходительно слушаете меня вовсе не потому, что я принес вам ключи от вашей машины. Вы не такой, как другие, что ненавидят нас и презирают нас. Им же, наверно, кажется, что мы от чистого сердца выбрали эту работу. Я был вынужден, сударь, пойти в полицию. Это было единственное средство избежать нищеты. Не далее как вчера я застал свою жену всю в слезах. «Анна, почему ты плачешь?» Ее отказались обслужить в москательной лавке, куда она пришла за стиральным порошком. «У нас магазин для пролетариата». И вокруг хмурые, неприветливые лица. «Боже мой, Анна! – я ей говорю: – Надо было им ответить, мы тоже пролетарии, и, может, еще почище, чем они!» Тут она разрыдалась, и я никак не мог ее успокоить. «Но Паскаль, ты – слепой! – сказала она мне в конце концов. – Ты не знаешь, что наши соседи не здороваются со мной при встрече, что у меня нет подруг, что на меня смотрят как на чуму, что с нашими детьми никто не дружит в школе. Их одноклассники посадили их на карантин и отказываются играть с ними!» Пока она давала выход своим чувствам, я вспоминал все мелкие унижения, которым я подвергаюсь, я тоже, и в нашем доме, и в городе, повсюду, где я показываюсь в форме: двери, захлопывающиеся, когда я выхожу на лестницу, соседи, которые не разговаривают со мной, автобусы, которые уезжают у меня из-под носа. У меня тоже нет друзей, сударь. У меня такое же уважаемое имя, как и других, Эспозито Паскуале, так меня зовут, я такой же как и все отец семейства, у меня такие же проблемы, цены для меня повышаются так же, как для всех, однако они меня отвергают, они не признают меня. Я для них легавый, чужак. Легавый, просто легавый! У меня нет выбора, сударь!
Он был так взволнован, когда уходил, что забыл свою фуражку на вешалке. Мне пришлось бежать за ним на лестницу. Когда я вернулся, потрясенный его исповедью, часы пробили час. Куда подевался такой пунктуальный Данило? Опаздывал уже на полчаса! Я открыл дверь на террасу, прошел в угол сада к магнолии, где принялся его ждать. В холодном воздухе каждый звук на улице и на холме напротив отделялся с хрустальной чистотой.
Куда идти за ним, если он не придет? Как его найти? У меня даже не было его адреса. Что я знал о нем, помимо того, что он мне говорил? Что ж! – подумал я, рассмеявшись. – Не буду же я теперь следить за ним! Разве он не рассказывает мне все, то есть все, что он делает? К чему его подозревать? Разве когда-нибудь он скрывал, что в субботу вечером гуляет с племянницей своего патрона, которую он водит на приходские танцы в Сан Лоренцо? Он честно занял у меня вчера тысячу лир, чтобы купить цветы этой Луизе, так как у нее сегодня день рождения. Тысяча лир, в которых измерялось мое счастье – я мог насладиться неслыханным везением снискать в сорок шесть лет любовь мальчика, который отнюдь не был женоненавистником и был вполне способен флиртовать со своей ровесницей. Но если в один прекрасный день…? Нет, нет! Я должен гнать эту мысль, дешевую, мелочную мысль, не имевшую под собой оснований. Или я предпочту, чтобы Данило дурно отзывался о девушках и был нежен только со мной? Насколько менее цельным, менее человечным он тогда показался бы мне! И насколько та слабость, которую он проявляет к Луизе, делает его нежность ко мне еще более драгоценной. Луиза, племянница его патрона! Практически член семьи… Должно быть, он часто встречается с ней в булочной… Так чего мне волноваться? Я бы огорчился, узнав, что он не оказал ей никаких знаков внимания… Если бы он ничего не испытывал к этой девчушке, мог бы я сказать, что он выбрал меня? Сладостное слово повторять…
Половина второго. Никакого шума мотоцикла на горизонте. Он любит танцевать, он… Да, да, мне нужно было просто радоваться, что я нашел его, нашел исполненным живой импульсивности и цельности в его мужских вкусах и проявлениях. Лишенным робости, осторожности, чувствительным к женской красоте, по-настоящему свободным. Тогда как, надо признать, многие из тех, что благоволят нам, отдают нам лишь то, что не имело бы другого практического смысла. Я встретил родственную душу. Противоположность закомплексованного и заторможенного подростка. Слава Богу, гораздо больше мужчину, нежели женщину! Но поэтому я и обречен остаться один, потому что сегодня вечером он будет задувать шестнадцать свечек на ее праздничном торте… В десятый раз выходя в сад, я увидел блеснувшее на стекле искаженное лицо.
Он пришел около двух часов. Сильно возбужденный. Большая манифестация студентов блокировала его на площади Венеции.
Их там тысячи, Пьер Паоло! Тебе понравилось бы, как они скандировали: «Нет классовому образованию! Нет привилегированным университетам!» А напротив – целый ряд джипов и грузовиков, набитых челерини[49]49
спецназовцами.
[Закрыть], все в касках, с щитами и дубинками. Я остановился и подумал: «Пьер Паоло будет рад, если я покричу немного со студентами. Он увидит, что я научился правильно читать «Паэзе Сера», что его уроки оставили след в моей башке». Разве не так, Пьер Паоло?
Я обзывал себя внутри полным дураком и идиотом за этот приступ ревности в саду. Образ бригадира, история его детства, его признание в своем одиночестве и смятении мгновенно стерлись из моего сознания. Я был на седьмом небе от счастья, ощущая свое единение с Данило.
– У них были фанаты? – спросил я, убирая со стола обвинительную статью.
– Конечно, черт возьми! Они начали поливать нас сверху. Бабах! Бабах! Господи Иисусе, такой грохот! Я уже ничего не соображал. Глаза просто выжигало. Короче, подфартило. Какая-то девка говорит, бери, и протягивает мне поллимона и таблетку аспирина. А я в знак благодарности предложил ей тикать вместе со мной. Мы неслись как сумасшедшие, наконец добежали до мотороллера и рванули. «Это, – говорит, – а я тебя видела, ты в кино снимался!»
– Девушка! – шутливо воскликнул я. – Ты теперь девочек кадришь!
– Смотри, какая она хорошенькая, Аннамария, – продолжал он, вытаскивая из кармана куртки маленькую фотографию на удостоверение личности. – Она хорошо знает твои фильмы, что мне и понравилось в ней!
– Она дала тебе свою фотографию?
Я невольно побледнел. В ответ на мою интонацию, Данило также сменил свой тон, что меня еще больше насторожило.
– Я не хотел ее брать, эту фотку, что ты думаешь? Она мне сама говорит: «Давай, быстрее, а то отец высунется из окна и увидит тебя, дома такой скандал будет».
– Что это значит, Данило, «а то отец высунется из окна»? Ты что, ко всему прочему проводил ее до дома?
Он ссутулился и уклончиво повертел рукой, как если бы хотел принизить значимость того, что я только что узнал.
– Впрочем, – сказал я презрительно, – мне наплевать на это. Каждому своя Дульсинея!
Я вернул ему фотографию, надеясь, что он порвет ее прямо на моих глазах. Но, не подметив сарказма, чья острота притупилась о невежество мальчика на побегушках, бросившего школу в двенадцать лет, так и не успев познакомится с Сервантесом, он засунул ее обратно во внутренний карман своей куртки.
– А можно ли узнать, – продолжил я, – где обитает эта красотка?
Наивный Данило попал в ловушку.
– Виале Реджина Маргерита, дом 121.
– А! ты запомнил адрес. И вы, конечно, договорились встретиться еще раз? Незнакомка, так-так… Ты кидаешься в объятья незнакомки!..
Он так растерялся, что ничего не ответил. Пытаясь взять себя в руки, я прошел в сад, где ледяной ветер отхлестал меня по лицу. «Ты ревнуешь? Ты, кому противен женственный тип мужчины, кто не скрывает своих наклонностей? Ты, кому так нравились рагацци из Понте Маммоло, потому что они не стеснялись бегать к Мадама Брента, стрельнув у тебя немного денег? По большей части они все женились, как Сантино. Они дружили с тобой из чувства нежности, а не из отвращения к противоположному полу. Разве не эту сторону, изначально тебе недоступную, ты любишь в Данило больше всего? Гораздо больше мужчина, нежели женщина…»
Захваченный внезапной мыслью, забыв все, о чем я только что думал, я встал под гранатник, лицом к улице. Данило не снял свою куртку в дверях. Обычно он быстро сбрасывал ее с себя и вешал в коридоре. А сегодня, после пронизывающего холода, он тем более должен был снять эту дорожную куртку, как только переступил порог дома. «Нет! Нет! – кричал я самому себе. – Ты не будешь изводить себя предположениями о том, что он хотел оставить при себе эту фотографию. У себя на сердце. Впрочем, я проведу тест. Досчитаю до пятидесяти, как можно медленнее. Затем резко повернусь и посмотрю через стеклянную дверь террасы. Если он будет в майке, я побегу к нему, я поцелую его и дам ему десять тысяч лир, чтобы он купил себе ковбойскую куртку, о которой он давно мечтал. Если же он все еще в куртке, тогда…»
Я не знал, что произойдет после этого «тогда», которое я прошептал сдавленным голосом, комкая в руке сморщенный лист гранатника. Я принялся считать. Дойдя до пятидесяти, я сказал себе: «Еще десять». На шестидесяти я бросил листок и повернулся. Данило был без куртки. «Надпись «Вива ла Лацио» красовалась круглыми красными буквами на спине его синей футболки. Он что-то показывал маме и оживленно говорил с ней. Я закрыл глаза, жадно глотнул воздуха и перекрестился, как когда-то в лицее, когда я смылся с контрольной по математике. Я тихонько толкнул стеклянную дверь и глуповато улыбнулся, глядя, как по-спортивному честно поднимаются и опускаются крепкие плечи Данило.








