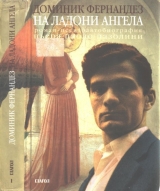
Текст книги "На ладони ангела"
Автор книги: Доминик Фернандез
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 38 страниц)
II
22
Рим, год 1950. Город Власти и Закона. Повсюду, словно призывы к порядку, прославленные памятники. Колизей, Пантеон, собор Святого Петра, крепость Святого Ангела. А рядом со старым гетто, в котором я снимал свою первую комнату, неподалеку от квартиры, в которой мой дядя уступил две комнаты маме, тройным упреком своих августейших стен возвышались театр Марцелла, Капитолий Микеланджело и мавзолей Виктора-Эммануила. Три Рима – Рим Античности, Рим Папы и Рим Унитарного Государства – объединились в ознаменование моего позора.
Господство округлых форм: овал Колизея, эллипс площади Навоне, полусферические своды куполов, изгиб площади Святого Петра, орбита площади Народа. Поскольку круг является символом совершенства, закругляющаяся площадь или купол исключают человеческое начало. Я – Беспорядок по сути своей – оказался заброшенным в мир правил и предписаний. Я покинул Фриули, мир природы, в котором каждая травинка, каждая букашка были обособленными существами, не похожими ни на одно другое; и я попал во власть воли, игнорирующей всякое различие между индивидуумами.
От Тита, Септима Сурового и Константина мне достались арки, от Траяна – круглая колонна, от Максанса – колыбельные своды собора, от Агриппы – ротонда с кессонным потолком, от Августа и Адриана – круглые гробницы, от Юлия II – самый большой в христианском мире купол, от Клемента VIII – покрывающая его медная сфера, от Бернини – круглая колоннада, от социалиста Джолитти – площадь Экседры, от фашиста Муссолини – стадион Форо Италико. От эпохи к эпохе, от режима к режиму одни и те же символы вторят об одном и том же долге. Подчиняться. И не отклоняться ни на йоту! Здесь должен править порядок. Третий Рим более не располагает для покорения мира ни железными легионами Первого Рима, ни миссионерскими прелатами Второго, но он сохранил в целости все средства подавления всякого, кто не желает ходить строем.
Как наивно, ты мне скажешь, приписывать это мировое влияние городу, который со времен «Сатирикона» иначе как гнездом порока и разврата не называют! Данте изобличил его не дожидаясь помощи Феллини. Римские амфитеатры издревле служили прибежищем ночных дебошей. Я еще не отошел от процесса и бредил своим бегством, глядя на молчаливые страдания мамы, но уже забывал, что отдался на веру Петрония и Аретина. Поначалу я видел в Риме лишь Великий Град, идеал Столицы, той самой, что во времена Империи протянула во все уголки Европы паутину дорог и укреплений, точно так же, как впоследствии она сумела покорить престолу святого Петра большую часть западного мира. И сохранила до наших дней абсолютный контроль над всеми землями Италии: не терпя никакого инакомыслия, даже если донос в вальвазонской исповедальне на другом конце полуострова давал ей возможность отстранить учителя от преподавания, погубить его карьеру и вынудить покинуть родной город.
Я возненавидел Пия XII. Его хрупкий силуэт и изможденное лицо, тысячами отштампованные на юбилейных церковных медалях, лишь подтверждали мысль о том, что папа черпает свое влияние и силу в сознании своей одновременной причастности и к Моисею и к Августу, в том, что он объединяет в себе авторитет пророков и власть императоров. Был один папа, который мне все же очень нравился – Урбино VIII – на всех памятниках в его славу обязательно присутствовали пчелы. Пчелы на барельефе фонтанов, лепные пчелы на фронтоне церквей, пчелы, вышитые на гербах, пчелы на потолке его апартаментов. Воздушный балет перепончатокрылых тружениц – как очаровательное напоминание о деревне далекого детства, предшествующее бремени опускающейся на чело тиары. Даже его гробница в соборе Святого Петра сплошь усеяна медоносными мушками, которые, казалось, случайно присели на нее, жизнелюбивые и непоседливые, готовые вспорхнуть и улететь. Странный он выбрал орнамент, для того чтобы внушить величие своей папской власти. Еще более странной, и не лишенной, надеюсь, сознательной иронии, я находил эту ассоциативную фантазию вечного безмолвия смерти с дрожащим полетом неутомимых и не знающих покоя насекомых.
Освоившись со временем, я попытался во время своих прогулок между Тибром и церковью Троицы-на-Холмах собрать воедино признаки анти-Рима, более благосклонного к поискам счастья, нежели Рим официальный, властный, окаменевший в своей роли «Caput Mundi»[29]29
Столицы Мира.
[Закрыть]. Фасад дворца Фарнезе, к примеру, своим массивным видом вызывал во мне отвращение. Он оставлял у меня впечатление творения законченного, завершенного и не подлежащего изменению, созданного для того чтобы внушить мне идею своей незыблемости и постоянства. «Вечное» творение, перед которым я мог лишь смиренно остановиться, исполненный почтения и покорности, и замереть в изумлении.
Но если я шел к площади Навоне, я знал, что наихудшим способом оценить волнообразный фасад Сант’Аньезе можно было только, остановившись перед ним и созерцая его неподвижно. Я должен был ходить взад и вперед, чтобы разглядеть все его башенки и колоколенки, полет его изгибов, выпуклых пилястр, козырьков, карнизов, анфилады балясин, все эти тысячи неожиданных форм, открывающихся по-новому вместе с изменением перспективы. Здание движется по мере того, как я перемещаюсь сам, каждый шаг дает новый угол зрения на все целое. Нет общего взгляда, и нет какого-то одного, он – дробный и частный, обновляющийся до бесконечности. Архитектура, которая не только провоцирует глаза смотреть, но также тело двигаться. Я с удовольствием описал бы такую конструкцию как кинематографическую, поскольку единственный способ зафиксировать такое изобилие образов – не фотографировать церковь с фасада или сбоку, а снимать ее панорамами с обратными планами и укрупнениями.
Копаясь в лавке своего дяди, забитой старой мебелью и пыльными книгами, я понял, что только что причастился, сам того не ведая (Роберто Лонги избегал рассказывать нам об этом), к барочному искусству, получившему свое название от португальского слова «барокко», которое переводится в свою очередь как «неправильная жемчужина». И я еще на что-то жалуюсь! Этот стиль родился в Риме, в начале XVII века, и то, что ему пришлось заимствовать свое имя из иностранного языка, говорило только о той нарочитой дерзости, с которой он отвергал имперскую традицию Столицы.
Такое же восхищение вызывает фонтан Четырех рек напротив церкви. Плохо обработанный камень хранит в себе грубую непредсказуемость горной породы, не покорившейся воле человека. Множество растительных и анималистических фигур, которые, разместившись наугад между массивными камнями, имитируют причуды природы. Растения, выбранные наобум: пальма с острова Борнео, мадагаскарский кактус. И столь же произвольно выбранные животные: самые экзотические и менее всего отвечающие духу римского закона. Африканский лев, морской конек, индийский броненосец. Несуразная флора и фауна Африки и Азии, столь же противная авторитету Цезарей, сколь и христианской морали. И вода, которая бьет ключом из тысячи отверстий и струится по этому круговороту форм, соревнующихся в своей причудливости, только усиливала во мне иллюзию произвольного, незаконченного, подвижного, случайного, колеблющегося и ничем не обусловленного нагромождения, к которому Бернини мог бы добавить – равно как и отнять – сколь угодно много иных фрагментов.
По мере того, как мне удавалось гасить в себе ужасные воспоминания Вальвазоне, мне все больше нравилось это бесконечное множество эксцентрических курьезов, и я с удивлением обнаруживал в самом сердце вселенской религии гораздо менее строгие черты, нежели в таких городах как Болонья или Флоренция. Я находил повсюду улики бесплодных усилий достичь идеала Прекрасного, свидетельства отвергнутой и осмеянной мечты подчинить мир суровому и незыблемому закону. Отклонением от подобных притязаний мне представлялись расписанные головокружительными небесами купола церквей, лошади с рыбьими хвостами на фонтанах, закрученная непрекращающимся полетом спираль Борромини, которая, словно пламя, подхваченное сквозняком, совершает свое бесконечное восхождение к вершине купола Сант’Иво делла Сапиенца. И как объяснить блаженный восторг этой святой в глубине алькова, напоминающего оперную ложу, который выражает не метафизическую радость общения с Богом, но мимолетное волнение от пролетающего ангелочка, готового пронзить ее своим дротиком? Или юную Дафну из Вилла Боргезе, на глазах превращающуюся в лавровое дерево, дабы не поддаться на посулы Аполлона – первую статую в мире, в которой удалось воплотить в мраморе притчу Овидия? До этого только художникам удавалось передать мгновение метаморфозы, тот миг, когда стопы девы уходят в землю корнями, когда ее тело отвердевает, покрываясь древесной корой, ее пальцы превращаются в листья, а ее волосы начинают изгибаться лавровыми веточками.
О, тоска по Фриули! Неужели меня и вправду волновала греческая нимфа? Ее лицо, охваченное сиянием, ее протянутые руки, как бы зовущие на помощь, и ее раскрытые от ужаса глаза, нет я думал о маленькой Аурелии моего детства, том дне, когда она едва не утонула. Точно так же, как в сюрреалистическом слоне, установленном на площади Минервы с обелиском на спине, мне чудился тот самый слон из Катании, которого в качестве медальона носил тот таинственный спутник, что помог мне бежать с немецкого поезда рядом с Пизой, когда еще так ярко сияли ночью светлячки.
Струящиеся драпировки, круговороты бронзы, конвульсии искусственного мрамора, распахивающиеся своды, полчища раковин, херувимы с трубами, пьянящие девы и всевозможные твари: увы, весь этот чувственный пафос спиралей, волн, позолот, лучей и флористического хмеля был всего лишь, и мне пришлось это вскоре признать, инструментом пропаганды на службе Ватикана, средством борьбы с Реформацией при помощи пластических аргументов, бьющих по чувствам человека, хитростью, которая обеспечивала понтификам преданность народа, искушаемого архитектурным чудом. Монах из Виттенберга мог сотрясать воздух доктриной спасения через веру и проповедовать возврат к библейской чистоте – победа оставалась за гипсовыми Иисусами, млеющими святыми, лукавыми ангелочками, фантастическими химерами, мраморными оргиями и художественными излишествами, среди которых душа мечется в беспорядочном изумлении.
Проглоченные мною книги из дядюшкиного чулана не оставляли никакого сомнения. Бернини, маргинал, вольный стрелок? Во время своей легендарной поездки во Францию он имел наглость не угодить Людовику XIV, создав конную статую, которая выражала с недостаточным величием верховые способности монарха. И при этом, будучи в Риме, великий скульптор и архитектор внимал своему хозяину, как смиренный подданный. Он работал на трех пап и выполнял их заказ. Знаменитые пчелы на гробнице Урбино VIII, которые в моих глазах выглядели местью природы власти, мгновения – вечности, фантазии – закону, были всего лишь геральдическим символом, эмблемой семьи Барберини, из которой происходил этот аристократ. Козырек Святого Петра, законченный в том же году, в котором состоялся суд инквизиции над Галилеем, служил несмотря на экстравагантность своих витых бронзовых узоров символом укрепления догматической непреклонности Церкви.
Все противоречащее канонам, нелепое и фантастическое, что есть в барокко, отвечало политической цели изумлять и обольщать толпу демонстрацией богатства и мощи, которые должны были победоносно сокрушить аскетизм лютеран. Этот стиль, который я полюбил за его протестантское начало, за его фронду, браваду, оказался на поверку поборником ортодоксальной идеи. Эти перегруженные формы, эта витиеватая роскошь неожиданных деталей, эта неслыханная вакханалия мысли, все это возвращалось в лоно высшей воли.
Какое разочарование! К счастью у меня оставалось одно избранное местечко, один уголок, по природе своей чуждый всякой доктрине. Это была площадь Испании, самая асимметричная площадь в мире, самая непредсказуемая, самая безумная, расколовшаяся на несколько плоскостей со своей «скучающей» лестницей, которая расширяется, сжимается, останавливается, взмывает вновь, неспешно, бесцельно, лестница-променад, воплощающая в себе суть противления всем лестницам в мире, которые выполняют единственную функцию соединять одну точку с другой. Запруженная постоянно толпой зевак и бездельников, она напоминает театр на пленэре, открытый в любое время дня и ночи.
Я приходил и садился на ступени, между продавцом шнурков, цветочницей и торговцем жареными бобами. На деревьях щебетали птицы, дети играли в «камень, ножницы, бумагу», резко выбрасывая перед собой пальцы, официант из бара, удерживая поднос на одной руке, перепрыгивал через ступеньки, умудряясь не пролить ни одной капли.
Какой-то молодой брюнет, лицо которого украшал глубокий шрам, попытался стянуть у меня пачку «Нацционали». «Не мои!» – сказал я ему, протягивая сигарету. Он рассказал мне, что снимался в «Шуше». Играл старшего из двух чистильщиков обуви. Рамон, родители – испанцы. Лицо ему рассекла копытом большая белая лошадь. Де Сика ему пообещал выплатить пособие, и он четыре года дожидался обещанного миллиона.
– Думаешь, они тебе заплатят?
– Так ведь они поклялись! – закричал он, сверкая глазами и сжимая кулак, как будто он держал в руке наваху своих предков.
Под козырьком дома, в котором когда-то жил Джон Ките, мы докурили всю пачку. Наискосок по лестнице, уставившись в свой молитвенник, спускался некий «монсиньор» в наглухо застегнутой сутане. Рядом, держа подмышками две шляпные коробки, прыгал вслед за какой-то дамочкой носильщик из отеля «Хэсслер» в голубом берете с красным помпоном.
– Ну как по-твоему, пономаря или эту фифочку?
Не успел я схватить его за рукав, как мой брюнет уже смешался с толпой. Потом я увидел, как он толкнул священника, который едва не потерял свои очки, не заметив, что золотая цепочка, висевшая на его запястье, благополучно сменила владельца.
Внизу, у подножия лестницы, фонтан по прозвищу «баркачча», названный так из-за своего сходства с челноком, наполовину затопленным водой, казалось, был готов утонуть по настоящему, так как вода уже начала переливаться через его низкие «борта». Откровенный вызов духу постоянства и господства, противопоставление парижскому девизу «Fluctuat nec mergitur», символ неопределенности и риска. Здесь Рим пожелал отвергнуть заповедь: «Ты – камень, и на камне этом возведу церковь свою». Плавание на хлюпком челноке, готовом в любой момент утонуть – такова была участь всех жителей этого города, которые в неожиданном крушении Града и его притязаний на гегемонию усматривали путь к своей свободе. Возможность верить в случайное, непредвиденное, в удачу. И все, кого Рим считал мошенниками, проститутками, уличными торговцами и паразитами, охотно собирались на ступеньках площади Испании, в том единственном месте, где неприкаянный Рамон мог дожидаться волшебного мгновения манны небесной, которую Альфа Си-нематографика прольет на его голову; дав ему возможность спать на кровати, звонить маме в Каталонию и вернуть сотням своих друзей, с истинно иберийским блеском и чувством собственного достоинства, те тысячи сигарет, которые он у них стрельнул. Здесь проходила граница его мечты об изобилии, которую он обманывал, живя мелкими кражами.
Впрочем, меня ожидало еще одно разочарование. Архитектура площади в целом подчинена строгим правилам, а эти правила выражают теоцентрическую модель вселенной, которая исключает всякую авантюру и случайность.
Фонтаны Рима, воспринимающиеся некими «капризами» незамутненной фантазии (фонтан Черепах, фонтан Пчел, фонтан Рек, фонтан Треви, фонтан Мавра, фонтан Тритона), романтичны лишь по своему названию. Рим есть царица мира благодаря своим источникам. Ее стихия – водная среда. Его недра, изобилующие подземными водами, представляют собой гигантское хранилище амниотических соков, питающих человечество. Дырявая чаша «баркачча», протекающая со всех сторон, символизирует лишь то, что из многочисленных фонтанов, которые бьют от Пинчо до Палатена, она наиболее красноречиво намекает на акватическое происхождение жизни и на место воды в тайне рождения.
Пусть струятся вовеки они из раструбов и трещин, пусть рассыпаются они жемчужным веером из зияющих раковин, пусть вырываются из жерла труб и бьют струей из горбатого носа дельфина, материнские воды, что поят, кормят словно грудью, баюкают, пеленают и сковывают город. Размеренным журчанием своим, умиротворенным ритмом низвергаемых потоков каждый фонтан пробуждает ностальгическое воспоминание. Вечная жалоба истекает от «баркачча», самого фонтанного из всех фонтанов. Реминисценция этой внутренней музыки есть самое драгоценное сокровище для любого человеческого существа.
Но после того как оно пробыло необходимое время под спасительным покровом, после того как его выносили, взлелеяли и вскормили, оно должно встать на тернистый путь постижения жизни: к которому ведет его лестница, начинающаяся в тот самый миг, когда человек ставит ногу на сушу. Эта лестница, в отличие от всех известных лестниц, оставляет идущему по ней выбор между несколькими маршрутами: он может пройти слева или справа, или же пройти наискосок или подняться зигзагом. Он встречает на своем пути несколько промежуточных пролетов и сбоку большую и широкую террасу с балюстрадой, откуда он может окинуть взором пройденный путь, если только он не решит повернуть наверх, дабы оценить труд оставшегося восхождения. Как аллегория человеческого существования, эта лестница дает ему возможность проложить путь по своему усмотрению, выбрав приглянувшиеся ему перила, равно как направление и время прохождения пролетов. Но как аллегория христианского существования, она принуждает его к непрерывному восхождению, к усилию, которое есть стяжание грешной плотью Бога, устремление души к своему Спасителю.
И на самой вершине, когда распрямится он на последней ступеньке, его взору откроется обелиск. Никакая суетная причудливая блажь не привела б его сюда. Обелиски воздвигают, как и фонтаны, наугад. Как и другие египетские трофеи, оставшиеся в наследство от Августа и Калигулы и установленные папами в эпоху Контр-Реформации в общественных местах, этот обелиск указует небо. Небо, изображенное церковью Троицы на Холмах, которая открывается путешественнику с последних девяти ступенек. Если он поднимет голову, то перед ним, словно гигантские каменные близнецы, вырастут две закрывающие перспективу колокольни, обозначив высший предел его восхождения.
Рим ведет человека за руку с колыбели, предоставляя ему видимую свободу лишь для того, чтобы вернее вести его к цели. После этого открытия площадь Испании мне более не казалась живописным и приятным променадом, который поначалу обаял меня. Я по-прежнему прислушивался к шепоту фонтана, но его падающие капельки отныне вели для меня отсчет истекающего времени. Императивная топография! И образ Матери был для меня опошлен ее положением служанки и рабыни. Нет спасения вне Отца, который вперил в небо свой осуждающий перст и гонит меня в свой храм, едва я добираюсь до конца лестницы.
Следовало либо прогнуться перед порядком и подниматься вверх, либо дожидаться, когда тебя низвергнут во тьму. О чем свидетельствует множество самых разных метафор в истории Рима: костер Джордано Бруно, сожженного на Кампо деи Фьори, двадцать семь лет заточения Томмазо Кампанеллы, инквизиторский суд над Галилеем, пытки Марио Каварадосси, проводившиеся префектом Скарпиа, и тюрьма с фатальными последствиями для Микеланджело Меризи, известного как Караваджо и убитого в расцвете своей славы на пляже Латиума.
23
Мне предстояло открыть для себя Караваджо, в музеях и церквях, полотно за полотном, о которых нам рассказывал еще в Болонье Роберто Лонги, относившийся к этому художнику столь же сдержанно, как и к барокко, что четко увязывалось с его критикой официального искусства, а, главное, официальной истории искусствоведения. Терзания проклятого художника оказались подстать триумфальной карьере обласканного королями и папами Бернини, который никогда не отклонялся от инструкций власти. Жизнь его, сопровождавшаяся травлей, и скандальная смерть на безлюдном пляже не миновали долгого посмертного забвения, вплоть до его второго открытия в XX веке, состоявшегося еще до Вермеера и Ла Тура.
Совершив невнятную попытку доучиться и защитить свой диплом, я, если ты еще не забыл, вскоре понял, почему я отказался от этой затеи и почему мне было трудно ее осуществить. Ну разве мог я погрузиться с головой в безличный язык терминов университетской диссертации, когда каждая картина – прежде своим сюжетом, а уже потом и стилем своим – вызывала во мне чудовищное потрясение?
Я бегал от одного холста к другому, не успевая отойти от впечатления последнего. Вот Вакх с корзиною фруктов, чья белая рубашка, скользя по руке, обнажает плечо; он слегка закинул голову назад, в знак приглашения, о чем подчеркнуто свидетельствуют его приоткрытый рот, затуманенный взгляд да приливающая к ушам кровь, красный цвет которых контрастирует с его черными кудрями. Вот Нарцисс, сидящий на корточках у водоема и раскрывающий уста навстречу своему отражению; то не банальный мифологический пастушок, а славный паренек, напоминающий – судя по его шелковому камзолу, расшитому атласными цветами, дорогой батистовой рубашке и изысканно уложенной прическе – какого-нибудь пажа, сбежавшего из замка. Свободной странствующей жизни повесы легкомысленно принесенная в жертву выгода и корысть: его голубой чулок, уже успевший разорваться на коленке. Или вот уже в коридоре Галереи Дориа-Памфили с ее вощеным дубовым паркетом и искусно декорированным потолком – юный и нагой Иоанн Креститель. Облокотившись на одну руку, он обвивает другою ягненка. И вот висящая рядом картина, что поразила меня контрастом между лукавой улыбкой, озаряющей лицо ребенка, и согбенной спиною и глубокой печалью Мадонны.
Сидя на низком стуле на фоне серой стены, она склоняется вперед, сложив руки на животе и устремив глаза в пустоту строгой монастырской кельи. Образ одиночества и отчаяния, чья торжественность подчеркивается изысканной вышивкой ее платья из пышного бархата, которое стягивает на талии красная лента. На полу рассыпаны украшения, которые она только что сбросила с себя. Одно колье сломалось при падении и жемчужины откатились по каменным плитам к хрустальному графину с белым вином. Созревший на склонах Фраскати нектар не способен прельстить ее своим золотистым цветом, чего не скажешь, подумал я, рассмеявшись, о втором весьма шаловливом персонаже. Он готов выпить залпом весь графин, не забыв прихватить на ходу презренные украшения.
Сравнение, возможно, случайное, но утвердившее меня во мнении, что мальчики более созданы для игры и развлечений, тогда как женщины по природе своей обречены страдать и огорчаться. Именно такими, оскорбленными и печальными, они мне всегда представлялись, начиная с женщин, которые окружали меня в семье. Чтобы женское лицо мне понравилось, привычка плакать должна была оставить на нем свой глубокий след. Я охотно помог бы всем Магдалинам нести их крест, так же, как я разделял с Джованной Б. ее тревогу за судьбу еврейского народа, а с Вильмой Кальц, эмигрировавшей из Словении, горечь и боль изгнания. Вильма Кальц, о стройной талии и грациозной фигурке которой мне всегда напоминала одна из картин Караваджо с белокурым, как и она, ангелом, играющим, как и она, на скрипке; с той лишь разницей, что этот ангел, откровенно мужеподобный несмотря на усилия художника придать ему двусмысленный облик гермафродита, останется в моей записной книжке на самом видном месте, вместо того, чтобы пропасть в одном из пригородов Любляны, название которого я нацарапал на уже давно мною потерянном спичечном коробке.
Что до странного юноши из дворца Корсини на виа делла Лунгара, что на другой стороне Тибра, с его копной черных волос, которые закрывают его лоб и верхнюю половину лица, отбрасывая на губы и подбородок размытую тень, которая оставила нетронутыми его залитые светом грудь и плечи, то на мой взгляд смешно и нелепо было представлять его под лицемерным именем Иоанна Крестителя. Он был очевидной, слегка идеализированной транспозицией какого-нибудь бродяги, которого Караваджо встретил где-то на том берегу Тибра, служившего пристанищем всякому ворью, и пригласил в свою мастерскую под предлогом позирования; ведь вор или проститутка, легко обнажают свое тело, хотя стараются, как всякие мошенники, исказить черты лица, дабы иметь возможность скрыться, не оставив по себе слишком точных портретных улик.
Мысли, которые вели меня и гнали, как кнутом, к диплому, в то же время подводили к осознанию нового препятствия. Роберто Лонги запрещал нам анализировать картины, соотнося их с обстоятельствами жизни художника. Особенно в отношении Караваджо он призывал нас опасаться «мрачной истории» его авантюр. Драки в притонах, кровавые дуэли с каждым встречным, таинственный шрам, которым его наградили, распоров лицо, на пороге какого-то трактира, и так вплоть до этой жестокой и отвратительной смерти на пляже, к которому он пристал на своей фелюге[30]30
узкая парусная лодка у народов Средиземноморья.
[Закрыть]: историки немеют от этих невероятных злоключений. Их занимал исключительно разбор «художественных ценностей», изучение световых эффектов и анализ светотеней. Пробелы и неточности в современном искусствоведении, простительные для Лонги в силу его джентльменской деликатности, которая претила ему рыться, как он сам говорил, в грязном белье, приобрели за последние двадцать лет чудовищные размеры, и теперь бездушные инженеры под именем структуралистов и специалистов по семиотике (педантичное соперничество с точными науками!) заявляют о способности разобрать любое произведение как мотор самолета вне всякой связи с биографией художника.
В разрез с этой модой, которая свирепствует среди профессоров и которая отбила у меня всякое стремление к университетской карьере, я рассматривал работы Караваджо как зашифрованную хронику его жизни. Меня сразу поразил, например, тандем «юноша – палач / взрослый человек – жертва». Взять, к слову, «Мученичество Святого Матфея» в церкви Сан-Луи-де-Франсэ, на которого я ходил полюбоваться в те часы, когда его не подсвечивали по желанию посетителей за сто лир. Не задерживаясь на технике Караваджо, его диагональных композициях и мастерству контрапункта – положения значимые, но лишь как преамбула к основному содержанию – я расшифровывал для себя, насколько мне позволял полумрак бокового свода и сумеречные тона картины, странную сцену смирения перед казнью. Эфиопские дикари, в страну которых он пришел проповедовать, врываются в храм, чтобы предать святого смерти; который упав у алтаря, подставляет свою обнаженную голову с пышно разросшейся бородой под острый меч, который занес над ним юный дикарь, самый свирепый из нападавших, но и самый прекрасный. Свидетели убийства от страха разбегаются по сторонам, в беспорядке теснясь к выходу с искаженными от ужаса лицами. Лишь один святой Матфей остается безучастным к происходящему. Он даже не пытается защитить лицо от грозящего ему удара. Он смотрит, скрестив крестообразно руки, на юношу, который, наклонившись над святым, выбирает часть тела, в которую он вонзит свой длинный сверкающий меч. «Куда пожелаешь», – кажется, шепчет жертва своему убийце, чье обнаженное тело прикрывает лишь набедренная повязка, да кусок ткани, которым перехвачены его волосы, жесткими кудрями ниспадающие ему на лоб. Остальная часть картины плохо освещена и почти неразличима. Весь свет падает, струясь, на тело дикаря, на которого я взирал остановившимся, как у Матфея, взглядом. Это оцепенение, в которое апостола повергла ослепительная юность и красота его палача, передавалось немедленно мне самому; какой же сверхчеловеческой силой нужно обладать, думал я, чтобы устоять перед соблазном умереть подобно этому святому.
Еще один такой тандем, который произвела на меня глубокое впечатление, я обнаружил на втором этаже галереи Боргезе – чернильный холст «Давида с Голиафом», который вскоре стал моей любимой картиной. Отсутствие свидетелей смерти и прочих статистов – захватывающий вид двух мифических противников, одиноко стоящих во мраке ночи. Ни одно живое существо не удостоилось чести присутствовать при их последней встрече. Сын Ессея стоит с полуобнаженным торсом, по которому на его бедра соскользнула легкая туника. Слегка наклонив голову, он созерцает отрубленную голову филистимлянина, держа ее в своей руке; другой рукой он сжимает опущенный вниз меч. Восхитительный рисунок торса; отстраненный вид победителя, который не опускается до наслаждения завоеванным трофеем; маленький, хорошо очерченный рот, розовые губы которого контрастируют с побледневшей матовой кожей; розовое, как у Вакха ухо; целомудрие либо осторожность художника, который сосредоточил в этом безобидном органе пылкую чувственность своей модели.
Ни трагически сумеречный задний план, ни игра света на обнаженной груди, ни мертвенный отблеск меча во мраке не могли скрыть от меня одну любопытную деталь: Караваджо не только не оставил глаза убитого широко раскрытыми, но кроме того расположил их асимметрично. Они разнятся, словно в жизни, и рисунком, и выражением своим. Слева я видел закрывающееся веко и мутное свечение угасшего зрака; справа, напротив, застывшее, приподнятое веко и диковатый отблеск радужной оболочки. Полураскрытые уста, обнажившие ряд сверкающих зубов, также не похожи на губы мертвеца. Какое слово слетело с этих уст? Проклятие? Мольба? Нет, нечто, что, наверно, выражало, каким бы странным это мне не показалось, песнь благодарности, акт милости к убийце. Но более всего я был изумлен, заметив на его оскверненном и униженном лице словно некую тень удовлетворения. Ничто не выдавало в нем предсмертного ужаса, ни одного искаженного агонией мускула, ни единого свидетельства противления или страха нельзя было отыскать на его лице; скорее выражение согласия и покорности, почти упокоения. Сгорая от волнения, я чувствовал, что раскрыл правду, о которой не принято говорить вслух. Словом, мне казалось, что этот бородатый исполин не без тайного наслаждения покорился прекрасному юноше.
Любопытное искажение весьма избитого в искусстве того времени сюжета, однако в данном случае пошедшее в разрез с Писанием. Странное и необъяснимое, если только не… Быстро вернувшись домой, я залез в свои тетради, которые заботливо хранил в столе вместе со всеми памятными вещами, оставшимися у меня от Болоньи. «Давид и Голиаф», написана в 1609 году, на следующий день после драки у таверны Черрильо в Неаполе, в излюбленном месте моряков и контрабандистов. Кого художник встретил в тот день? Из-за чего возникла ссора? Кто рассек ему щеку? Его так исполосовали, что не узнала бы и мать родная. И почти никаких сведений. А! нет, вот одно, самое главное: голова Голиафа считается автопортретом художника. С этого момента все становилось ясно. Метод работы Караваджо: рассказывать сквозь призму библейской истории событие из личной жизни. Личность нападавшего. Мотив, в соответствии с лукавой легендой объяснявшийся неуплаченным карточным долгом; равно как и мотив убийства, шесть месяцев спустя, на берегу пустынного пляжа, что рядом с Гаетэ, на полдороги из Неаполя в Рим, к которому его лодчонку прибило ветром, или же привело несчастливой звездой; убийство, оставшееся для всех загадкой. По-видимому, разгадка крылась не так уж далеко. Все свои тайны Караваджо оставил на своих холстах. Достаточно было сорвать маску, под которой он прятался. Иконографические открытия Караваджо раскрыли передо мной суицидальное пространство человека. Очарование, которое производят на великого творца восемнадцатилетние палачи.








