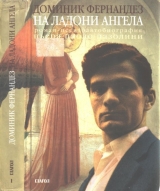
Текст книги "На ладони ангела"
Автор книги: Доминик Фернандез
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 38 страниц)
16
Церковь в Версуте, романский памятник Треченто, что возвышается среди заросших сорной травой лугов. Разглядывая внутреннюю стену поперечного нефа, я обнаружил на ней следы фресок. Один мой знакомый художник научил меня соскребать луковицей слой штукатурки, так чтобы проявились остатки росписей. За день мы очистили голову одного святого, портрет которого соседство с аббатством Сесто аль Регены позволяло нам приписать кисти неизвестного ученика Джотто, расписавшего монастырскую церковь.
В то время я много рисовал и часто писал. Пейзажи, портреты женщин, детей, автопортреты. Два раза я написал себя с цветком в зубах. Ни масло, ни темпера мне не нравились. Любопытное признание из уст человека, который не обладает ровно никаким авторитетом в данной области, но мне казалось, что из всех искусств живопись дает самое глубокое проникновение в природу. Вот почему, предпочитая самодельные краски заводским, я начал смешивать их то с клубничным соком, чтобы получить более мясистый красный, то с соком некоторых маслянистых трав, с помощью которых я добивался искомых оттенков зеленого. К большому удивлению моего знакомого художника, Джузеппе Дзигаины, я принялся собирать растения, для чего отправился к нему в Червиньяно дель Фриули. (В память об этом времени и нашей дружбе я потом пригласил Джузеппе сыграть в моих фильмах: в том, что снимался в Милане, это его рукой рисуется загадочная картина.)
Было, наверно, два или три часа пополудни, когда в самый разгар этого знойного июньского дня, опустошившего деревни и загнавшего всех, и людей, и скот, в тенистое прибежище сиесты, я слез с велосипеда на землю перед чьей-то фермой, чтобы попросить стакан воды. Я проехал уйму километров в поисках новых образцов для своего гербария, и едва стоял на ногах. Посреди двора, сидя на камне рядом с колонкой, какой-то полуголый парнишка обсыхал на солнце после омовения. Он еще держался рукой за край трубы, прикрепленной к крану железной проволокой. Мне была видна только его сверкающая загаром спина: плоть, пронизанная светом, и игра уже красиво очерченных мускулов под бронзовой кожей.
Его голову покрывала соломенная шляпа с очень широкими полями. Рядом на земле лежал букет свежих маков. На мгновение мне показалось, что он, как будто растворившись в глубоком созерцании, что-то пристально разглядывал между ног. Я тихо подошел поближе. Весь дом дремал за закрытыми ставнями. Распластавшаяся в своей конуре собака чуть приподняла голову и снова заснула, чтобы не утруждать себя лаем. Хоть бы одно дуновение развеяло этот зной. Белые простыни, сушившиеся на растянутой через весь двор железной проволоке, свисали неподвижно, словно киноэкраны.
То, что я принял за шляпу, оказалось полями без основы, из-под которых выбивались густые светлые волосы, по цвету сливавшиеся с соломой. Паренек услышал шаги, резко выпрямился и обернулся. Мы оба вскрикнули от радости и изумления. Я не видел его с момента похорон Гвидо, а теперь он уже учился в лицее Удине. Он окреп и похорошел, но это был все тот же Свен, хорошо сложенный, стройный, безусый, сияющий Свен, его грудь и живот были по-прежнему голыми, как у ребенка, но из-под его тесных трусиков уже выбивался густой пучок черных паховых волос. Он поймал мой взгляд, покраснел, натянул джинсы, резко задернул молнию, с такой же энергичностью застегнул ремень и для полноты картины надел клетчатую рубашку, которую он вместе с джинсами и ремнем приобрел в одном из послевоенных американских магазинов. Потом он заметил, что его голову по-прежнему украшал этот странный головной убор, и кровь еще сильнее ударила ему в лицо. Он заголосил, что отец будет ругаться, если «мамочка», проснувшись, не обнаружит своей драгоценной соланы, и бросился к дому, даже не нацепив сандалий.
Итак, мне только что был явлен один из редчайших образчиков той венецианской шляпы, которую когда-то носили современницы Веронезе и Тициана – сидя на своем балконе и не опасаясь за свое лицо, прикрытое полями, они подставляли свои волосы солнечным лучам, которые покрывали их той полупрозрачной сияющей позолотой, что была увековечена живописцами. Обычай, распространенный в те времена среди столичной аристократии, сохранился в неприкосновенности в самой удаленной и самой деревенской части провинции. И если меня немало удивило то, что крестьянка XX века прибегала к тем же уловкам, что когда-то жена дожа или прокуратора, то проявление подобного кокетства со стороны шестнадцатилетнего подростка меня сразило наповал. Быть может, в подражании моде древних лет Свен доходил и до того, что смачивал губку соком айвы и бирючины и умащивал ею свои волосы в особо жаркие часы?
Едва я успел освежиться у колонки, как он появился вновь с разметавшимися по загорелому лицу золотистыми кудрями. Придя в неожиданное для самого себя замешательство, я принялся собирать с земли маки, чтобы не выдать своего волнения. И тут мне пришла в голову одна, как мне показалось, забавная мысль. По своему педагогическому опыту я знал, что чтобы завоевать ребенка, его нужно развлекать.
– Гляди-ка, что мы сейчас сделаем, – сказал я ему, снимая с проволоки сушившуюся простыню. – Не бойся насчет папы с мамой, мы все уберем до того, как они проснутся. Давай-ка, не стой на месте.
С испуганным видом он принялся смотреть, как я расстилаю прямо на пыльной земле свежевыстиранную простыню. Меня не смущало то, что я вовлекал его в эту аморальную по семейным понятиям затею, которая под носом у его родителей превращала их добропорядочного сына в соучастника мелкой пакости.
Я растер лепестки мака между ладоней и выжал над простыней их сок, который высох за считанные секунды. Затем я сказал Свену смочить водой палец, прижать его к ткани, и, водя им в тех местах, где цветы пропитали ее своим соком, начертить какой-нибудь рисунок. Он мгновенно ушел с головой в эту игру и нарисовал фантастические звезды, своими лучами напоминавшими щупальца. Там, где он проводил своим пальцем, ткань окрашивалась в бледно-красный, практически розовый цвет, который вспыхивал неожиданным блеском, соединяясь с остатками стирального порошка. По краям рисунка указательный палец Свена оставлял каемку темно-красного цвета, настоящего пунцового рубинового цвета. Результат его впечатлил. Он решил попробовать на другой части простыни, сам растер лепестки, смочил палец и попытался нарисовать верблюда. Если бы не горб, его с трудом можно было бы отличить от кошки или барана. Потерпев на этот раз неудачу, Свен уступил мне следующую попытку. Пока я изо всех сил старался не напортачить, он обвил рукой мою шею, и по мере того, как на простыне вырисовывалось нечто вроде африканского дуара[18]18
табор бедуинов, мусульманское поселение на севере Африки.
[Закрыть] с шатрами и животными, он от избытка чувств внезапно поцеловал меня. Свен добавил от себя несколько деталей, после чего мы продолжили, смачивая по очереди палец, наполнять наш рисунок разными вариациями в тех же розовых и красных тонах, но с бесчисленными оттенками, в зависимости от густоты макового сока, количества добавленной воды или силы нажима на простыню.
Свен захлопал в ладоши, глядя на завершенную работу. Он воскликнул, сияя от радости:
– Да мы с тобой художники!
Я подумал, что он снова начнет меня целовать, но тень пробежала по его лицу.
– Хотя конечно, – грустно вымолвил он, – к живописи это отношения не имеет!
– Да нет же, Свен, это – живопись, а ты – художник!
Полагая, что такое неверие в свои способности ему привили в лицее, где какой-нибудь преподаватель со своими академическими предрассудками вбивал своим ученикам, что живопись начинается с мольберта и кисти, я привел ему пример одного великого художника прошлого, который составлял свои краски из веществ растительного происхождения. (Его звали Понтормо, впрочем, я не назвал Свену его имени, будучи убежден, что ни в одной школе мира никто не упомянет церквушку Санта Феличита: чтобы снова взглянуть на его «Снятие с креста», я был даже готов лишний раз съездить в эту дурную Флоренцию!) «Никто после его смерти, – добавил я, – так и не смог разгадать секрета его розовых и зеленых красок».
– Ты не хотел бы мне помочь раскрыть этот секрет? Нужно будет просто собрать как можно больше самых разных растений.
– Конечно! – воскликнул он, – хоть сейчас, если вы возьмете меня с собой!
– Ты забыл, – сказал я, – что нам еще нужно доделать одно важное дело.
Я поднял простыню, на которой, не в силах оторвать глаз от нашей совместной работы, ему хотелось еще бесконечно подправлять какие-то детали. Затем с самым решительным и непроницаемым выражением на лице, на которое я только был способен, хотя после того, как он поцеловал меня, сердце так и прыгало у меня в груди, я направился к колонке. Не обращая внимания на его крик, я приладил обратно к крану трубу, которую я снимал, чтобы напиться, и направил струю воды на наши рисунки, которые смыло в одно мгновение. И с тем же спокойным и равнодушным видом я принялся подвешивать на прищепки простыню, которой вернулась ее прежняя белизна, краем глаза при этом поглядывая на огорченного и разочарованного Свена. Я добился двух вещей, во-первых – завоевал внимание подростка с помощью занятия, которое ему явно пришлось по душе, во-вторых – раскрыл ему первый раз в жизни столь очевидные недостатки сыновней покорности. Превосходный урок, из которого в глубине своей памяти он сохранит непосредственную радость, не только оттого, что он не спросил у отца разрешения, но что еще и рискнул совершить поступок, который тот бы не одобрил.
Последующие дни и весь остаток лета мы потратили на множество экспериментов, используя основой для своих фресок задние стены одиноких амбаров или внешние стены достаточно удаленных от деревни церквей. Один собирал растения, другой колдовал над их составами. Ежедневное свидание под старой яблоней с узловатым и трухлявым стволом, что росла на полпути меж Касарсой и фермой Свена. Если я почему-либо задерживался, он оставлял мне записку в маленьком дупле: «Жду вас тут завтра», или «А не взяться ли нам за Льва и Ягненка?» Среди прочих басен, Свенн мне поведал одну средневековую немецкую сказку о флейтисте из Гамельна. Вереница крыс, очарованных мелодичными звуками флейты, похоже, была нам еще по силам. Но как изобразить процессию детей, которых музыкант, возмущенный неблагодарностью горожан, увлекает за собой в чащу леса?
Как-то раз я принес Свену рогатку, в качестве возмещения за нанесенные в прошлом обиды. Он уловил намек, так как на следующий день я обнаружил в дупле дерева записку, написанную каллиграфическим почерком на бумаге в клетку, вырванной из его школьной тетради: «Почему вы тогда были так несправедливы?» Едва я успел дочитать, до слез взволнованный этим признанием, как он прыгнул сзади на меня и закрыл ладонями глаза. Он заранее спрятался, чтобы застать меня врасплох, и с тех пор мы поочередно укрывались где-нибудь неподалеку от яблони, чтобы полюбоваться на растерянный вид опоздавшего и прыгнуть внезапно ему на шею. Свен валил меня на землю, и мы катались клубком по траве, прижавшись, друг к другу; ритуальный поцелуй в щеку, возвещал о том, чтобы я поднимался.
По дороге через поле мы наполняли свои рюкзачки разными образцами трав и цветов. Следуя своей методике мелких правонарушений, я подстрекал Свена залезать через забор в частные сады и воровать в часы сиесты самые красивые экземпляры садовых цветов. Тем самым я убивал двух зайцев, пополняя наши запасы диких растений и подогревая его интерес к незаконному и запретному. Белоснежные нарциссы, фиолетовые гиацинты, желтые анемоны, оранжевые георгины, алые розы, пурпурные гвоздики кружили ему голову тысячей своих оттенков и повергали его в экстаз, пока я растирал более прозаичные черные ягоды можжевельника или смолистые стебли фисташкового дерева.
Ставший через несколько лет прекрасным художником (которому только скромность и нежелание переезжать в Рим не позволили добиться всеобщей славы), он научился своему ремеслу не в ателье, с кистями и растворителями, и свои краски он покупал не в магазине, а выбирал их сам в безграничной волшебной палитре, которую ему предлагала природа. Он был невосприимчив к запахам и вряд ли задумывался над тем, как пахнут розы. Весенние заросли пахучего жасмина могли окутывать всю дорогу своим ароматом, а его интересовало только, будет ли сочетаться этот белый жасмин с сиреневым цветом анютиных глазок и сизым цикламеном.
Он становился моим учителем. Моим изощренным находкам (например: смешивать винный уксус с известью, чтобы получить более резкий красный цвет, или использовать еще теплый свечной воск) он предпочитал чистые цветочные экстракты. Чтобы сделать эскиз на стене, ему не нужен был ни карандаш, ни перо. Он щедро выжимал сок своих самых красивых образцов прямо на поверхность, которую он собирался расписать, осторожно проводил пальцем по этой переливающейся микстуре и без всякого предварительного наброска извлекал на свет неожиданные фрески льва с ягненком или крыс с детьми.
Я был изумлен быстроте совершенного Свеном прогресса, но еще больше я был счастлив, когда, отчаявшись исправить неудавшийся профиль или провалившуюся перспективу, он склонял свою голову ко мне на грудь и напрашивался на ласки, которые, из осторожности и с оглядкой на его возраст, дальше поглаживания по голове не заходили. Сочетая эту протестантскую педагогику и целомудренную чувственность, я переживал первую в своей жизни любовь. Один только раз я позволил себе самому обнять Свена и поцеловать его в щеку, когда он написал в своей столь же простой, сколь и чарующей манере очень красивую головку ангела на колонне одной разрушенной часовни.
Я давно хотел сводить его к себе на чердак в Версуте, чтобы поближе познакомить его с моими литературными опытами. Он удивился, что мой рабочий стол стоял не у окна, которое выходило на поля, а у глухой стены. Неблагодарное это занятие, писать книги, – сказал я ему, – не то что рисовать: приходится замыкаться, отгораживаться от мира (так как окно и «панорама» губительны для письма), уединяться от близких, тогда как великие живописцы прошлого работали в команде, часто на глазах у поклонников, и всячески развлекались на лесах, обмениваясь разными шуточками, благо под рукой всегда были фляжка с вином да кусок хлеба и сыра.
Вместо того, чтобы прислушаться к моим жалобам, он довольно разглядывал разбросанные на столе инструменты писательского труда, некоторые из которых были ему неизвестны: перьевые ручки разных размеров, шариковые карандаши, бывшие тогда в новинку, двуцветная резинка двойного назначения, скребок для исправления ошибок, разрезной нож, скоросшиватель и две катушки скотча, обычного и прозрачного. Единственной вещицей из этого набора, что никогда не выглядела смешно в моих глазах, но которую я приобрел лишь много лет спустя, в Риме, было откидное лезвие бритвы, с помощью которого я отрезал страничку с посвящением, прежде чем продать старьевщику за сотню лир те книги, что присылали мне бесплатно из издательств мои коллеги по работе.
Жесты человека, сидящего перед листом бумаги или за своей пишущей машинкой, всегда казались мне необычайно бедными касательно церемониала, который сопутствует всем фазам ручного труда. Я не развивал этого сравнения исключительно, чтобы польстить Свену и придать ему уверенности в его призвании. Так я думал в глубине себя. Манипулировать субстанциями, преодолевать, как и подобает ремесленнику, конкретные задачи, вот радости, неведомые поденщику от литературы. Мой юный гость совсем не следил за моими рассуждениями. Я напрасно объяснял ему, что, сидя на своем стуле и заполняя страницы ровными строчками абстрактных однообразных значков, я испытывал глубокое чувство неудовлетворенности и скуки, он находил красоту в этих упорядоченных иероглифах и, послушав одно из моих стихотворений, даже немного разозлился оттого, что мне доставляло радости играть и жонглировать словами.
– «Мое тело из грязи и слоновой кости», – повторил он с восхищением. Эта была своеобразная литания, которую я написал (только понял ли он это?) во славу подростковой любви:
Резкие вспышки
волос… Жестокость
пренебрежительных взглядов…
– Знаете, – добавил он, взяв с моего стола перьевую ручку и вложив ее мне в руку, – я хочу, чтобы вы мне посвятили следующее стихотворение, мне одному! Тогда вам не будет так грустно сидеть на своем стуле, потому что ваши мысли будут заняты мной.
Мое поэтическое «призвание» без всякого сомнения, окончательно определилось именно в этот час. Я чуть не заплакал от радости и неожиданности этого столь нежного упрека. С какой деликатностью он сообщил мне, что осознает, что он любим! Сколько такта в этом приглашении оказать ему внимание! Эта сделанная в Германии черная эбонитовая ручка с белой шестиконечной звездой на колпачке марки «Монблан» стала моим талисманом. Я никогда не расставался с ней, даже во время своих первых полетов на самолете, когда в кармане из нее вытекали чернила. То что я выбрал карьеру писателя, то что повязка художника осенила мой лоб только один раз в жизни, когда я играл роль Джотто в своем неаполитанском фильме, то это лишь благодаря Свену и ручке «Монблан». Стоит ли мне сожалеть, что я не повязал свои волосы повязкой на всю жизнь? Став профессиональным живописцем, я продолжал бы копаться в цветах на склонах холмов. Мои работы, сделанные из быстро портящихся материалов, по законам органической жизни стали бы жертвами процессов разложения, которые бы их, в конце концов, уничтожили. Участь в тысячу раз более желанная по сравнению с участью моих книг, чьи девственные страницы, пылящиеся в библиотеках, через пятьдесят лет станут пищей разве что каких-нибудь педантичных книжных червей. Но тогда бы я предал самое нежное и самое волнительное воспоминание своей юности.
Сегодня ты, Дженнарьелло, оказываешь мне доверие в этой работе. Да, когда мне надоедает выслушивать лицемерные комплименты своих собратьев, когда я признаюсь, что вся польза моих успехов – вызвать либо зависть у раздосадованных соперников, либо лесть кандидатов на одну из литературных премий, членом жюри которых я являюсь, когда ни одно искренне сказанное слово не дает мне представления о сделанном, когда я задумываюсь, насколько привлекательней выглядят названия моих книг по сравнению с теми, что я отсылаю каждый месяц старьевщику, мне достаточно представить тебя на террасе с твоими родителями, рядом с горшочками базилика и свисающими связками чеснока. Ты не стал бы читать меня, если бы в моих словах не было столько же жизни, как в солнечном луче, упавшем на руку твоего спящего отца, как в листиках мяты, политых твоей мамой из бутыли, в которую она только что налила воды из-под крана на кухне. Суровая и честная конкуренция – бороться с жужжанием мух над тарелками, стрекотанием кузнечиков в траве и пением птиц в лазурном небе!
17
К середине августа, измученный испепеляющим зноем, я спросил Свена, не хочет ли он сходить искупаться в реке. Как только мне это раньше не пришло в голову? Впрочем, разве мне и вправду это не приходило в голову? Чего же я опасался, если хотел привести своего amato[19]19
любимого.
[Закрыть], как я его называл про себя, туда, где «заниматься любовью» между мальчишками считалось самым естественным занятием в мире? «Принизить» чувство, которое внушал мне Свен, «нечистой» связью? Или же наоборот, показаться робким и неловким, просто поплавав и позагорав на солнце, не продемонстрировав той свободы, которую бы я проявил с любым другим парнем из деревни? Тридцать лет спустя эти вопросы нарастают комом у меня в голове и не дают покоя, в какой мере моя история со Свеном была, возможно, не той греческой идиллией и не тем безобидным поэтическим увлечением, каковыми она мне представлялась, а очередным столкновением, противостоянием деревенского, провинциального, в этой двухтысячелетней войне, объявленной душою телу с тех пор, как религия Христа заменила собой языческие культы. Неужели я лелеял христианского Себастьяна, полагая, что влюблен в буколического Алексея?
Свен под разными предлогами увиливал от моего предложения. Он не осмеливался признаться, что его смущало: эти слишком короткие, а, главное, немодные трусики, в которых я застал его, когда он принимал душ у колонки.
Не предупредив его, я поехал рано утром в Порденоне, чтобы купить настоящие плавки «slip», как их стали называть в журналах после войны, когда вместе с падением фашизма был снят запрет на употребление иностранных слов. И поскольку для него, похоже, самое главное было одеться по-американски, я сразу отправился в складской магазин победоносной армии. Желанный предмет вскоре попал в поле моего зрения: ни слишком тесные, чтобы не смутить его, ни слишком высокие, чтобы не смазать ему весь шик. Ярко красные, из блестящей ткани с серебристым отливом. По бокам украшенные зелеными полосками. В таком наряде – невиданная для нашего нищего Фриули роскошь – Свен мог бы перенестись в своем воображении с каменистого берега Тальяменто на какой-нибудь шикарный калифорнийский пляж. Его изумленные приятели позеленели бы от зависти. Но что меня окончательно убедило купить их, несмотря на высокую для моего преподавательского кошелька цену, так это желто-синий Микки Маус, нарисованный прямо на причинном месте: головокружительное украшение, достойно завершающее превращение ширпотребного товара в голливудский аксессуар.
Слабо себе представляя последствия этой покупки, я попросил завернуть плавки в подарочную бумагу и украсить ее розовой ленточкой; и с бьющимся от волнения сердцем отправился прятать пакет в тайнике яблони задолго до часа нашего свидания.
Свен бросился мне на шею. «Такого красивого цвета!» Сгорая от нетерпения, он решил сразу же пойти купаться. Место он выбрал сам: укромная излучина реки вдалеке от пляжа, на котором обычно собирались касарские мальчишки. Плакучая ива отбрасывала своими извивающимися ветвями длинные тени на песочную косу, которая своеобразным полуостровом отделила один из рукавов Тальяменто от тихой бухточки, заросшей водорослями. Романтичный умиротворенный пейзаж, который нарушал лишь пронзительный грохот забивающихся свай и бульдозеров, без устали тарахтевших на стройке восстанавливающегося моста. Но я и мечтать не мог о более уединенном убежище. Здесь нас никто бы не застал врасплох. Свен посмотрел мне в глаза, дабы убедиться, что я доволен. В ответ я улыбнулся, растянувшись на песке.
Он лег рядом со мной на спину, широко раскинув ноги и руки. Я приподнялся на локоть, чтобы полюбоваться им. Американские плавки переливались в мягком свете нашего убежища. Диснеевский мышонок с юмором подчеркивал то, что не смог бы скрыть ни один купальный костюм, будь он даже скроен самым строгим монахом из монастыря Монт Кассен. Подвздошная ямочка, анатомический нюанс, к которому я испытывал бесконечную нежность, оставалась открытой с каждой стороны плоского живота. Ровное и спокойное дыхание ритмично наполняло его гладкую, как и его щеки, грудь. Ничто при виде этого тела, по которому скользили пробивающиеся сквозь колыхавшиеся на ветру листья солнечные лучи, не давало повода для мысли, что моего спутника обуревало какое-то особенное чувство.
Он лежал с закрытыми глазами, и я осмелился склониться как можно ниже над его лицом. Грезил ли я? Мне показалось, что он раскрыл губы, и в то же мгновенье его веки озарились легким мимолетным светом. Я приблизил вплотную свои губы. На этот раз я был уверен, что он пусть едва заметно, но все же протянул свои губы мне навстречу. Тогда я прикоснулся к ним в робком поцелуе, который неожиданно перешел в более глубокий. Если наши языки действительно встретились и соприкасались несколько мгновений, то я ни за что не взялся бы сказать, что инициатива исходила только от меня. Воспользовавшись тем, что я приподнялся на локоть, чтобы перевести дыхание, он высвободился и сел на песок, но без той характерной суеты, с которой хотят демонстративно отодвинуться на безопасное расстояние. И лишь только я сделал вид, что хочу протянуть к нему руку, он просто встал, стряхнул со складок своих плавок песок и спокойно зашел в воду. И все с таким естественным и безмятежным видом, что можно было подумать, что он спал, пока я склонялся к его губам, тогда как я был уверен, что даже и не помышлял прикасаться к ним.
Я и не думал сокрушаться из-за того, что наш дебют ограничился единственным поцелуем, когда уже и такой результат мне показался прекрасным и неожиданным. Я рассчитывал, что в последующие дни спокойно добьюсь более полного обладания. Мне было достаточно провести языком между губ, чтобы вновь ощутить невинную свежесть его первого поцелуя. Однако на следующий день, вместо того чтобы направиться к нашему тенистому убежищу, он свернул к месту общего купания, туда, где я когда-то спас Аурелию, и где теперь вовсю плескались ребята уже следующего за моим поколения. Я знал их только в лицо, часто встречаясь с ними в деревне, этих новых касарских мальчишек. Мои бывшие приятели здесь уже не появлялись. И у меня не было повода для опасений, что намек на наше прошлое поставит меня в затруднительное положение перед Свеном. Но подобная уверенность не могла сгладить чувство досады за утраченное убежище под ивой. Мне, несмотря на внутренне усилие, не удавалось скрыть упрека и обиды, которые Свен мог прочесть на моем лице, и на которые он отвечал своей неизменно ослепительной улыбкой.
– К чему было дарить мне такой красивый подарок, если я не могу его никому продемонстрировать? – казалось, говорил он мне своей улыбкой, еще не подозревая, на какое ужасное унижение был готов обречь желто-синий Микки Маус своего слишком гордого обладателя.
Мальчишки сразу же обратили внимание на новинку, снискавшую их одобрение. Одни, кривляясь и гримасничая, с восхищением показывали пальцем на яркую переливающуюся ткань, другие же скалили зубы или отворачивались, пытаясь скрыть чувство досады за прикрывавший их бедра бесформенный кусочек шерстяной ткани, который их матери связали, руководствуясь скорее практическим смыслом, нежели требованиями курортной высокой моды. Довольный собой и преисполненный радужных надежд, я думал, что если за подарок плавок я удостоился поцелуя, то произведенный этим подарком эффект должен был принести мне более ощутимые результаты.
Под предлогом изучения рисунка, один из пацанов отделился от ватаги, подошел вплотную к Свену, протянул руку, обхватил двумя пальцами его половой орган и нежно стиснул его, на что Свен, столь сдержанный и недоверчивый со мной, даже не попытался отвести его руку или отшагнуть. С моей стороны было бы крайне некрасиво выражать свою ревность, просто как человеку, который вырос на этих же пляжах Тальяменто, и для которого спонтанность мальчишеских жестов лишь подтверждала архаичный фриулийский миф, чудесным образом избежавший заразы греха и стыда. Но помимо моей воли сердце у меня защемило, и я вздохнул с облегчением лишь после того, как все, едва придя в возбуждение от изумления, вернулись каждый к своим делам, уже не обращая внимания на Свена.
По крайней мере, внешне: так как мне понадобилось совсем немного времени, чтобы заметить, как они то и дело бросали косые взгляды в его сторону и шептались между собой, как если бы замышляя некую интригу. Свен засунул в плавки свою рогатку, переплыл один рукав реки и принялся бродить по берегу, греясь на солнце. Мальчишки сделали вид, что разбрелись по сторонам, одни прыгнули в воду, другие ушли куда-то за кустарники. Вскоре они вновь собрались все вместе на другом берегу, тихо, по одному и как бы случайно, кто-то – притворяясь, что стережет в реке рыбу, кто-то – делая вид, что вырезает себе палку из орешника, а кто-то – что строит замок из гальки и песка. В этот момент Свен, упершись одной ногой в пень, натянул рогатку и прицелился в певчего дрозда, который спрятался в густой листве каменного дуба. Нас разделяло менее двадцати метров. Я беспомощно взирал с другого берега на то, как за его спиной совершался коварный маневр. Предупредить его своим криком? Но, почувствовав, что за ним следят, он от досады только пожал плечами, сделав мне знак, чтобы я не спугнул птицу. Я молча стоял на одном месте, переживая за то, что вот-вот должно было случиться, и коря себя за свой легкомысленный подарок.
(Но крылась ли причина драмы в моем подарке, каким бы высокомерным и хвастливым не показался его приятелям этот маленький нарядно сверкающий предмет одежды? Где гарантия того, что инициаторы стычки хотели лишь отомстить за американские плавки? В их глазах я со своими двадцатью пятью годами был уже взрослым человеком, нечто вроде «синьора» – к тому же школьный учитель. Может быть, то, что они считали естественным среди своих сверстников, полагалось полностью отвергнуть, когда наступало время стать «серьезным» и ответственным», то есть когда они решали жениться и стереть в себе всякие следы подростковой чувственности; считая ее – и справедливо – «подростковой»: невинный грешок, не влекущий за собой последствий, при условии, если на пороге зрелости ты избавляешься от него. В противном случае – вещь постыдная, порицаемая и презренная; каковым они и воспринимали мой случай. Если эта гипотеза и претендует на справедливость, то следует допустить, что они считали мои успехи в отношениях со Свеном более значительными, нежели они были на самом деле. Мне следовало бы, прежде всего, осознать – жестокое для моего фриулийского мифа признание – что вместо того, чтобы породниться с архаичной и языческой землей, приобретшей иммунитет от иудейско-христианской бациллы, они впитали в свои жилы кровь среднего, мелкобуржуазного и католического итальянца, который посредством брака «откупается» от своих юношеских проказ. И, боюсь, Свен расплачивался вместо меня за это иллюзорное прегрешение. Его наказание, явственно проистекавшее из кодекса грехов, установленного Данте в его «Комедии», представлялось им справедливым возмездием.)
Пока он вглядывался в листву и целился из рогатки в спрятавшегося дрозда, они крадучись подобрались к нему сзади. Неожиданно издав боевой клич (воинственное древнеримское выражение сильного возмущения), они ринулись вперед, схватили его за плечи, за руки и за ноги и сорвали с него плавки, выставив на обозрение его зад. Вслед за чем началась торжественная и издевательская церемония: они по очереди наклонялись к его ляжкам и, надувая щеки, производили непристойные звуки. Свен, ругаясь на чем свет стоит, безуспешно отбивался от агрессоров, которые сгрудились за его спиной и не проявляли никакого интереса к передней части его тела, интересуясь исключительно его попкой, привлекательная белизна которой вызвала у них удвоенный приступ насмешек и сарказма. В конце концов, они все повалились на землю, приняв позу индейцев, воздающих почести своему тотему; но вместо того, чтобы смиренно целовать священную пыль, они принялись издевательски сплевывать. В это мгновение потерпевший сумел вырваться; и я, застыв в каком-то ступоре на другом берегу, был еще больше ошарашен тем, что произошло вслед за этим.








