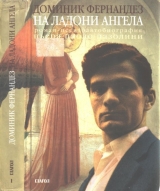
Текст книги "На ладони ангела"
Автор книги: Доминик Фернандез
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 38 страниц)
11
Я даже и не думал делиться с братом этими размышлениями и с удовольствием смотрел, как он оборачивается на всех проходящих по улице девушек, и не из пустого итальянского фанфаронства, а в силу уже оформившейся склонности к противоположному полу. С тех пор я рассматривал свою судьбу как некое путешествие контрабандиста среди ловушек и засад, расставленных моими врагами; я также радовался (не осознавая, какие страдания ему доставляло его положение сына и брата), что Гвидо, в тени нависшего над моею головой проклятия, мог начать свою погоню за счастьем в гораздо более располагающих к успеху обстоятельствах.
Я в не меньшей степени был счастлив и за маму, что Гвидо выбрал иной, нежели я, путь в жизни. Мои амурные похождения не оставались незамеченными дома. Переживания мамы были отмечены двумя сменившими друг друга чувствами. Сначала ревность. Конечно же, ни и слез, ни сцен. Будучи слишком тонкой, чтобы не скрывать своего неодобрения, она не позволяла себе донимать меня никакими расспросами. Даже, например, если Нерина провожала меня до порога, мне достаточно было мельком взглянуть в приоткрытое окно на четвертом этаже, чтобы заметить через щель застывший у оконной рамы силуэт.
Если я убегал из дома после ужина, мама всегда дожидалась меня. Вопреки ее деревенской привычке ложиться в кровать, как только в доме вытерта последняя вилка, ее не обескураживали минуты ожидания в поздний час. Вернувшись домой, я заставал ее за столом на кухне, мама сидела прямая и строгая, и подшивала мое белье. Она притягивала меня к себе и долго-долго обнимала. С моей стороны было бы наивно полагать, что своим поцелуем она обозначала мне свое прощение. Вырвавшееся как-то из ее уст восклицание открыло мне ее истинное намерение. Она стремилась уловить по аромату духов, оставшихся на моей щеке, какая соперница украла у нее этой ночью сына. Распознавая их не иначе как своей парфюмерной интуицией (и пытаясь сопоставить их с лицами, мельком виденными из окна), она считала всех женщин, которые мне нравились, своими личными врагами. Парк Маргариты, в котором, как ей было известно, проходили мои свидания, внушал ей непреодолимое отвращение: ведь там плелись сети женского заговора, в результате которого она лишалась своего сына.
Вскоре, тем не менее, по разнообразию имен, которые я называл, и по количеству улик, выявленных ее обонянием, она своим чутким материнским чувством распознала эфемерную сущность всех моих амурных побед. На смену Флоре пришли Джулиана, Астрид, Сильвана – бесконечная карусель. Она одна, выносившая меня, вскормившая молоком, взлелеявшая меня, ухаживавшая за мной, когда я болел коклюшем, не отходившая от меня, когда я валялся с воспалением легких, она одна оставалась в моей жизни в ее неизменном и священном статусе, богоматерь и королева на сияющем троне, никто бы не заменил ее, как ничто не заменило бы ту пригоршню макарон, которые она бросала в кипящую воду, как только слышала шаги сына на лестнице.
Теперь она стала считать всех моих подружек принесенными в ее честь жертвами; и, не испытывая от этого никакого неудовольствия, она желала, чтобы ни одна девушка в Болонье не избежала жертвенной участи. Чем больше их бы было, влюбленных и брошенных, тем ослепительней бы выглядел ее материнский суверенитет. Если одна из моих теток – с ее непробиваемым фриулийским здравым смыслом – замечала ей, что меня часто видят с этой Нериной, мама притворно хмурила брови и принимала озабоченный вид; но за своей рукой, на мгновение освободившейся от грубой домашней работы, она прятала удовлетворенную улыбку – со свойственной ей уверенностью полагая (и она не ошибалась), что я использовал машинистку лишь в качестве красивого аксессуара для своего велосипеда.
Она посчитала себя окончательно в безопасности, когда я перестал встречаться с Джованной. Самой опасной из всех соперниц! Школьная учительница, хоть и образованная и необычайно начитанная, была не в силах тягаться с дочкой крупного миланского издателя. Ее отставка (мама, единственный раз обманувшись на мой счет, приписала инициативу разрыва мне) была встречена вздохом облегчения. Не считая чувства гордости за то, что жертвоприношение некой Д.Б., совершенное сыном на высоком алтаре в ее славу, представляло собой особо ценную дань.
При всем при этом, насколько предательским и вероломным показался бы ей мой брак, настолько же тяжело она бы перенесла отсутствие внуков в старости. Отказываясь признать, что я вырос, но понимая, что рано или поздно я покину родной дом, а она потеряет меня, маме ничего не оставалось, как представлять себя бабушкой, которая холит и лелеет новорожденного. С малышом на руках она вновь бы отправилась в то чудесное путешествие, когда я целиком зависел от ее забот.
Как примирить ревнивое желание удержать меня от общения с женщинами и потребность одарить своей нежностью новое потомство? Провидение разрешило это противоречие, дав ей двух сыновей, один из которых, ускользая от женских чар, навечно пребудет у ее стоп, тогда как другой, менее любимый, окажется незаменимым в деле продолжения рода и обеспечит ее внуками. Вот почему я никоим образом не влиял на наклонности Гвидо, напротив изо всех сил старясь оградить его от малейшего искушения, которое могло бы разрушить его супружеское будущее, столь необходимое для маминого счастья.
Как-то раз мой брат, вернувшись из короткой поездки во Флоренцию, рассказал мне довольно красноречивую историю, свидетельствовавшую о его простодушии. Он стоял на площади Сеньории и жевал свой бутерброд, прислонившись к цоколю гигантского Давида. Какой-то мужчина, которому, судя по его еще густо заросшим вискам и не слишком обрюзгшей фигуре, можно было дать лет тридцать, коренастый и мускулистый, одетый в комбинезон и свитер с длинным воротом, спрыгнул с велосипеда и пристроился рядом у статуи. «Сигареты не найдется?» – спросил он у Гвидо без лишних представлений и таким тоном, который последний счел весьма невежливым. «Не курю». Попрошайка раздраженно посмотрел на него, перекинул ногу через раму и укатил в сторону моста.
Немного позже, днем, когда Гвидо пристроился отдохнуть на скамейке в сквере, этот мужик появился снова. Он сел на другом конце скамейки и закурил толстую сигару, пуская густые вонючие струи дыма (проклятый тосканский табак) и не обращая внимания, что ветер относит их в сторону соседа, который от дыма начал кашлять и закрывать рот рукой. Возмущенный подобной бесцеремонностью, Гвидо, несмотря на усталость после трудного дня, проведенного на ногах, уже готов был куда-нибудь уйти, как вдруг услышал обращенный к нему грубый голос.
– Э, малыш! Ты что, сдрейфил? Чего не подойдешь, поговорить не о чем?
Многозначительно помолчав, Гвидо признался мне, что эти слова заронили в нем подозрение, что к нему приставал голубой. Но «мужественный» вид его собеседника сразу же его переубедил. «Педерасты все как бабы, вежливые, одеваются хорошо», – с доверчивой наивностью рассказывал мне Гвидо, а незнакомец, как он говорил, был одет в грязный рабочий комбинезон и через каждый две затяжки сплевывал на землю. Гвидо также предположил, что любой «педик», у которого имеются дурные намерения, постарался бы сначала произвести приятное впечатление. Эта мысль (более справедливая, нежели предыдущая, не могла бы дать тем не менее никакой гарантии и менее наивному существу) в конце концов успокоила его. Он присел в полуметре от незнакомца. Мимо прошли две девушки, и мужчина, проводив их взглядом, толкнул локтем Гвидо и сказал ему, что по его физиономии и по его манере выговаривать некоторые слова он догадался, что «парнишка не из Флоренции». Тем не менее, – продолжал он, указав подбородком на девушек, – он надеялся, что молодому и симпатичному гостю уже представился один «случай».
Гвидо по простоте своей лишь покачал головой. Тогда, мужчина с уже знакомой грубостью в голосе, заявил ему, что любой настоящий мужик, приехав во Флоренцию, должен прямо в день приезда обзавестись на ночь женщиной.
– Зуб даю, ты еще никого не подцепил.
Он смерил Гвидо необъяснимо враждебным взглядом.
– Я еще молодой, – сказал мой брат, злясь на самого себя за то, что ему пришлось оправдываться перед этим хамлом, которое продолжало загаживать своей сигарой прозрачное флорентийское небо.
Гвидо не стушевался и в ответ решил поддеть его, не сомневаясь, что услышит в ответ признания в разнообразных любовных неудачах. (Ибо только люди, не пользующиеся успехом у женщин, полагал он, станут приставать на улице к первому встречному.)
– Ну вас-то, наверняка дома ждет какая-нибудь красавица?
– Да что ты понимаешь? – раскричался поклонник тосканского табачка, вскочив как укушенный на ноги. – Думаешь, я еще стану спрашивать у таких сопляков, как ты, как мне себя вести нужно? Я женюсь через месяц, чтоб ты знал, прежде чем задавать мне такие тупые вопросы. Я сейчас заявление шел подавать.
После чего он с разъяренным видом поспешил удалиться. «Сопляк» остался сидеть с ошарашенным видом на скамейке, не понимая, какой промах он допустил, пораженный таким неслыханным сочетанием фамильярности, грубости, агрессивной спеси и неприкаянности.
«Чокнутый», – сказал я Гвидо. Ни за что на свете я не сказал бы своему брату, что своими семнадцатью годами и своей привлекательной загорелой мордашкой он привел в возбуждение этого человека, вынужденного в замешательстве пороть нарочито нелепую чушь про свои супружеские планы. Нелепую, как и все подобные комические ситуации. Вечный фарс в трех актах: ты мне нравишься, я тебя бросаю, я тебя ненавижу, потому что ты мне нравился. Влюбленность, размолвка и презрение.
Но это фарс, который может обернуться и трагедией, если из желания наказать себя за свою «слабость», отмстить за оскорбленное «достоинство» и восстановиться в самомнении тот, кто сначала добровольно сел к тебе в машину и сознательно поехал с тобой к трущобам Идроскало, засадил потом тебе между ребер кол, вырванный из палисадника. Было нечто фатальное в том, что какой-то вышедший из народа борец за справедливость (Пелози, хотя это мог быть и кто-то другой, имя тут не имеет значения) возложил на себя эдакую ритуальную миссию и актом убийства провокатора восстановил самосознание всех итальянцев, маскарадную мужественность которых я так успешно разоблачил. Именно таких брачных заклинаний, которые спасли пристававшего к моему брату человека тем далеким днем во Флоренции, и не хватило моему убийце – вынужденному, по этой самой причине, совершить убийство.
Если бы мне в 1942 году предсказали, что однажды надо мной нависнет смертельная опасность, я бы просто пожал плечами. Чтобы желать для Гвидо иной, чем для себя, судьбы, мне было достаточно подсчитать сколько раз я смалодушничал, прикрываясь соображениями предосторожности. Я опошлил саму Поэзию, опубликовав в своем первом сборнике, чрезмерно сдержанные стихи. 14 июля мы с Энрико, Матиасом и Даниелем отметили грандиозной пирушкой с ветчиной и ламбруско одновременный выход наших четырех маленьких брошюрок в книжной лавке Марио Ланди на пьяцца Сан Доменико. На сорока восьми страницах моей скромной книжечки, озаглавленной просто «Стихи» и изданной тиражом в триста экземпляров плюс семьдесят пять подарочных для прессы, поместилось сорок стихотворений. Один из подарочных экземпляров попал на стол к Джанфранко Контини. Самый знаменитый итальянский литературный критик соблаговолил послать мне почтовую открытку с обещанием взять меня на заметку.
Этот успех возвысил меня в глазах товарищей, но не избавил меня от чувства стыда за свое поэтическое предательство. Вместо того, чтобы искренне воспеть красоту юного мужского тела, я прибегал в своих элегических опусах, в которых предчувствие смерти служило оправданием обморочного самолюбования, к помощи разнообразных перифраз, вроде пританцовывавших Давида и Иисуса. Пасторальное одиночество, целомудренный перезвон колоколов и жалобные молитвы Вербного воскресенья. То обстоятельство, что стихи были написаны на фриулийском диалекте, придавало некий блеск моему хилому титулу поэта, хотя, как тебе известно, мои ссоры с отцом и желание связать свою артистическую судьбу с родною материнской речью повлияли на мое диалектное призвание гораздо больше, нежели та политическая воля, с которой я восстал против официального языка. Внизу на каждой странице я давал мелким курсивом итальянский перевод – отправив таким образом гордый Рим в типографические и культурные подвалы и бросив, словно трофей к стопам восседающей на троне матери, фуражку, галуны и прочие знаки отличия разгромленного у Амба Алаги офицера.
Но кто бы из моих юных читателей мог предположить, какой трусливой личностью они восхищались? И кто бы мог представить, что я уже писал скандальные стихи, предусмотрительно складывая их в ящик своего стола, из которого они будут извлечены на суд уважаемой публики лишь двадцать лет спустя?
Совершить, повторять до крови
Акт жизни самый нежный.
Статья о Сандро Пенна обнаружила всю глубину моей ханжеской трусости. Сандро Пенна – неисправимый бесстрашный бродяга, влюбленный в подмастерьев в комбинезонах, новобранцев в увольнении, сыночков консьержей и безусых искателей приключений – им он обязан прославившими его короткими стихами, ярко излучавшими ликованье свободной души.
Я отыскал моего ангелочка
в полумраке галерки.
Автобуса долгий маршрут.
Простоватый
сын пекаря, преобразившись на миг,
смущенно скрывает изысканность жеста.
В свежесть привокзальных туалетов
я спустился с огненных холмов.
Очевидно, не нужно было обладать большой смелостью, чтобы увидеть близорукость этих стихов, которые цензура пропустила мимо своего носа. Ни самиздатовских мурашек по коже, ни громкой провокации: чистое счастье жизни в гармонии с самим собой и на виду у всех. Свет францисканской легкости и нежности. Спокойная смелость праведника. Я разразился сопливым комментарием. «Неоспоримый поэтический аристократизм, аморальность которого не нуждается в разоблачениях, если груз потаенных страданий уравновешивает эти воздушные стихи». Зачем было нужно христианскими угрызениями совести оправдывать поэта, который воскресил солнечную невинность греческих богов?
Позор мне, Дженнарьелло, за то, что я осмелился приписать жалкое чувство вины человеку, которому была чужда религия Моисея и святого Павла. Даже если в один прекрасный день мне и опротивело жить, пряча голову в песок, и я развернул знамя бунтаря, то ты не должен оценивать меня выше, чем я того заслуживаю. Кто бунтует, если не раб? Господа, не считая нужным отстаивать свое происхождение, никогда не размахивают знаменами борьбы. Лишь один из их расы озарил наш век: тот самый Сандро Пенна, что вырос в Перузе, на умбрийских холмах, что открыл двери своего дома в Риме для всех кошек и хулиганов, он умер совсем недавно, во сне. Семьдесят один год жизни, двадцать четыре месяца неоплаченной квартплаты, три коробки непроданных стихов, сваленных в кучу на ковре, пятьдесят бутылок из-под молока в кладовке на кухне и на стене в спальной – портрет Малибран[16]16
Малибран – Мария де ля Феличидад Гарсия, знаменитая оперная певица (1808–1836).
[Закрыть] в роли Керубино.
После безуспешных попыток основать свой журнал, задуманный на островке в парке Маргариты, в «Тамис»-литературном ежемесячнике Итальянской Молодежи Ликтора – вышла моя статья. Фашистское издание, которое мы надеялись подорвать изнутри, публикуя в нем статьи о неугодных режиму писателях и художниках: Бодлере и Джорджио Моранди, чьи бутылки нравились нам не только потому, что он писал их в Болонье, но и потому, что скромное стекляшки его натюрмортов разоблачали напыщенность официального искусства. В «Тамисе» проскочило несколько моих стихотворений мистического толка. Что-то вроде наставлений Архангела отшельнику: «О Святой! Не проповедуя, не обретешь ты неба. Покинь свой мрачный грот и выйди из пустыни! И нежные прелести зла претерпи!» Все те же отвратительные речи о грехе и падении.
В ноябре 1942 года Гвидо проводил меня на вокзал: я уезжал в составе итальянской делегации на конгресс европейских писателей в Веймар. Почему я принял приглашение нацистов? В Веймар ехал Элио Витторини, молодой элитарный автор «Сицилианской беседы», знаменосец антифашистской литературы. Гвидо не стал со мной спорить. Когда он замахал мне рукой в момент отправления поезда, я прочитал в его глазах печальный упрек. Сцена, долгое время не дававшая мне покоя, воспоминание о которой наверняка посетило и моего брата, когда два года спустя в поезд уже садился он: не для того чтобы поболтать с берлинскими интеллектуалами, уполномоченными Геббельсом, а для того чтобы присоединиться к фриулийским партизанам. Я остался стоять один на перроне вокзала в Касарсе, в которую мы с мамой были вынуждены вернуться.
Вернувшись из Германии, я опубликовал в «Тамис» хвалебную статью о конгрессе, не опозориться которой было крайне затруднительно. Несмотря на пропагандистскую цель этой акции, – писал я, – европейская молодежь обменялась плодотворными взглядами на будущее западной литературы и т. д. и т. п. Чистой воды муссолиниевская ложь, разукрашенная пером убежденного националиста. На этот раз преданный мне Гвидо, в котором я воспитал ненависть к фашизму, и которому я ставил в пример образцовую принципиальность профессора Лонги, не скрывал своего неодобрения. Он положил мне на кровать статью, выделив красным карандашом некоторые фразы, которые хлесткой пощечиной пригвоздили меня к позору: «Если считать, что Франция замолчала навсегда, к кому, если не к нам, должно тогда вернуться культурное господство в Европе?.. Данная перспектива дает основание говорить о превосходстве итальянской культуры над другими… Мы можем надеяться, что в недалеком будущем, останемся единственными проводниками культурных ценностей и европейской духовности; что представляется очень важным и с политической точки зрения».
Претенциозный бред, в который мне самому было невозможно поверить. Германская армия осадила Москву, японцы нанесли коварный удар по Перл Харбору. Я был зол на самого себя с тех пор, как перестал ходить в бассейн, чтобы не видеть Даниеля голым в душе, и в своем позоре мне нужно было дойти до точки. То, что я опустился до этой буффонады, было вызвано мрачным желанием потерять всякое уважение со стороны брата, друзей, всех тех, чье презрение причинило бы мне боль. И столь постыдный акт раболепия мог совершить единственно тот (хотя это не извиняет его), кто по молодости всячески пытается наказать себя за проявленную в своей личной жизни трусость.
Мои мгновенья счастья и покоя – когда я шел из книжной лавки Марио Ланди в собор святого Доминика, что находился по другую сторону его именем названной площади, я подходил к его гробнице, рядом с которой, справа и слева от алтаря, я как-то обнаружил двух мраморных ангелов. Совершенная симметрия поз (преклонив одно колено, они поддерживают другим тяжелый канделябр), одежд (платья, ниспадающие складками до пят) и крыльев. На этом их сходство заканчивалось. Тот, что слева источал – на то оно и клише – «небесную благодать»: длинные шелковистые волосы, руки арфиста, полузакрытые веки, хрупкая женственность, подчеркнутая собранность. Свой подсвечник он держит с пиететом и тайной. Это – классический ангел, идеальной красоты гермафродит, которого Висконти, если бы смог уговорить снизойти с постамента, заслал бы на венецианский пляж искушать постояльцев отеля «Купальщики».
Я подолгу стоял, пожирая его своим взглядом, в назидание послушницам, которые сновали взад и вперед за алтарем, под предлогом замены старых свеч. Если бы они заглянули в мое сердце, они не обнаружили бы в нем ни малейшего повода для скандала. Сам бы святой Доминик благословил бы меня – того, кто еще за тридцать четыре года до знаменитой Декларации Павла VI перенес на образ в камне свои не пережитые страсти. Кто знает, не первый ли наставник нашей расы ниспослал мне на моем пути этого ангела, дабы научить меня хранить свои «намерения» от греховного «воплощения»? Скажи «да» наклонностям своим и «нет» поступкам, как утверждал Иоанн-Павел II, выступая перед американскими епископами. Возмещение длительного воздержания зимой любовью к статуе не вносило разлада в мои отношения с совестью.
Коленопреклоненный перед сим невинным серафимом, так предавался я двусмысленным усладам сублимации, в то время как, умиленно качая головой, меня касались своими белоснежными одеждами монашки. К счастью, в нарушение небесного замысла и плана спасения моей души, моему взору по другую сторону алтаря открывался второй крылатый гость. Вместо того чтобы призывать меня в иллюзорный рай ангельского смирения, он строго прописывал мне стимулирующим средством свое жадное воинственное жизнелюбие.
Необычная и чуждая всякой изобразительной традиции модель, которую выбрал Микеланджело! Быть может, это был подмастерье, которого он приметил в каком-нибудь бедном предместье, пока тот подковывал лошадь, зажав между ног копыто, или посыльный какого-нибудь трактира, разгружавший бочки у погреба. Короткие мелко вьющиеся волосы, приземистый торс, широкая спина, атлетическая шея, полные щеки, остановившийся взгляд, направленный прямо перед собой – напоминающий скорее простого чернорабочего, нежели эфемерного херувима – чего же он ждет и не спрыгнет, бросив на землю свой канделябр, который он держит единственно из уважения к форме? Теперь, когда я вспоминаю его образ, он сливается в моих мыслях с тобой – да, я вижу тебя на кромке футбольного поля, как ты бросаешь мяч, ушедший в аут, как ты, напрягая портняжные мышцы, готов всем телом ринуться в игру. Мускулистый, напористый, лишенный всякого намека на женственность. (Что отнюдь не указывает, Дженнарьелло, на твое супружеское предназначение!)
С тех пор это был для меня – единственный человеческий тип, превалирующий над другими. Представляющий гораздо более яростное искушение, чем любой женоподобный юноша. Заставивший меня изменить всю свою жизнь и выставить свою сущность на всеобщее обозрение, как того подсказывал мне мой инстинкт. Влечение к определенному физическому типу спасло меня, но не мое мужество. Став поклонником юных эфебов, я, наверно, сохранил бы на всю жизнь склонность к мечтательности, мистицизму, и воздыхал бы по нежным подросткам, как пастушок Вергилия по своему Алексею.
Напротив, после моих свиданий с ангелом справа, я выходил из собора голодный как волк. Да и как не ощутить перед этим крепким пареньком всей смехотворности платонической любви? Я бежал к площади Гальвани и запрыгивал в одиннадцатый автобус, который вез меня на вокзал. Искомая оказия никогда не заставляла себя ждать в этом фарфоровом здании, которому несомненно больше шло грубое определение, данное Сандро Пенной, нежели эвфемизм, состряпанный из имени римского императора.
Таковы были истоки моих болонских похождений; редких, тайных и безыскусных; которые я тщательно скрывал и от своих товарищей, и от мамы с братом. Я не получал от них ни подлинного наслаждения, ни удовлетворения своей гордости, но по крайней твердое убеждение, что я не был безнадежным трусом.








