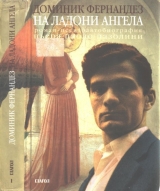
Текст книги "На ладони ангела"
Автор книги: Доминик Фернандез
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 38 страниц)
30
Июль 1955-го: критика компартии втаптывает мою книгу в грязь. «Язык, события, персонажи, среда, все дышит презрением и безразличием к людям, поверхностное и искажение представление о жизни, болезненное любование самыми мрачными аспектами сложной и многообразной действительности» («Унита»), «Как за последние десять лет Партия и организация коммунистической молодежи изменили дух и сердце тысяч молодых людей, как те, кто выросли в голоде, на обочине социальной жизни, сумели тем не менее выстоять, сохранив гордость, сознательность и волю к искуплению, тогда как все толкало их найти в пороке самый легкий способ покончить с нечеловеческими условиями своей жизни: вот, о чем следовало писать» («Ринашита»), «Сегодня, когда опыт периферийной культуры впервые в нашей истории уступает место развитию подлинного национального сознания, мы не приемлем ценность диалекта» («Контемпаранео») «П. выбирает в качестве основного героя низший римский пролетариат, но на уровне содержания его интерес к нему обретает зловещий привкус нравственного падения, гниения и грязной двусмысленности» («Вие Нуове»).
21 июля: Президиум совета министров спускает директиву в миланскую прокуратуру. «Оскорбление общественной морали». И левые, и правые, все против меня. Коммунисты и христианские демократы начинают совместную травлю. Как в Касарсе, пять лет назад. Другой, наверно, был бы горд бросить вызов судам. Я же был ошарашен. Я совершенно не готовил себя на роль «проклятого писателя». Клеймо «проклятого» оживляло во мне жуткие воспоминания Вальвазоне: вполне конкретный ужас того, на кого показывают пальцем, кто рискует снова потерять свой заработок, кого соседи могут поставить перед необходимостью повторного изгнания, и кто, в любом случае, разрывает сердце своей матери. Одного сына убили, другого таскают по судам! Еще при мне она кое-как сдерживала свои слезы в глубине своих покрасневших глаз. А мои друзья, ты думаешь, они понимали, в каком ужасе я пребывал? Они лишь с радостью ухватились за возможность покричать о тупости цензуры.
Входя в зал суда 4 июля 1956 года, у меня было впечатление, что меня привязывают к позорному столбу. О более невыразительной защитной речи судьи не могли и мечтать. «Когда я очеловечиваю собаку, я хочу сказать, что ребята из боргатов к сожалению часто живут как животные. Когда я описываю трех мальчиков, которые справляют свою нужду, то имею в виду, что все пацаны используют это как отговорку, когда их застают за воровством в чьем-то огороде». Ругательства, нелитературные выражения? Стремление, говорю я им, к документальной точности, вместо того чтобы привести аргументы в защиту живого языка, на котором говорят в Понте Маммоло, противопоставляя его безжизненной бюрократической идиоматике, которая заполонила Италию сверху донизу через кино, телевидение и радио – эдакая школа ментального безделья и конформизма, главное злоупотребление потребительского общества.
Поэт Унгаретти, по болезни не смогший выступить сам, послал своего представителя. «Слова, вложенные в уста этих молодых людей, это слова, которые они привыкли говорить, и мы покривили бы против истины, если бы они стали мямлить как чичисбеи». Я, скрепив сердце, был вынужден поблагодарить представителя великого поэта кивком головы. И чуть было не подпрыгнул, когда Карло Бо, влиятельный католический писатель, заявил суду: «Этот роман имеет большую религиозную ценность, поскольку он пробуждает сострадание к неграмотным и нуждающимся». Мы вышли с Ливио Гаранта из суда с оправдательным приговором. Книга, находившаяся под запретом уже год, вновь поступила в продажу. Газеты? Тогда они еще были честные. Признание судьями моей невиновности было опубликовано в прессе, без двусмысленных инсинуаций и завуалированных нападок, как это стало делаться впоследствии. По крайней мере внешне я не пострадал. Только мама заметила, что я еще больше осунулся, и скулы стали выдаваться еще сильнее. Чем нежнее было сердце, тем сильнее оно черствело.
Я договорился о встрече с Федерико Феллини в Порта Латина. Он приехал на длинной, белой, тяжелой и мягкой машине и мы, сразу слившись с потоком, направились по дороге вдоль катакомб, акведуков и античных развалин. Он вел одной рукой, разглядывая проезжавшие мимо дородные авто, и мы только чудом не сбивали мальчишек на велосипедах, постоянно рискуя к тому же врезаться в какой-нибудь столб. Другой рукой он копался в своей шевелюре и мусолил прядь волос, выбивавшейся из-под его мятой панамы. В поисках антуража мы свернули на ухабистые дороги. Он ворчал и вздыхал, как тюлень, и рассказывал о том, что хочет построить в Чинечитта настоящую деревню, не похожую на дешевую декорацию. Слишком много могил и слишком мало проституток на Аппиа Антика. В его любопытных и недоверчивых глазах снискать признание могла лишь Археологическая Прогулка. Он запускал новый фильм, который он хотел снимать в римских трущобах. Эхо суда, что-то вроде черного ореола, который начал окружать мое имя, навели его на мысль воспользоваться моими познаниями. Именно я написал ему тот диалог с ночной дракой, когда Кабирия сталкивается со своими конкурентками. Эпизод с паломничеством в Дивино Аморе частично тоже придумал я. Как-то в Тибуртино я познакомился с одним калекой, которому внушили, что у него есть надежда на чудесное исцеление. Когда в церкви, освещенной свечами, появилась Мадонна, которую несли на руках, он побросал свои костыли, но вместо чуда, он грохнулся на землю и остался лежать на каменном полу в доску пьяный.
Я добавил еще одну сцену: как два вора удирают на машине по пригороду Рима. Феллини вырезал ее на монтаже. Даже не удостоив меня чести подискутировать. Я протестовал. Он подмигнул и шлепнул меня по плечу, но вполне добродушно, не как какой-нибудь восточный князек, отгоняющий муху со своего носа. Так ему виделось «сотрудничество» со своими ассистентами: покорно служить ему, не допускать никаких личных соображений, сопровождать его на белом лимузине с риском для своей жизни, торчать у входа в «Станда», вылавливая статистов, которые должны весить как минимум сто кило.
Но как можно было сердиться на создателя Джельсомины и Дзампано? Два года спустя он попросил написать ему пару реплик для «Дольче Виты». Помнишь сцену оргии, ближе к концу? Диалог двух педиков, тоже мое.
Потом, когда он узнал, что я свою очередь тоже запускаю фильм, он сам предложил профинансировать его. Он только что основал, на деньги издателя Риццоли, свою продюсерскую фирму, «Ла Федериз». Для меня и моих друзей началась большая киношная авантюра. Три дня и три ночи, почти без остановки, почти ничего не ев, вместе с молодым еще Бертолуччи, который дебютировал как оператор, а я – как режиссер, съемки в Трастевере: пробы, которые Феллини должен был просмотреть перед подписанием контракта. Я тебе как-нибудь расскажу, с каким энтузиазмом я начинал свои первые упражнения с камерой, хотя аппаратура у нас была самой примитивной, актеры – случайные, пленка – бракованная, плюс – адский рев мотоциклов на узких улицах, которые полиция не стала перекрывать из-за какой-то любительской съемочной группы.
Взятый крупным планом на ступеньках церкви скорченный попрошайка казался таким же величественным, как индейский пеон из фильма «Как поживаешь, Мексика». Преображенные магией объектива, служащие табачной мануфактуры, которые неподвижно дожидались на пороге гудка своей смены, не испортили бы своим видом даже мистическую атмосферу «Диес Ирае». Потом мы отправились в район Порта Портезе, чтобы отснять подходивший для моих героев его убогий антураж. Плюс возможность воздать должное еще одному великому кинематографисту. Меня не заботило, что фильм, который подвергся бы такому разношерстному влиянию, впитал бы в себя его стиль. Едва ли мне было нужно подтягивать звук и замедлять картинку, чтобы придать шарлатанам с блошиного рынка, виртуозно заманивающих клиентов высокопарным слогом, хрипловатую серьезность и культовую надменность японских самураев; подумать только, феодальное Средневековье «Интенданта Санчо» воскресало на берегу Тибра. Я говорю, конечно, об идеале, к которому мы стремились, а не о том результате, который появился на монтажном столе в виде примитивной нарезки.
Бернардо – двадцати лет на тот момент, со своим полным круглым лицом и той ребяческой чистотой, которую он сохранит вплоть до триумфа «Последнего танго в Париже» – с наивной преданностью протягивал мне ножницы. Говорят, что ученики должны отвергать своих учителей. Принимая это за общее место, я все же не смог не воспринять как предательство удаление от себя человека, к которому я был привязан как к сыну.
В тот день, когда Феллини должен был дать свое согласие, я с бьющимся от волнения сердцем сел один за руль своей машины (та самая Джульетта! мы о ней еще поговорим). «Ла Федериз» располагался на виа делла Кроче. Помню, я долго и безрезультатно пытался припарковаться в лабиринте улочек между площадью Испании и Корсо. Пришлось доехать до площади Народа. Наконец на виа дель’Ока я увидел свободное место. Я был так взволнован, что никак не мог втиснуться между машинами. Альберто Моравиа, который возвращался к себе домой (он жил в доме № 27), прихрамывая подошел к двери подъезда. Как всегда элегантный, с красивой прической, в которой тускло поблескивала зачесанная назад серебристая прядь, и булавкой для галстука, подобранному в цвет к жилету, при том что так он мог выйти из дому, просто чтобы глотнуть кофейку в баре «Канова».
– Пьер Паоло, что случилось? Ты чего так нервничаешь?
– Сядь за руль и припаркуй машину!
– Что? Что ты сказал?
Альберто подставил ладонь рожком к своему уху. Он уже, правда, начал тогда глохнуть. Но, как обычно, он понял все с полуслова. Его доброта и его разум компенсировали слабость барабанной перепонки.
– Сядь за руль и…
Я резко заткнулся, потому что вспомнил, что со своей короткой ногой он мог водить только специально оборудованную машину.
– Что? Заглуши мотор. Говори громче.
– Меня ждет Федерико! Или он отвалит денег, или мне одна дорога в Тибр.
– Ну уж, ну уж, – сказал он почесывая свой яйцеобразный череп. – Приходи пообедать с нами послезавтра. Эльза хотела бы встретиться с тобой. Она тебя любит, очень любит, ты же знаешь… почти так же, как своих кошек! В «Капаннина», на виа делла Скрофа. Договорились?
– Послезавтра?
– Потому что в четверг я улетаю в Турцию. Как тебе это, меня рекламируют турки! – добавил он, рассмеявшись. – Хотят спросить, как я отношусь к гаремам! Да тут еще мне надо статью про «Приключение» написать… Ммм!.. Антониони, тебе же он нравится?.. потом надо послать Бомпиани пресс-досье для «Скуки», она выходит через месяц, потом сбегать к… – он шепнул мне на ухо женское имя, – так чтоб Эльза ничего не знала, per carità! Потом еще постричься по случаю приема в американском посольстве. Так что до среды!
Я, как ошарашенный, молча смотрел на него.
– «Капаннина», Эльза откопала новое местечко. Забудь про ту индейку, что она тебе пообещала к Рождеству! Жена – писатель, муж – голодный… Мне же лучше, – поспешил он приплести, не желая произвести впечатление, будто он кладет на одну чашу весов талант кухарки, а на другую – два гениальных романа. – Так она бегает по ресторанам и все время разнюхивает что-то новое. Ты оценишь… Особенно салат с трюфелями… намного вкуснее, чем в «Буко»!
– С трюфелями? – переспросил я угасающим голосом, как будто от первой же ложки меня должно было вывернуть наизнанку.
– Белые трюфеля, такие только в Пьемонте бывают!
Немного смутившись, что меня ничуть не позабавила такая аппетитная новость, он подумал, наверно, что я обиделся на него за то, смешал в одну кучу мои муки творчества и свои гастрономические радости.
– Ты зря недооцениваешь трюфеля, Пьер Паоло. Знаешь, о чем говорили между собой Джойс и Пруст на обеде, организованном в их честь? Всего две фразы. «Вы любите трюфеля?» «Трюфеля? А вы?» Так вот, если бы они попробовали белые трюфели, беседа на этом бы не закончилась, и мировая литература пополнилась бы более обстоятельным диалогом.
Видя, что литература меня интересовала в этот момент не больше, чем кулинария, он распрямился и повел бровью, что обычно означало у него настороженное осуждение. Он тридцать четыре года, проведенных после санатория, волочил свою искалеченную ногу, и ни разу не позволил своим страданиям отбить у него аппетит. Превосходный пример победы над самим собой и тактичного отношения к людям. «Как знаешь», – сказал он, прощаясь со мной.
Человека, которого ждут на его рабочем столе статья об Антониони, заказанная «Эспрессо», синопсис со списком действующих лиц его нового романа, левое свидание с какой-то красоткой, приглашение в самое модное посольство в Риме, авиабилет на конференцию в Стамбул, и который при этом находит время думать о том, сможет ли тарелка губчатых корнеплодов, выкопанных свиным рылом, разгладить морщины на озабоченном лице молодого коллеги, этого человека, единственного и уникального в своем роде среди всей пишущей братии, этого человека я уважал и восхищался им, хотя и не очень любил его романы.
Он прихрамывая направился к подъезду дома № 27, ловко вставил ключ в замочную скважину и, не оборачиваясь, скрылся за дверью.
Я вприпрыжку добрался до площади Народа. По пути мне пришлось пройти мимо террасы Розати, штаб-квартиры правых интеллектуалов. Они нежились в золотистых лучах теплого осеннего солнца. Увидев, как я выхожу с виа дель’Ока, они догадались, откуда я шел и, скаля зубы, начали подталкивать друг друга локотками. Единственной причиной, по которой эти бесславные писатели могли попросить Моравию встать на мою защиту в суде, было желание остаться наплаву благодаря дружбе со скандальным автором. С другой стороны площади, в начале улицы дель Бабуино, которая должна была вывести к «Ла Федериз» на улицу делла Кроче, я заметил расположившуюся на террасе Канова, в штаб-квартире левых интеллектуалов, привычную группку еще одних болтунов. Сидя за стаканчиком карамельного негрони, они также с умилением предавались радостям римской осени. Им показалось, что я остановился у Розати, они переглянулись между собой, словно требуя у меня отчета, как ушибленные посмотрели на меня, когда я поздоровался с ними кивком головы, не сбавляя при этом шага, и, судя по моей подозрительной для них спешной походке и моему бесцеремонному с их точки зрения жесту, решили, что я только что на их глазах спелся с нашими противниками.
На площади Испании, оккупированной разрозненными туристами, угодливыми стайками фотографов и продавцами почтовых открыток, которые не осмелились бы появиться здесь лет эдак десять тому назад, когда ступеньки площади еще служили пристанищем бродячему плебсу молодых эмигрантов с Юга, я быстро обвел взглядом двойной пролет лестницы. Для очистки совести, так как Рамон с его шрамом, химерическими мечтами о миллионах и его барской наглостью карманника-идальго давным-давно исчез отсюда. Вот она, ностальгия по тем временам, когда мы, чтобы раскурить на двоих, разламывали пополам сигарету, которую прикупили в соседнем киоске, по тем временам, когда табачники еще соглашались торговать ими поштучно!
31
Феллини встретил меня с распростертыми руками, стоя у своего пианино-бара. «Японский саке? Датский аквавит? Московская водка?» Самый тонкий критик не смог бы так припечатать мою работу, как Феллини своим саркастическим намеком на всю ту мешанину школ, в которых я черпал свое вдохновение, и тех стилей, что он обозначил под марками алкоголя. Если я не смог разорваться между Дрейером, Эйзенштейном и Мицогуши, то, может быть, смог бы проявить больше решительности в напитках? Этикетки, украшенные пагодой, избой и копченой селедкой, соответствовали каждая родине одного из моих мэтров. «Спасибо, я не пью», – сказал я и был награжден с его стороны иронической улыбкой и еще одной порцией смущения – от себя самого. За исключением этой занятной аллюзии на различные влияния, которым я подвергся, и несуразности подобного коктейля, речь о моих кинопробах не заходила. Три бутылки вернулись на свое место в баре. Резкий звук, с которым захлопнулась его крышка, прозвучал отходной молитвой по моим надеждам. Феллини, нисколько не смутившись тем, что поставил финальную точку в деле и не раскошелился при этом ни на лиру отступных, ни хотя бы на одно слово в оправдание оного, копался в огромной коробке швейцарского шоколада. Проворно разворачивая обертки, он вытягивал широкий и прожорливый язык и одну за другой укладывал на него конфеты.
Он водил меня из комнаты в комнаты по резиденции «Ла Федериз», демонстрируя только что отремонтированные помещения, стены, обтянутые бархатом, дизайнерскую мебель и светильники от «Понтекорво». «Тебя восхищает наша роскошь парвеню?» Я рассмеялся вместе с ним. «Стоп!» – вдруг закричал он. «Не тебе смеяться! Если ты так хочешь снимать кино (сердце мое затрепетало при этих словах), подстраивайся под нынешние вкусы. Я только что ангажировал Анук Эме и Клаудиа Кардинале. Думаешь, они бы сели в этот раздолбанный мотоцикл с коляской Дзампано? У тебя кстати какая тачка?» Мой ответ, похоже, его удовлетворил. Он начал мне рассказывать о «новых слабостях» итальянцев. Народ требовал дорогих, роскошных фильмов, время неореализма прошло, а в Риме – чтоб я знал! – отныне больше телефонов, чем в Париже.
– Взгляни на этот график, – он взял с низкого столика из плексигласа какой-то журнал и сунул мне его под нос. Когда я шесть лет назад снимал «Ла Страда», Италия потребляла двести семьдесят тысяч тонн жидкого газа. В этом году потребление вырастет до семисот тысяч тонн! Благодаря этим миллионам дополнительных баллонов итальянки сэкономят миллиарды часов, которые они тратили на разжигание своих плит!
Под впечатлением грандиозного зрелища бесчисленного множества сверкающих пузатых баллонов, Феллини вынул из кармана карандаш и принялся рисовать на задней обложке журнала компактные ряды продукции «Agipgas».
– И что тогда будут делать миллионы итальянок с этими миллиардами часов, убитыми на кухне? В Милане о них уже подумали. Там мэрия за три месяца заказала два миллиона шестьсот тысяч лампочек на рождественскую иллюминацию! А еще что, знаешь? Мы вырубим всю Финляндию и Норвегию, чтобы в каждой нашей семье стояла елка! Ясли с волхвами – это уже не модно, милый мой. Сколько можно собираться за домашним столом? Надо выходить на улицу, и тратить, тратить, тратить без остановки! Обвешать елки подарками. Скупить все меха и все золото! Виски – трехлитровыми бутылками, паштет – килограммами! Икру – ложками! Под корешок скандинавскую елочку, она обалдеет, когда из своей снежной пустыни полярного безмолвия приедет к нам на Новый год с шампанским, музыкой и петардами!
Обалдел я, от этого потока слов.
– Э-хе-хе! Моему деду этот пианино-бар не пришелся бы по вкусу, он свою баночку пива выставлял на свежий воздух за окно на карниз. По воскресеньям он запрягал свою повозку и возил нас по деревенским дорогам, вдоль зарослей боярышника… Боже мой! – воскликнул он, хлопая себя по ноге. – Как я расчувствовался! Надо кончать с воспоминаниями детства, Пьер Паоло! Хватит разводить нюни по старым добрым временам! Нас интересует только будущее!
– Разумеется, – пробормотал я, пытаясь вставить слово. – Я же ничего не говорю… Но эти жалкие, нищие, как герой моего фильма, паштет с икрой им пока не светит!
– В «Римини», припоминаю, этот попрошайка, не то чтобы попрошайка, так, бродяга, пропащая душа, короче, вроде твоего, такой же типаж. Так вот фашисты позаботились о нем. «В нашем городе не место отбросам человечества!» К нему послали тетку из соцобеса, выкупали его в горячей ванне, одели его, и поручили зажигать лампочки на карнавале… А? Это что?
В конце коридора секретарь сделал ему знак.
– Нет, я сто раз уже говорил. Сейчас никаких интервью. Ни с кем. Ни-ко-го, слышите? Что им надо? Хватит с них того, что я сказал им в Каннах! На чем мы остановились? – продолжил он, заводя меня в свой кабинет. – Ах, да! «Не место человеческим отбросам!» Он был очень симпатичный, этак чудак. Каждую весну он бегал со своим сачком за пухом, как за бабочками, знаете, эти белые хлопья, легкие как пух, когда они появляются в марте, и плавают в воздухе, кружатся, не падая на землю, поднимаются, опускаются и все время несутся куда-то, увлеченные какой-то мистической тягой. Какие же кретины, эти фашисты, ты не находишь?
– Совершенно верно, – я подскочил, пытаясь уцепиться за беседу.
– Оставили бы его просто в покое, нарядили его зачем-то муниципальным служащим.
– Федерико…
– Сядь. Я бы выкурил «Партагас». Ты не хотел бы мне помочь в моем следующем фильме? Знаешь, этот эпизод с педиками, все нашли его весьма удачным. Очень хороший диалог. На, взгляни на эти эскизы, если тебе, конечно, интересно.
Он разложил у меня на коленях серию небрежно нарисованных набросков к фильму «8 1/2» с легкими пастельными разводами нереальных мечтательных цветов. И они унесли нас далеко от простонародного сельского декора его адриатических воспоминаний, и еще дальше от моих трущоб и бродяг, в цветущий изнеженный мир, мир чистой фантазии, в котором Рудольф Валентино не испытал бы никакого дискомфорта. Там по улицам призрачного города прогуливались в белых костюмах курортники, а под портиками сераля размахивали своими вуалями одалиски.
– Я тебе открою один секрет, – сказал он мне, закрывая альбом и подводя меня к выходу. Но ты его никому не скажешь?
Феллини скользил по мраморному полу маслянистой походкой прелата, окуная взгляд своих карих восточных глаз в декольте секретарш, но стоило мне приоткрыть папку с ровными рядами цифр моей сметы, как он заткнул мне рот новым залпом статистики. Я выглядел как деревенский кюре, который приехал поведать епископу патетическую историю с матерью-одиночкой и был вежливо отпущен, захватив с собой, в качестве компенсации за дальнюю дорогу, безобидную ватиканскую сплетню.
– Угадай, кто пробил мне золотую пальмовую ветвь за «Дольче Виту» в Каннах? Держу пари, не угадаешь! Сименон, он был председателем жюри. Бельгиец! Это он протолкнул решение. Человек, который кушает мидии с жареной картошкой!
С этими словами Феллини вывел меня на лестничную клетку и похлопал по спине. Опершись на перила, он провожал меня до самого первого этажа звучным, ярким, детским смехом, который изливался за мной следом по широким ступенькам. «Ха! Ха! Мидии с жареной картошкой! Мидии с жареной картошкой!» Италия, возможно, ловко провела старушку Бельгию, выцедив у нее гораздо более приятный авантаж, нежели привычные рабочие места на рудниках для своих эмигрантов, но лично я 4 октября 1960 года оказался на улице делла Кроче без гроша в кармане и без единого метра пленки. По крайней мере я не мог, дабы снискать благосклонность продюсера, выделить в сценарии своим героям личный телефон, ведь у них не было даже водопровода и сортира с умывальником!
Мне хватило здравого смысла не заносить выверты Феллини в картотеку своих мягко говоря обид и неприятностей, которые снова посыпались на меня после оправдательного приговора в Милане. В преддверии той зимы меня поджидали три процесса: за мой второй роман, за инцидент на виа Панико и по делу в Анцио. Кроме этого, я едва не загремел по иску за клевету, который подал на меня мэр города Кутро в Калабрии.
Летом 59-го, миланский еженедельник «Суччессо» заказал мне пляжный репортаж по всему итальянскому побережью. Мои соотечественники открывали для себя прелести массового отдыха. Я описал то, что я увидел: грязные пляжи, громкая музыка в ресторанах, разрушение семейной морали под совместным воздействием солнца и купальников, банды teddy-boys[40]40
стиляг.
[Закрыть], гордящихся своим американским названием, но сохранивших под своими куртками электрических расцветок мелкобуржуазное фашистское сердце. В Калабрии меня поразила убогость жизни, запущенность пляжей, уныние подростков и бремя запретов. В итоге я навлек на себя резкие нападки со стороны южной прессы («контрабандист от журналистики», «выродок нации», «наглый пустозвон») и упрек со стороны заместителя госсекретаря по туризму («развращенная психика», которая развлекается тем, что «обливает грязью единое и неделимое тело отчизны»). Нет никаких сомнений, однако, какой глубокой симпатией отдались во мне эти строчки о запустении и нищете провинции, процветавшей в V веке до Р.Х., но которую с тех пор так больше и не навестил (как Сицилию при арабском вторжении или Пулию – при норманнском) живительный ветер Истории.
12 ноября коммунистическая администрация калабрийского городка Кротоне вручила мне премию за мой второй роман. Всеобщее возмущение, от Таренте до Козенцы. Мэр Кутро, соседнего с Кротоне городка, оккупированного хунтой христиан-демократов, использовал этот момент, чтобы подать на меня в суд. Его доводы стоят того, чтобы процитировать их. «Можно подумать, что это описание цыганского табора, хотя речь идет об одном из самых чудесных городов Италии. Как и другие города, он хочет стать еще более красивым и процветающим, но как его очаровательные берега, нависшие над водами пролива, и свет его ослепительных улиц может навевать гнетущую тревогу, о которой так сокрушается П.? «Женщины африканского племени»: так П. пишет о благовоспитанных жительницах индустриального Таренте, в порту которого базируется наш военный флот и знаменитые судоверфи». «Репутация, честь, благородство достоинство доблестных жителей Кутро были открыто и грубо попраны. На желтых дюнах – очередное африканское сравнение, которым пользуется журналист – сотнями рассыпаны чистые, веселые, разноцветные домики Центра Реформ. Трудолюбивые обитатели Юга, Калабрии и Кутро, верные библейским заповедям, потом и кровью зарабатывают себе на хлеб, а не статьями, позорящими своих братьев».
Церковь («верная библейским заповедям») и Армия (база нашего военного флота), а вместе с ними Туризм, новый и еще более грозный авторитет («его очаровательные берега»), показали мне свои зубы в тот момент, когда телевидение начало методично вещать на весь полуостров публицистическую программу «Кародзелло» – пятнадцать минут ежедневных педагогических советов. О том как лучше чистить зубы, как накрывать стол для гостей, как выбрать пылесос и средство для мытья посуды, как делать женщинам комплименты: разумеется последнее наставление предназначалось в первую очередь обитателям Юга, что до сих пор пребывали во власти бессловесного, животного вожделения и отпугивали своим нравом иностранцев. Не забыли и об их толстых, бесформенных супругах – кому еще было посвящать страничку с кулинарными рецептами и рекомендациями по одежде, как не этим женщинам, которые из-за злоупотребления макаронами и упрямого пристрастия к черному цвету выглядели на пляжах, ставших родиной Венеры, как настоящие пугала?
Словом, новые прорицатели нации указывали каждому, как подготовить себя, посредством гигиены, хороших манер, и упражнений в кокетстве и галантности, к столь же «ослепительному», как и улицы Реджио, будущему. Разумеется, не говоря ни слова о том, что целью этих всевозможных метаморфоз было не счастье местного населения, а просто увеличение на их территории продаж от солнечных очков, кремов для загара и газированных напитков. Товаров, произведенных на Севере, где надеялись, что, увидев перестроенные на цивилизованный европейский манер сотни километров южного побережья, туристы из Милана и Парижа, Цюриха и Франкфурта тысячами хлынут туда, составив великолепную клиентуру для курортной индустрии.
Мэр Кутро без стеснения исказил смысл некоторых моих фраз выборочными цитатами. Типичный метод тех людей, которые занимаются цензурой, отвергая дискуссию. Ты ведь знаешь, что я, человек, который всегда стремился найти на краю третьего мира землю, которая заменила бы мне мои утраченные боргаты, употребил бы прилагательное «африканский» только с хвалебной интонацией. «Ионическое море не является для нас родным, – писал я, – его волны, плещущиеся между Грецией и Египтом, доносят до наших пляжей мелодичный отзвук Востока». Похвала, быть может, слащавая, притянутая за уши, но похвала лестная, это понял бы каждый. В докладе мэра содержался только первый кусок этой фразы: «Ионическое море не является для нас родным», за которым следовал этот насмешливый комментарий: «Отдадим его России, столь дорогой автору репортажа!» Возможно, из-за этой канальи я и потерял уважение нескольких рыбаков, наивно привязанных к своему побережью, к свои лодкам и воспоминаниям о Гарибальди в Аспромонте, ясно только то, что сжимавшуюся во мраке петлю густо смазали дополнительной порцией мыла.
Что касается глашатаев компартии, то глупо было надеяться на то, что их умаслила бы врученная в Кротоне литературная премия. Моя вторая книга, о приключениях преступника из Пьетралата и его невозможных усилиях возродиться через политику, подверглась столь же яростным нападкам, как и первая. В «Ринашита» меня обвинили в том, что я презираю своего героя, сотканного из пороков и нечистот. «Перед нами молодой преступник, вступивший в компартию. Нуждаясь в деньгах, он заходит в кинотеатр, пользующийся дурной славой, подсаживается к человеку, о котором он знает, что тот педераст, и склоняет его к оральному сексу. Потом требует пятьсот лир и, если что, силой заставляет того выложить свои деньги. Ну и как тут не возмутиться?»
Заметь, хорошее воспитание и университетские дипломы сенатора Марио Монтаньяны, автора этой статьи, защищенного своим жирным месячным окладом от «мерзкой» необходимости выуживать у какого-нибудь горемыки деньги себе на ужин, не помешали ему совершить грубую смысловую ошибку в отношении слова «педераст».
«Возмутилось», по совету официальной газеты компартии, Католическое дело[41]41
светское движение, пропагандировавшее католицизм, основано при Папе Пие XI.
[Закрыть]. На мой роман подают в суд. Следственный судья приостановил дело только после подробного доклада доктора Куттоло, католика и преподавателя истории Римского университета. Месяц работы, тридцать дней, посвященных скрупулезному изучению книги, за которые ему заплатили семьдесят шесть тысяч лир – в сто пятьдесят два раза дороже цены на билет в привокзальный кинотеатр – все ради того чтобы придти к выводу, что нравы, описанные в романе хоть и оскорбляют вкус читателя, но не побуждают его этим нравам подражать. «Сегодня фильмы и книги неореализма приучили нас мириться с грубыми и скабрезными вещами, которые наши предки отвергли бы в полном смятении».
На этот раз – отсутствие состава преступления, но я заметил, тщательно перечитав прессу (к чему терять время на газеты? – спросишь ты меня), что мой образ в глазах общественности подвергся легкой, хотя и существенной мутации. Я был уже не только автором скандальных книг, но, возможно, и сам человеком скандальным. «П. знает этот мир изнутри», – утверждает литературный критик «Эспрессо», независимого журнала. Так зароняется сомнение, граничащее с клеветой: можно ли так детально описать жизнь «на дне», не участвуя самому в криминальной деятельности воровского мира? И когда они, как бы снимая шляпу, восхищаются точностью описания ночного налета на бензоколонку «Шелл» на улице Христофора Колумба, они исподволь готовят читателя к мысли, что подобная точность зависит не только от силы творческого воображения автора.








