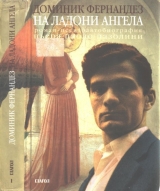
Текст книги "На ладони ангела"
Автор книги: Доминик Фернандез
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 38 страниц)
42
Четверг, четвертого числа: день, как день, за исключением более обильного, чем обычно, ежедневного рациона посетителей, просителей и ходатаев – удел «видного» писателя. На виа Евфрата они слетались как мухи: у меня был отныне собственный дом с благовидной и лестной пропиской, словно я залез на витрину, чтобы стать еще доступнее для всех и вся. Они как будто сговорились и бежали, не стесняясь, всяк на свой лад, со своими частными просьбами и жалобами. Накануне, в два часа утра, вернувшись домой на машине, я наткнулся рядом с гаражом на некого Энцо, одного из моих старых партнеров по футбольной команде «Донна Олимпия». Пришел потребовать несколько тысяч лир, которые, как он клятвенно заверял, я когда-то обещал ему, чтобы купить ему костюм. Он наседал на меня, не замечая, или не желая замечать, фингал у меня под глазом, из-за которого я чуть не выл от боли. Но разве можно отказать парню, который пять часов пас меня под окнами моей палаццины ради удовольствия примерить новенький костюмчик?
Мама разбудила меня в десять часов. «Мама, это ерунда, я стукнулся в темноте о дверь в гараже». Ничего не сказав, мама вернулась с компрессом, который она наложила мне на глаз. Потом перечислила, что нужно сделать в течении дня. Уже звонили: молодой человек из Ченточелле, его выставят на улицу, если он не доплатит сегодня же пять тысяч лир за квартиру; журналист из «Панорамы», просит интервью; секретарь Автоклуба Генуи, приглашает на конференцию; Мария Беллончи, зовет на коктейль. Что касается почты: письмо от начинающего актера, прилагается фотография; рукопись какой-то сардинской поэтессы; ходатайство сенатора-коммуниста за писателя, выдвинутого на какую-то премию, в жюри которой я был включен месяц назад; письмо, написанное красивым детским каллиграфическим почерком, от одного из моих бывших касарских соседей, который предлагает купить у него виноградник; трехстраничное послание с проклятиями от недовольного читателя; чек от одного чудака из литературного салона, который я почтил своим присутствием две недели назад. Римские нравы: этому трюку меня научил Моравиа, когда тебе оплачивают обеды и прочие скучные светские мероприятия. Мой тариф уже наполовину достиг тарифа Моравиа.
– В одиннадцать часов, ты не забыл, к тебе придет Джорджо Бассани?
Джорджо Бассани? Я аж подскочил. Один из «наших» самых известных, самых уважаемых писателей, как твердят дикторы культурных программ на радио. Его тариф должно быть в полтора раза больше моего. Он написал один очень красивый роман, но Джованне Б., моей подруге детства, он понравился, пожалуй, больше, чем мне. Впрочем, приятные воспоминания о крупной израильтянской буржуазии и элегический образ девушки, в которую ты был влюблен, но которая осталась недостижима для тебя, уже не актуальны.
– А в полдень, – продолжила мама, – эти двое, они уже целую неделю рвутся, этот Вальтер Туччи и его друг Армандо.
– Ты не знаешь, чего они от меня хотят?
– Важный разговор, они мне сказали. Важный и срочный, передаю дословно. Принести тебе кофе в твой кабинет?
Чтобы нагнать время, когда я поздно встаю, я не завтракаю и сразу принимаюсь за работу. С чего начать, в этой куче писем и бумаг? Входит мама с чашкой кофе. В другой руке она держит тряпку, чтобы вытереть пыль. (Несмотря на все мои упрашивания, она отказалась взять домработницу.)
– Мама, я тебя умоляю, не сейчас…
Она сдвигает книги на полке, сдувает пыль с газетных вырезок, выбрасывает в мусорную корзину вчерашние окурки. Я понимаю, что мама хочет чем-то поделиться со мной, но не знает, как подступиться к разговору. Она подходит ко мне, шевелит губами. Я раздраженно напрягаю желваки. Она отходит, и, уже с порога, тихо говорит:
– Пьер Паоло… Сегодня день рождения Гвидо. Ему будет сорок три года, тебе это о чем-то говорит?
Она снова подходит ко мне. Я чувствую ее спиной. Не оборачиваясь, я беру ее руку и целую ее пальцы. «Мамочка, – хочется мне шепнуть ей, – благодари его, что он пожертвовал собой, чтобы ты могла полностью отдать себя твоему любимому сыну». Но она, с полным правом, могла бы возразить: «Сыночек, ты же можешь быть счастлив только страдая, так что благодари его, ведь он вынудил тебя жить с угрызением совести, что ты пережил своего младшего брата». И что нам обоим мешает воскликнуть в один голос: «Смотри-ка, а ведь в этом году 5 марта пришлось на Пасху»? Намек на день моего рождения, который фактически совпадет со Страстной. Гвидо оказался бы лишним, в грядущей мистерии. Мы должны остаться одни, только я и мама, для последнего акта скорби.
Но такие вещи никогда не говорятся между нами. Мне достаточно похлопать ее по ладошке и покрыть поцелуями ее старческие пятнышки. Она сразу смущенно вырывает руку, и спешит унести корзину на кухню, чтобы закончить уборку в квартире.
Звонок в дверь: скромный, тихий, вежливый. Противоположность бурных трелей Данило. Улыбаясь, входит Джорджо Бассани. Он сразу поворачивается к вешалке и цепляет на нее свою шляпу и свой верблюжий троакар. Пытается скрыть удивление, увидев мой подбитый глаз. С ним можно ничего не бояться: он не будет смущать меня лишними вопросами. Это – джентльмен, до кончиков своих ухоженных ногтей. Ночью шел дождь. На его до блеска начищенные ботинки попало несколько капелек грязи. Особо выделяется одно пятнышко, расплывшееся на союзке. Оно завораживает моего гостя всякий раз, как он наклоняется, чтобы разглядеть его. «Красивая гостиная», – роняет он, устроившись в глубоком кресле и с удовлетворением поглаживая бархатные подлокотники. Ему нравится моя мебель – традиционной формы, без намеков на дизайн. Он разглаживает ладонью свои безупречно постриженные волосы, которые ниспадают острыми кончиками на его благородно выбритых висках, откашливается и начинает:
– Пьер Паоло, я пришел к вам не иначе как президент «Италии Ностры». В противном случае я не позволил бы себе побеспокоить вас. Оставим в стороне наши разногласия и разберемся вместе, почему вас не интересует защита творческого наследия Италии и ее национального ландшафта. Прошу прощения! – поспешил он добавить, вытянув свою полную руку, украшенную перстнем с печаткой, – я предупредил ваши возражения. В ваших глазах мы выглядим эдакими старыми брюзгами, и заботу о том, чтобы укрепить херувимов, которые осыпаются с карниза церкви Санта Марии делла Салюте вы охотно спихнете монашкам. Однако, у меня есть одна из ваших статей, которую я вырезал из газеты. Вы позволите? «Несмотря на то, что я антиклерикал, я знаю, что во мне живут две тысячи лет христианства; со своими предками я строил романские церкви, затем готические церкви, затем барочные церкви; это мои произведения, они всегда будут жить во мне. Я был бы безумцем, если бы отрицал эту могущественную силу в себе, если бы отдал священникам монополию на эти строения».
– Вы – еврей, – сказал я, – а я – атеист. И тем не менее, пять нефов собора в Ферраре есть наше общее творение, и жемчужно-розовый фасад Сан-Петронио в Болонье есть наше общее творение. Я узнаю себя в Мадоннах Косме Туры, как вы себя – в маньеристских портретах святого Себастьяна Гвидо Рени…
Я с удивлением слушал свою витиеватую, полную аллюзии речь. Мой гость вознесся на небо, но не только потому что упоминание о его родном городе и живописце из Ферраре – пространстве его детства и атмосфере его книг – тронуло его ностальгически хрупкое сердце. Он и не рассчитывал, что я стану отстаивать свою статью, которой я откликнулся на скандальные спекуляции с недвижимостью, он ожидал лишь саркастической ремарки о Священном крестовом походе «Италии Ностры». Мы пустились в неторопливую беседу, о красоте Болоньи и Ферраре, городов, которые разделяет сорок пять километров, и в то же время колыбелей двух – не правда ли? – столь разнящихся цивилизаций, столиц двух таких разных миров. Разве смогли бы Де Кирико и Карра найти в Болонье метафизический фон для своих грез? И смог бы Джорджо Моранди растворить слишком резкий свет Ферраре на бархатных изгибах своих бутылок? Ну не правда ли, что за чудо эта Италия, где вокруг каждой колокольни расцвел (это его слово) свой местный стиль архитектуры, взросла (это мое) своя школа художников, в историческом созвучии (мое), в дивной гармонии (его) с обычаями края. Когда, смотришь, к примеру, на фрески общинного дворца в Сиенне, где Лоренцетти изобразил сцены сельской жизни, что восхищает нас больше – талант художника или же та технология пахоты, которую в ренессансной Италии можно было наблюдать лишь на этих песчаных склонах Тосканы? Нам нельзя допустить исчезновения этих незаменимых свидетельств цивилизации, которой так сильно угрожает теперь американский way of life[47]47
образ жизни.
[Закрыть]! (Последние три слова – его; я бы не рискнул их употребить так произвольно). А Маринетти? Безумец (его слово), дурак (мое), это ведь он придумал засыпать Большой Канал, чтобы выстроить поверх него шоссе!
Так, вопреки всем моим привычкам и убеждениям, и протекает между нами эта милая и ученая болтовня. Насколько дебильной мне представляется иконоборческая возня футуристов, настолько же я всегда остерегался этих агентов доброй воли, которые стенают по лежащим в руинах виллах Палладио и организуют сбор пожертвований для Венеции, оставляя вместе с тем подыхать от голода своих художников-современников. Тем не менее я охотно обмениваюсь репликами с автором «Финци-Контини», который грациозно раскачивает ногой, невзирая на пятна грязи на своем мокасине. Пока на десятом «не правда ли?», которое я прошептал так сладостно, что уже сам не узнал собственный голос, я внезапно не осекся на дифирамбе в адрес трехлопастных окон бенедиктинского аббатства в Помпозе, «чья реставрация стала настоятельно необходима». Я больше не хочу участвовать в этой комедии, поскольку только что понял причину, по которой я стал в нее играть. Данило, да, речь идет о Данило, о моем будущем, которое я решил прожить вместе с ним, с тех пор как мы полюбили друг друга. Данило, он – причина, пусть и невольная, того воодушевления, с которым я ввязался в эту беседу. Если бы он был не так примитивен, если бы круг его книг ограничивался не только Мильтоном Каниффом, Честером Гулдом, Алькаппом или Крепаксом, если бы я мог поболтать с ним о чем-нибудь, кроме футбола, киноактеров и певцов варьете, то я давно бы уже спровадил своего гостя. Уж на что я ненавижу этот банальный треп об изящных искусствах, но стоило мне изголодаться по интеллектуальной пище, как я набросился на первого встречного, протянувшего мне эту косточку! Горький вывод: я обнаруживаю, что завладевшая мною любовь оставляет часть моего естества неудовлетворенной, что разница в возрасте – не единственное препятствие, которое мешает нам жить равноценной жизнью. Испытав внезапную антипатию к этому человеку, вторгшемуся ко мне, чтобы заложить мину под мое счастье, я спрашиваю его с надменным видом, который разом отсекает все наши предыдущие любезности:
– Вы добиваетесь моего вступления в «Италию Ностру»?
Мокасин с грязным пятном зависает в воздухе. Бассани растерянно качает головой, не понимая, какой перемене настроения стоит приписывать такой разворот.
– Сожалею, – говорю я ему, – но ваша деятельность обречена на неуспех. Вы хотите популяризировать проблему сохранения художественного прошлого Италии? Тех, кто всегда стоял в стороне от Истории, пусть и не по собственной воле, как подчиненный класс, никогда не увлекут памятники, которые выражают вкусы класса, господствовавшего над ними.
Если б я полагал, что обескуражу его, процитировав одну из самых избитых статей марксистского катехизиса, я бы недооценил и глубину его толерантности, и его дипломатический ресурс. Он сменил позу, покашлял в руку и спокойно продолжил, как если бы просто согнал с носа муху:
– Прошу прощения. Со временем эта беда, о которой вы упомянули, сгладится. Не станем же мы соглашаться с глобальным значением некоторых…
– Ну представьте, – внезапно сказал я, – что какой-нибудь подрядчик вздумает перегородить своей бетонной коробкой перспективу корсо Эрколе Примо, и что бы вы тогда сделали, чтобы спасти замок Эсте, чтобы спасти дворец Бриллиантов?
Не в силах устоять перед удовольствием перечислить достопримечательности Ферраре, чьи названия имели для меня такое магическое звучание, я пустился на прогулку по зачарованным аллеям мифологии и истории – экскурсия, которая была бы невозможна с Данило, которому пришлось бы объяснять сначала, кто такой Геракл и почему имя этого олимпийца носил герцог Возрождения. Разозлившись на самого себя, я безапелляционным тоном подвел итог:
– Есть только одно средство не допустить осуществления этого проекта: обратить ваш гуманистический протест в политическую борьбу. Вы говорите в своих агитках, что Италия «наших отцов» в опасности. А вы уверены, что «эти отцы», чье «наследие» вы защищаете, заслуживают подобного поклонения? Начиная с Фрейда, во всяком легате предков мы подозреваем нечто, что не есть обязательно позитивно. После марксистского анализа общества, понятие «отца» подверглось еще более радикальной деградации. Буржуазная категория «отцов», на которую вы ссылаетесь как на универсальную историческую категорию, совершила в моих глазах ошибку, не включив в себя никого из тех, кто интересен мне: отцов дворников, кухарок, рыночных торговцев, водителей автобусов, металлургов или фрезеровщиков, и даже бродяг или убийц. А я солидаризируюсь именно с ними, именно их Италия дорога моему сердцу.
Будучи польщен, что я вновь упомянул город его романов, Бассани кивнул головой и пробормотал, с видом человека слишком куртуазного, чтобы атаковать в лоб своего собеседника:
– Пьер Паоло, мне известны ваши позиции, и я их уважаю. Позвольте мне тем не менее не показаться сломленным. Вы лично, могли бы вы публично засвидетельствовать нам свою поддержку? Не знаю… Было бы достаточно статьи… Чтоб вы написали о каком-нибудь памятнике, исчезновение которого задевало бы вас лично…
Мне вдруг захотелось его спровоцировать. Он становился мне противен со своим фланелевым костюмом и своей навязчивой туфлей. Ведь это его вина, его, «его отцов», его класса, если у рабочего с фабрики «Марелли» нет ни времени, ни средств расширить кругозор своих детей за рамки их комиксов? Известно ли ему, что когда он организует банкет «Италии Ностры» в отеле «Хэсслер», Данило нужно сделать три лишние ходки с товаром? Что он должен отпрыгать двести ступенек на площади Испании с пятнадцатикилограммовой корзиной за плечами, не имея право даже рассчитывать на лишнюю лиру? И о том, как эти дамочки, которые пекутся о том, чтобы осушить площадь Святого Марка и отреставрировать какие-то старые рукописи, испачкавшиеся при наводнении в Арно, крошат эти булочки на скатерть из страха располнеть и ведут расистские беседы о судьбах Неаполя и Сицилии, ибо их имущественное участие никогда не распространяется к югу от Рима.
– Ладно, есть одна старая, ветхая стена, которой угрожают экскаваторы фирмы Помпилио. По-видимому, остатки каких-то зернохранилищ. Гнилое, неприглядное сооружение, но оно напоминает мне о том времени, когда бараны еще щипали травку на городских мостовых. Не представляющая никакого интереса рухлядь. Чья фотография вошла бы в диссонанс с глянцевой обложкой вашего журнала.
– Простите! простите! – воскликнул Бассани, выдернув из рукава нитку, которую он, скрутив в комочек, засунул к себе в карман. – Это превосходно, то, о чем вы говорите! Еще Леонардо да Винчи имел привычку изучать на старых стенах пятна сырости, следы плевков. Превосходно! Наши читатели несомненно оценят ту честь, которую вы воздаете тосканскому мастеру, ведь одной из наших первейших задач является спасение его «Тайной вечери». Прекрасно! Превосходно!
Он уходит, довольный своим визитом, застегнув на пуговицы из оленьего рога свой верблюжий троакар. Пройдя со снисходительной улыбкой мимо репродукции Мазаччо: у себя он вешает подлинники – подарки своих знакомых художников, к чьим выставкам он пишет свои предисловия. Закрыв за ним дверь, я чуть не прыскаю со смеху. Хорошая получилась бы компания, окажись тут Данило! «Простите! простите!», «Позвольте, позвольте…», «Леонардо да Винчи…» Ах! Ах! Я прыгаю как зайчик в коридоре и боксирую как грушу свой плащ, висящий на вешалке. Бассани всего на шесть лет старше меня – а я чувствую пропасть между нашими поколениями. Впрочем, меня включили в антологию «Молодых европейских писателей», рядом с теми, кому еще нет и тридцати. Есть на свете справедливость. Данило был очень горд за меня. Сегодня он меня «стариком» уже не назовет! Как жаль, что он не присутствовал при этом спектакле. Он бы увидел, как я отчебучил любимого писателя итальянской буржуазии, который за каждую свою книгу вместо судебного процесса удостаивается литературной премии.
Захожу в ванную: с оцепенением всматриваюсь в зеркало. Свинцово-желтый синяк вокруг глаза стал еще больше. Ретроспективно восхищаюсь тактом моего гостя и корректирую свое слишком поспешное суждение. То, что он разглядывал свой грязный ботинок, так это для того, чтобы отвлечь свое внимание. Любой ценой не выказать нескромного любопытства. С Данило я так легко не выкручусь. Да, что я скажу Данило? И что он подумает? Басня про гараж с ним не пройдет. Нужно придумать что-нибудь другое. Но что? «Поставить тебе еще компресс?» – спрашивает мама, вырастая в дверном проеме. Главное, чтобы она мне сказала, как объяснить самой большой в моей жизни любви, каким образом в час, когда с ночных улиц исчезли последние прохожие, я получил по морде, вляпавшись в дурную переделку.
А вот и он. Радостный и беспорядочный трезвон.
– Пьер Паоло! Что случилось?
Он застыл передо мной, выкатив глаза.
– Ты что, хочешь сказать, что они тебя побили? Ну ответь!
Это «они» неожиданно дало мне алиби.
– Да, – сказал я, склонив голову, чтобы он не видел, как я краснею.
– Кто? Фашисты?
И я как на духу:
– Фашисты.
– Подонки! Подонки!
Он закричал, схватил себя за волосы, побежал по коридору, подняв кулак, по направлению к лестнице, вернулся обратно, поднес вплотную к моему глазу свой палец, отдернул руку и снова заорал: «Подонки!», после чего сказал:
– Рассказывай. Как это случилось?
– Они поджидали меня у машины. «Это ты совращаешь наших детей? Это ты, мразь? Это ты продался Москве?» И жвах, по удару за каждый вопрос.
– И сколько их было, Пьер Паоло?
– Уфф… Да не знаю… Трое или, может, четверо… Темно, ничего не видно было.
– Ты бы их узнал?
– На них были маски, такие капюшоны с дырками для глаз.
– Подонки! Да еще и трусы.
Я попытался его успокоить. Он удивился:
– Ты что? Нужно кричать на каждом углу. Все должны знать, что Италия этого Альдо Моро насквозь прогнила.
– Я тебя умоляю, Данило. Это случайность, это несчастный случай.
Я вытолкал его в сад, где в лучах бледного зимнего солнца курились хилые веточки гранатника.
– Несчастный случай? Я надеюсь, ты напишешь статью. Получить по морде на улице, когда ты беззащитен, это будет похлеще, чем те яйца в Венеции, когда три четверти зала были на твоей стороне.
– Мелкое происшествие, не выходящее за рамки моей частной жизни.
– Твоей частной жизни, Пьер Паоло? И ты мне это говоришь? Или кто мне вдалбливал, что все, что с нами происходит, имеет политическое значение? Полиция открывает огонь по крестьянам в Аволе, которые отказываются собирать миндаль за десять тысяч лир в месяц, но оставляет улицы Рима на откуп мерзавцам из ИСД? И это частная жизнь?
Я не знал уже, как его остановить. Он хотел известить всех моих друзей, поднять на уши весь квартал. В этот момент в дверь снова позвонили. Не короткий и вежливый звонок Бассани, и не страстный ураган Данило, а три звонка одинаковой длины, повелительно официальных, от которых бросает в дрожь.
43
– Вальтер Туччи, – представился какой-то долговязый юноша, протягивая мне руку. Он навел своим пальцем на мой глаз и воскликнул:
– Что, фашисты? Браво, Пьер Паоло. На соматическом уровне вы функционируете исправно. Я говорил им, что вы еще не проиграли, что на вас еще можно поставить. Правильно, Армандо?
Я теряюсь в догадках и не отвечаю. Его низкий голос, его наглухо застегнутый френч, его волосы, ниспадающие до плеч, его уверенность, его жаргон, все в нем коробит меня. Из-за его спины высовывается невысокий блондин с короткими, вьющимися волосами, вполне милый, со стопкой брошюр на руках, которую он придерживает подбородком. Этому бы я охотно пожал руку: он мне нравится, он мне улыбнулся, кивнув кое-как головой, не то что первый с его замогильным голосом и загнутым кверху подбородком, нацеленным на мою репродукцию «Адама и Евы».
– Мазаччо! Следовало ожидать. Вы не знаете таких художников, как Бурри, Матта, Фонтана, Тапьес? Вы явно отстаете. По подбитому глазу ставлю диагноз революционно-анархического поведения. Требуется неотложная интеграция в объективно практическую деятельность. Вам повезло, что мы вас навестили. Правильно, Армандо?
Армандо, которого его спутник посчитал лишним представлять, выложил стопку брошюр на чемодан, уронив по дороге пару штук. Я успел разглядеть несколько названий. «Группа 63: Критика и Теория». «Конгресс в Палермо». «Экспериментальная поэзия». «Laborintus/ Labyrinthus». Приехали: группа 63, две дюжины фанатиков, которые провозглашают себя авангардом и хотят вычистить язык до основания. Посылают своих активистов к писателям, которых, как они считают, слишком легко читать. На своем конгрессе в Палермо в прошлом году они сделали мне предупреждение: «П.П.П., интересоваться диалектами в плане неосингматического аспекта фонем – это неплохо, но твои книги документальны, они отражают реальность и выражают на уровне зеркального миметизма абсолютно устаревшую точку зрения». Я тогда пожал плечами в ответ на эту тарабарщину, но сегодня, чувствую, мне придется несладко: быть может, потому что на этот раз послание мне шло не от безличного оракула, а непосредственно из уст двух юных римлян лет двадцати пяти, один из которых – что усложняет дело, я знаю свои слабые места – отличается необыкновенной красотой, которая меня уже обезоружила. Есть также риск, что Данило, эпатированный непонятными словами, будет удивлен, обнаружив, что я уже вышел в тираж.
– Вы можете забрать свои брошюры, – сказал я уверенным тоном.
– Я их читал. Кому сегодня не близки ваши позиции?
– А-га! – саркастически подметил Вальтер. – И вы повесили на стенку объективно устаревшего художника?
– Эта репродукция висела у меня в предыдущей квартире… Это, видите ли, воспоминание… Сигарету? – сказал я, чтобы задобрить новоявленного Торквемаду.
– Ты понимаешь, он привязан к воспоминаниям, – сказал Вальтер, повернувшись к прошедшему вслед за ним Армандо, даже не дождавшись, пока я их приглашу войти. – Спасибо, я не курю и не пью. Но вы увиливаете от ответа. Ваши римские солдаты в евангельском фильме одеты как на фресках Пьеро Делла Франчески. В скетче с Орсоном Уэллсом вы заимствовали колористическое решение у Понтормо. А последний кадр в фильме с Маньяни, вы ведь скопировали его Христа Мантеньи. Так или нет?
– Это что, допрос? – рассмеялся я, оскорбившись, что ни Вальтер, ни Армандо не замечают появления Данило, который только что присоединился к нам в гостиной. Они не приветствуют его, и их нисколько не беспокоит его присутствие. Данило же стоит раскрыв рот, уставившись на Армандо и его индийскую рубашку с бахромой, прикрывающей его голубые джинсы.
– На фонетическом уровне, – подхватил Вальтер, которому слово «музыка» должно быть показалось бы смехотворно простым, – вы к своему первому фильму выбрали Баха, к истории с Христом – Баха и Моцарта, а для приключений проститутки – Вивальди. Вы что, не в курсе, что Варезе, Джон Кейдж, Штокгаузен, Ноно и Буле уже установили новые инструментальные законы?
Он с недоверием оглядел комнату и приказал своему приятелю изучить мои книги, которыми был заставлен встроенный между окнами большой книжный шкаф. Я предпринял неловкую попытку оправдаться.
– Я взял хор из «Страстей по Матфею» к той сцене, где мальчишки дерутся в грязи новостроек, чтобы предупредить зрителя, что перед ним не какая-нибудь неореалистическая потасовка, а борьба, в которой есть нечто эпическое, мифическое… Я не неореалист, – сказал я с еще большей силой, вспомнив аргументы, которые использовались против моих книг в Палермо.
В этот момент Данило пододвинул стул блондину, который встал на цыпочки, чтобы дотянуться до левого верхнего угла моей библиотеки.
– Есть! – вскрикнул он неприятным писклявым голосом, вытаскивая с полки «О метакритике гносеологии» Теодора Адорно.
– Посмотри также на «Бэ» и «Аш», – указал ему Вальтер.
Армандо спрыгнул как пушинка со стула, его индийская рубашка грациозно всколыхнулась у него на бедрах, он передвинул стул и взял с соседней полки «Нулевой уровень письменности» Ролана Барта, затем пошарил еще и выудил «Идеологию и речь» Макса Хоркхаймера. Если бы тест оказался негативным, они, вероятно, ушли бы, предав меня презренной участи автора понятных романов. Но так как у меня водятся хорошие книги, они зачислили меня со своей сектантской надменностью в категорию «отсталых, но поддающихся лечению». Они не уходят, и я с болью в сердце смотрю, как Данило переставляет стул на место, а этот тип даже не соблаговолит сказать ему спасибо.
– Сходи, попроси маму приготовить нам кофе, – резко говорю я Данило. – Давай! Чего ты застыл?
Он выходит, сутуля спину, не понимая, почему я с ним так обращаюсь. Вальтер усаживается на диван. Его прямая и негнущаяся, как правосудие, шея тесно стянута воротничком френча. Армандо предпочитает кресло. Он разваливается на подушках, выпятив живот и вытянув по бокам свои руки.
– Мне все-таки хотелось бы узнать, – сказал я равнодушным голосом, – с чего бы это вы пришли ко мне.
– Мы хотим вас спасти, Пьер Паоло. Ввиду кое-какой небезынтересной продукции, имеющей к вам отношение, наша Группа решила вмешаться в процесс.
– И… каким моим сочинениям я обязан этой честью?
– Ты слышишь, он говорит «сочинение»? Пьер Паоло, откуда вы такой взялись? Сочинения, это к писателям, к тем, кто еще не доверяет интуиции и верит в индивидуальное творчество, это устаревший вид производства. Я надеюсь, что вы рассматриваете себя не как писателя, а как производителя текстов. Мы пришли предложить вам участвовать в работе нашей команды, которая занимается теоретизацией на лингвистическом уровне радикального пересмотра системы посредством междисциплинарной стратегии.
Думаю, будь здесь только этот Вальтер, я схватил бы его за воротничок маодзедунского френча и вышвырнул бы за дверь этого тупорылого волосатого сосунка, который должно быть ежедневно изводит не меньше тысячи лир на укладку своих патл. Но меня смущает Армандо, который, раскинув ноги, развалился напротив в кресле. Как и все красивые юноши, с которыми я сталкиваюсь в публичных спорах, когда обстоятельства не позволяют мне приблизиться к ним, он смягчает мой напор, лишает меня воли. Однажды в Болонье, после конференции, посвященной Висконти, я чуть было не отрекся от всех своих слов, когда на меня набросился с критикой какой-то парень, как будто срисованный с пажа Карпаччо. Он поднялся в глубине зала и начал обвинять меня за то, что я защищаю «богача-аристократишку». Не знаю, как вся эта ахинея нашла тогда на меня, но нужно было видеть его миндальные глаза и его полураскрытый в улыбке рот. Я вежливо заткнулся и не перебивал его, просто радуясь, что он стоит передо мной и позволяет рассмотреть все прелести своего силуэта. Чтобы понравиться Армандо, чтобы вывести его из поглотившей его скуки, я был готов согласиться со всем, что они попросят.
– Мне кажется, – сказал я, невольно покраснев, – что я достаточно дорого заплатил за свою персону. Если кто-то заслужил ее место в рядах авангарда…
Вальтер пожал плечами. А блондин, вместо ожидаемой улыбки, вознаградил меня глупой ухмылкой.
– Авангард! – сказал Вальтер. – Он причисляет себя к авангарду! М-да, – добавил он после эффектной паузы, подчеркивавшей его удивление, – вы являетесь частью авангарда, Пьер Паоло. Вы неплохо сражались. Ваша полемика заслуживает уважения. Но ваш бунт, как и бунт всех представителей авангарда прошлого, начиная с Дада и кончая американскими битниками, является частью устаревшей материалистичноэмоциональной точки зрения. Вы привязаны к риторике значений. Новые значения, но старая риторика. Ваши лингвистические эксперименты шумны и поверхностны. (Я боялся теперь только одного: как бы Данило не вернулся в гостиную и не услышал, как мне выносят приговор в таких ясных для него выражениях, что они были бы понятны любому. Господи, сделай так, чтобы Вальтер снова перешел на свой жаргон.) Вы оперируете внешней аргументацией традиционного лингвистического абсолютизма. (Уф!) Группа отрицает право языка устанавливать фронтальную репрезентативную связь с реальностью. (Вздох облегчения.) Группа обвиняет исторический авангард в том, что он не осознал тотального овеществления системы. (Уф! Уф! Уф!)
Вальтер крепко хлопнул себя по бедру. А я, вместо того чтобы спросить у него, какие доказательства Группа приводит в своей войне с «системой», доказательства, сопоставимые с моими двадцатью судами, с тремя изъятиями тиражей моих книг, с четырьмя запретами на мои фильмы, с четырьмя месяцами условного тюремного заключения, вместо этого я скромно обратился к Армандо.
– Армандо, вы совершенно правы, отказываясь от слишком удобного ярлыка в определении авангарда. Смело с вашей стороны. Самые сомнительные коммерческие операции…
Поглощенный созерцанием своей рубашки, он выслушивал мои комплименты, даже не удостоив меня своим взглядом. Вальтер молчал недолго:
– Поэтому Группа считает себя нео-авангардом. Авангард был оппозицией обществу, отрицанием общества. Нео-авангард есть отрицание отрицания. Нам уже не интересно спорить с обществом, соблюдая прежние лингвистические связи. Наша программа отрицания сводится к выявлению овеществленной природы общения. Правильно, Армандо?
Дело не в том, что их галиматья ужасает меня, и не в том, что за своими революционными претензиями они втихую прибирают рычаги управления в издательствах, на радио, на телевидении, в крупных журналах, в литературном альманахе Бомпиани, куда Группа прорвалась в 1967 году так же, как фашисты колонизировали его в 1932 году в эпоху столь любезных моему отцу «Стальных романов», в университете, где их надменный тон наводит ужас на преподавателей, слишком трусливых, чтобы изобличить их самозванство, дело в том, что воинственный вопль Рембо: «Нужно быть современным» – пугает меня не меньше. Писателю всегда страшно оказаться отвергнутым следующим поколением. Для меня было бы трагедией потерять связь с молодежью. И так как у нового поколения сегодня нет какой-либо серьезной культуры, которая позволила бы им противостоять очарованию непонятных слов, я понимаю, что мне с моей потребностью в интеллектуальной ясности, с моим чувством гражданской ответственности уже угрожает изоляция и забвение.








