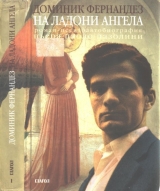
Текст книги "На ладони ангела"
Автор книги: Доминик Фернандез
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 38 страниц)
15
Отец вернулся из Кении в августе. Мы не без содрогания ожидали его возвращения, убежденные в том, что после четырех лет плена, краха фашистской идеологии, позорного конца Муссолини, банкротства его собственных военных амбиций и крушения будущего встреча с ним не сулит ничего хорошего. Но то ли от физического истощения, то ли от постоянных унижений и огорчений, то ли от того, что высший предмет его гордости, спортивные таланты младшего сына, которому он привил вкус к охоте и огнестрельному оружию, со смертью его оказался предан небытию, как бы то ни было капитан, явно не стремившийся ошеломить нас своим появлением, скромно сел в уголке на кухне и попросил стакан вина.
Мы думали, что восстановив силы, отец таки добьет нас своими жалобами и упреками. Мы недооценили глубину постигшего его разочарования и бездонность депрессии, в которую он впал. На последнем этаже у нас располагалась нежилая мансарда, которую мы загромоздили старой мебелью. Он укрылся от всех в этом пыльном чулане, проводя там всю ночь и большую часть дня. Отец ложился, не раздеваясь, на ветхую раскладушку, которую он принес из бывшего гарнизона, и спускался только чтобы поесть. Он никогда не говорил о четвертом недостающем галуне, даже и не помышлял о своих супружеских обязанностях и не имел уже никаких притязаний на ведущую роль в доме, превратившись в тень самого себя. Мы то и дело слышали, как он шаркает наверху стоптанными башмаками и что-то бессвязно бормочет. Инстинкт военного ему подсказал занять позицию на возвышении, с которой он мог следить за всеми нашими передвижениями; он выбрал в насмешку это общество колченогих стульев и прочей рухляди, ставшей символом его никудышной карьеры и разбитых надежд.
Каждый вечер я ставил под дверью фляжку с пино, которую он распивал наедине со своими трофеями, подвешенными к стропилам. Ежедневно два литра красного крепленого вина. За столом он молча жевал оставшимися гнилыми зубами вареную говядину, прожилки которой застревали у него в усах. Помнишь, как он заваливал меня на стол, чтобы закапать капли в глаза? От напряжения он обнажал тогда свои зубы, и золотая коронка резца сверкала меж его растопыренных губ. Теперь он лишь скалил свои десны. Его налитые кровью глаза постоянно слезились, то ли под воздействием алкоголя, то ли от навязчивых мыслей. Со временем эта молчаливая и душещипательная тирания показалась нам еще более мучительной и невыносимой, нежели прежние вопли и скандалы. Но поначалу преждевременное старение главы семейства, свалившееся нам на голову вместо ожидаемого хамства, хвастовства и издевательств, было воспринято как благословение. Мы могли свободно предаваться радостям послевоенной фриулийской жизни. Принимая во внимание недавние горести и утраты, для всех настали спокойные и счастливые времена, а в моей жизни это был и вовсе райский период.
Хотя абсолютно целомудренный, что несомненно удивит тебя, при том, как я добиваюсь от тебя более осязаемых проявлений нежности, которую по-твоему ты даришь мне. Я преподавал в обыкновенных деревенских школах в окрестностях Касарсы. В субботу вечером за мной приходили приятели – да, приятели, мне не подобрать лучшего слова для тех, кого со мной почти ничего не связывало, кроме той беззаботной радости, с которой мы катались на велосипедах, ходили на танцы и устраивали ночные попойки. Одного звали Нуто, он смелее всех вел себя с барышнями и мазал брильянтином свои курчавые, как у африканца, и черные, как уголь, волосы. Нуто прикреплял на руль велосипеда букет боярышника, веточку которого он зажимал в своих зубах, когда танцевал. Никто не умел так же ловко повязывать шелковый платок вокруг шеи или приклеивать к заднему карману джинсов бумажную звезду шерифа, вырезанную из американского журнала. Куда бы он ни приехал на танцы, мальчишки, которым поручалось следить за велосипедами, сразу бросались к нему и уже не отходили от его велосипеда, тогда как Нуто направлялся на площадку, привлекая всеобщее внимание своим шумным появлением. Другого звали Манлио, он никогда не расставался со своим аккордеоном, неудержимый виртуоз с копной волнистых каштановых волос, незаменимый заводила всех провинциальных праздников. Третий, Эльмиро, одалживал у дяди повозку, запряженную пегой лошадкой, на которой он с песнями возил своих двоюродных братьев. Будучи хрупкого здоровья, Эльмиро не выпускал из рук платка, которым прикрывал рот при кашле. У него была красивая золотистая шевелюра, которую он разделял аккуратным пробором, но одна прядь упорно падала ему на лоб, над острыми и светлыми, как сталь, глазами.
Отношения с противоположным полом ограничивались безобидным флиртом без далеко идущих последствий, с помощью которого мы главным образом намекали ребятам с левого берега Тальяменто, что у порденонских парней с этим не было никаких проблем. Не тратя лишнего времени на ухаживания, мы переходили к более возбуждающим формам соперничества – к вину и музыке. Пока на деревянных столах под увитыми плющом беседками выстраивались батареи бутылок, потный и доведенный до изнеможения Манлио извлекал из своего аккордеона последний неистовый пасодобль. Его конкурент из Фаэдиса или Кодроипо молил о пощаде и признавал себя побежденным, не в силах разогнуть сведенные судорогой пальцы. Затем мы вчетвером ускользали от всех в ночную темноту и провожали друг друга до дома. Легким взмахом руки мы непринужденно прощались с барышнями, которые оставались молча сидеть на скамейке.
И тут начинались самые прекрасные минуты праздника, хотя сегодня я уже не смогу тебе объяснить и описать наши восторги. Молча крутить педали вдоль пыльных дорог, прислушиваться к пению кукушки, глотать свежий ветер, напоенный ароматами огородов, подобрать в дорожной рытвине загипнотизированного светом фар ежика и завернуть его в рубашку, гонять лис вокруг курятника, ничто, пожалуй, так не возбуждало нас, и этого было достаточно, чтобы наше сердце учащенно билось, наполняясь безграничным счастьем. Эльмиро возвращал повозку, доверив вожжи одному из своих кузенов, а мы по очереди катали его у себя на раме. Нуто пользовался случаем и в открытую лапал его и мелко целовал в шею, а потом долго и звучно в губы. Мы вовсю покатывались со смеху. В поведении нашего товарища не было никакой задней мысли или намека, и оно говорило только о том, что в жилах предприимчивого брюнета текла слишком горячая кровь, чтобы он мог устоять перед соблазном и не попробовать на вкус белоснежную кожу и бледные губы белокурого приятеля. Точно также мы нисколько не смущались друг друга, когда ослепительно лунной ночью нас вдруг разбирало искупаться голыми в Тальяменто и с удовольствием покрасоваться друг перед другом. Бывало мы также останавливались в полночь на середине моста, чтобы пописать вместе в речку и сравнить длину своих пенисов. Я лукаво подбивал их на эту забаву, в которой благодаря данному природой превосходству я всегда одерживал сокрушительную победу над нашим пылким дон Жуаном Нуто.
Такой была Италия в 1950 году. На еще узких и обсаженных платанами дорогах пока еще царили велосипеды; ночные поля искрились завораживающим балетом светлячков, которых еще не истребили ядохимикатами; а овечьи сыры вместо того, чтобы затвердевать в ячейках американских холодильников, созревали в пахучей сырости подвалов. Молодые парни предавались неосознанному взаимному влечению, которое не изолировало их от остального мира. Я мог быть самим собой, не становясь «другим»; и даже не испытывать потребность разжигать откровенными жестами ту смутную чувственность, которая сближала нас нежнее, чем ласки. Я знал, что для полноты счастливого момента мне стоило лишь протянуть руку, но отсутствие между нами внутренних запретов делало этот жест бессмысленным. Не опасаясь за свое будущее, я не предъявлял претензий к настоящему. Уникальный момент в моей жизни. Мы ходили в обнимку по улицам, а касарские старожилы лишь бесхитростно покачивали головой, глядя на двух пареньков, связанных знаками взаимной нежности.
Неотъемлемой частью той канувшей в Лету Италии был также туберкулез. Эльмиро с явным опозданием отправили в санаторий, где он и скончался, став жертвой доверия, которое тогда питали в народной медицине к свежему деревенскому воздуху, отварам из белой акации и самоотверженным попыткам матушек, тетушек и сестричек лечить любые болезни.
К концу дня в Касарсе неизменно разыгрывались мирные и безыскусные сцены домашней жизни, распределенные на протяжении суток в соответствии с сезонными колебаниями между работами в поле и готовкой на кухне. Крестьяне возвращались в городок на телегах с сеном, запряженных парой рыжих быков. Дети вели коров на водопой к водокачке. Какая-то девчушка подвязывала лентою косички перед тем, как отнести молоко зеленщику. Она напоминала мне Аурелию из моего детства, которая к тому времени, заметно раздобрев, обзавелась семьей в Удине. Народ постепенно прибывал на церковную площадь, в воздухе носились запахи кукурузной каши, а в это время в церкви загорались огоньки, и тогда, приподнимая сутану, появлялся в своих желтых ясеневых башмаках дон Паоло и зажигал к вечерне свечи вокруг алтаря.
Мы собирались чаще всего у родителей Манлио Кампези, у них была самая большая и самая богатая в кантоне ферма. Именно таким мне до сих пор представляется патриархальный вековой уклад. Во дворе рядом со связками сушившегося под навесом тростника соседствовали заготовленные на зиму дрова. Из прихожей, в которой женщины вешали свои соломенные шляпы на бамбуковую вешалку, открывалась анфилада грубо отштукатуренных комнат. Самые маленькие дети, лежа на деревенских матрасах, набитых кукурузным волокном, считали перед сном засохшие брызги штукатурки на потолочных балках. В огромных кадках лежало замоченное белье. Потом шла просторная кухня, которая служила столовой. Последние язычки пламени в очаге отбрасывали рыжеватые блики на пузатые бока кастрюль. Во главе стола тихо дремал над своею трубкой дед. Женщины суетливо убирали остатки еды, не забывая откладывать в отдельную корзину еще съедобные куски, а также фрукты и бутылку молока, которые по старому обычаю относили каждый божий день в сиротский приют.
Вечер продолжался в хлеву. Женщины приносили туда пряжу и шитье и усаживались в кружок под свисавшими с лампочки мухоловками из промасленной бумаги, поглядывая на мирно жующих в стойле коров, переминавших своими бугристыми боками шуршащую солому. Вместо того, чтобы слушать, как оставшиеся на кухне мужчины сокрушаются о пользе коммунизма и необразованности молодежи, мы предпочитали обсуждать судьбы Италии в хлеву с женщинами. Они обнаруживали живость и открытость ума, хотя в присутствии мужей и братьев не проронили бы и слова, так как единственная признававшаяся за ними инициатива сводилась к оказанию помощи соседнему богоугодному заведению.
В хлеву они говорили свободно. Как-то раз Нуто горько посетовал на свое положение батрака, страдающего от деспотизма и жадности крупных собственников. Матушки и тетушки Кампези, даже и не думая обижаться на этот направленный прямо против них выпад, проявили снисходительность к выступлению молодого человека, в котором они углядели, и не без основания, скорее симпатичное свидетельство его жизненной силы, нежели непосредственный факт обвинения.
Дядя Манлио, которому было скучно сидеть на кухне, но который считал недостойным себя заседать на табуретке в коровнике в обществе пенсионерок, поджидал нас во дворе и угощал, тайком от женщин, граппой из своей фляжки.
Чтобы кровь вскипала в наших жилах, не превратившись от долгого сидения в простоквашу, мы не упускали случая найти применение своим силам. Однажды вечером в октябре, несмотря на проливной дождь, в помещении профсоюза в Сан Джованни царило оживление. Секретарь ячейки спорил с партийным руководителем, который специально приехал из Порденоне. Эльмиро, который попросил меня остаться с ним, готовил манифест, в то время как его двоюродные братья вытащили из старого шкафа красный флаг и развернули его под дружное виват. По рукам вовсю ходили банки с пивом. Время от времени, возбужденный накалившейся атмосферой, какой-нибудь бывший партизан затягивал во всю глотку песню Сопротивления. Собравшиеся хором подхватывали куплет. И в тот же час точно такая же сцена происходила в Роза с Манлио и в Лигуньяне с Нуто.
До самой поздней ночи струился свет сквозь ставни агитпункта; на пороге двое или трое припозднившихся фермеров обменивались по пьяни крепкими выражениями; а под натиском сирокко, стряхивая с себя последние капли дождя, развевалось резкими хлопками водруженное над входом партийное знамя с серпом и молотом.
На следующий день с рассветом длинные вереницы повозок и велосипедов начали стекаться из всех поселков к городу Груаро. Можно было подумать – такой многочисленной она была – на большой соборной площади собралась толпа паломников, с той лишь разницей, что у всех в петлицах красовались красные значки, а вместо выходных костюмов манифестанты были одеты во что попало: комбинезоны садовников, блузы рабочих, куртки пастухов, кители бывших партизан, камуфляжные береты полицейских, американские пилотки, германские сапоги. Нуто выделялся на общем фоне своим по мушкетерски завязанным темно-красным платком. В прозрачном и чистом после вчерашнего дождя небе вырисовывались зигзагообразными силуэтами Карнийские горы. Водители автобусов, которые только что привезли к местной почте пассажиров из Удине, Порденоне или других более удаленных городов, спрашивали друг друга за чашечкой кофе под портиком, какова была цель этого шумного скопления народа. Но так как ни полиция, ни карабинеры не показывали носа, они пожимали плечами и садились обратно по кабинам.
В конце тисовой аллеи возвышалась окруженная большим садом вилла Пиньятти, перед фасадом которой располагался усыпанным гравием двор. Часть толпы направилась к вилле с требованием исполнить недавно принятый указ о найме безработных. Пиньятти прятался за ставнями с ружьем в руках. Он уступил давлению и принял у себя делегацию. Эльмиро и трех его товарищей препроводили в темную и сырую комнату с торжественной обстановкой, украшенную мраморной плиткой и возвышавшимися до потолка дубовыми стеллажами. Позолоченные корешки увесистых томов вздымались словно часовые на страже. Пиньятти-отец, чопорный и высокомерный старик, сидел за своим до блеска отполированным бюро. За его спиной в сапогах со шпорами и с ружьем в руках стоял его сын. Эльмиро, смущенный обстановкой и приемом, не решался оторвать взгляд от пола. Сын Пиньятти с саркастической усмешкой спросил его, не потерял ли он чего-нибудь, или, может, претензии манифестантов распространяются также на паркет. Тогда уязвленный Эльмиро вступил в дискуссию, которая, вероятно, закончилась бы для него ничем, но которая продлилась достаточно долго, чтобы в конце концов прибежал управляющий отделом труда и предупредил Пиньятти, что более не может отвечать ни за сохранность дома, ни за их личную безопасность, если они будут упорствовать в своем отказе. Пиньятти-отец удалился из комнаты, но его сын занял его место и подписал контракт по найму ста пятидесяти рабочих.
В Сан Джованни, в Розе, в Лигуньяне, в Касарсе, во всех окружавших Груаро деревнях шум не стихал до поздней ночи. Как никогда щедрые возлияния усилили эйфорию победы. Честно говоря, даже когда напряжение достигло предела, никто все равно не терял присутствия духа. Пока Эльмиро торговался под дулом ружья, на мостовой то и дело звучали шутки, смех и песни. Эпизод классовой борьбы или история лихо закрученной кампании. Вместо того, чтобы спорить за бокалом вина с парнями с другого берега, мы пошли маршем на Пиньятти, именно с этим чувством каждый вернулся домой, сожалея лишь, что такие деньки выпадают не так часто, как те же субботние танцы.
Спустя какое-то время, когда распространился слух, что на очереди теперь был замок графа Спиттальберго, поучаствовать в штурме захотела вся фриулийская молодежь. Австрийский по происхождению род Спитальберго итальянизировал свою фамилию и перестроил свое родовое поместье в неоготическом стиле 30-х годов: на выезде из Баньяролы – знаменитое на всю округу строение с крошечными окнами в форме бойниц и восьмиугольными зубчатыми башнями. В сознании графской семьи своим воинственным и надменным видом оно должно было напоминать средневековую крепость. С моей точки зрения оно было скорее похоже на такой же нелепый и вычурный дом из папье-маше графа де Луны, который я освистал во время представления «Трувера» в маленькой провинциальной опере Удине.
Нуто, стоявший в первом ряду, принялся разламывать железным прутом замочную скважину в воротах, в то время как его приятели забрасывали дом камнями, которые они швыряли через стену. В амбразуре окна появилась голова человека. Он истошно завопил, спрашивая, чего нам было нужно. На наш ответ («переговоры») он в бешенстве закрыл ставни, после чего вырос на пороге с двустволкой в руке. «Давай-ка послушаем, что вы нам тут скажете, – закричал он. – Пусть кто-нибудь один выйдет переговорить со мной». Это уже напоминало мне не оперную сцену, а американский вестерн, когда окруженный ковбоями бандит держит оборону на ранчо. Судя по его всклокоченной голове, кожаным чулкам и отсутствию пиджака, человек с ружьем должен был быть интендантом замка, которого послали на разведку его хозяева, забившиеся в угол своей спальни и готовые от страха бежать из замка через парк.
– Только один, – снова завопил он, – или я стреляю.
Из-за его спины показалась старая служанка, которая прихрамывая пошла открывать ворота. Манлио воспользовался тем, что Нуто замешкался со своим железным прутом, и проскользнул вместо него вслед за интендантом, который сразу закрыл за ним калитку.
Манлио вернулся через полчаса, разочарованно разводя руками и покачивая головой. «Бесполезно, они ни на что не идут». Было решено высадить калитку и занять замок. Нуто бросился первым. Едва он поставил ногу на газон, как одновременно из трех окон высунулись три дула. Приятели попытались удержать его, но Нуто упрямо приближался к замку, раздался выстрел. Пуля просвистела в метре над его головой. Осаждавшие в беспорядке разбежались, ища укрытия за стеной, после чего начали обдумывать тактику дальнейших действий, как вдруг из центра города раздался крик, который, словно пороховой привод, разнесся по площади, на которой толпились перед замком манифестанты. «Полиция!» Три или четыре грузовика, набитые жандармами, вкатились на площадь вслед за бронированной машиной. Из них с карабинами наперевес попрыгали полицейские, подняв своими коваными ботинками облако пыли. Каждый сжал в кулаке принесенную с собой палку, лопату или кирку. Нуто взял у кого-то железный прут. Капитан, стоя в медленно двигающейся на нас бронированной машине, отдал приказ всем разойтись. Машину от толпы отделяло несколько метров, но она не останавливалась. Мы расступились. Машина рассекла толпу надвое, после чего ее ряды сомкнулись обратно, преградив дорогу полицейским. Они угрожающе размахивали дубинками. В ответ мы, сжав кулаки, показали вилы и мотыги. Но – как бы это сказать? – ничего похожего на неприязнь не возникало между нами. Они не могли скрыть за мундирами свое крестьянское происхождение. Разве мы могли ненавидеть этих крепких парней, которые говорили с нами на одном языке, которые, как и мы, родились в бедных семьях, еще более бедных, чем наши, раз они бросили свою бесплодную землю, чтобы заняться этой грязной работой.
За желанием надавать друг другу по шее, видимо, скрывался иной, нежели ненависть, мотив. В одно мгновение площадь превратилась в поле битвы. Мы сражались плечом к плечу и катались по земле, сжимая в своих руках противника, который мог рассчитывать только на силу своих рук. Крик и ругань стояла по всей округе. Мы подбадривали друг друга шутками и во всю глотку орали запевки. Пролилась кровь: легкая и горячая кровь безобидных царапин, которая воспаляла нас драться с еще большей силой. Первыми убежали самые старшие. За ними, сотрясая дубинками, пустились жандармы, всем убежать не удалось; одного из нас серьезно ранили, и он остался лежать на земле. Молодые ребята не хотели отступать ни на шаг, пока полицейским на подмогу не прибыли грузовики с солдатами. Они хватали наших ребят и заталкивали их в грузовики. Все бросились врассыпную. Пацаны лет по шестнадцать удирали с такой же прытью, словно два-три года назад, когда они еще бегали в коротких штанишках от хозяина виноградника, который заставал их врасплох за воровством сочных ягод.
На опустевшую площадь, с которой в грузовиках увезли пару десятков неудачливых драчунов, спустились сумерки. В то же мгновение молитвенно запели колокола, чей звон казался еще прозрачнее и чище в тишине, объявшей городок, все жители которого попрятались по домам. Вдалеке на каждый их удар им вторили колокола соседних деревень. В Лигуньяне, в Сан Флореано, в Борго Браида, по всей равнине разносился с вершины колоколен призыв к молитве. Совсем вдалеке можно было различить колокола Кодроипо и Сан Вито, в чьих слабых отголосках до нас, казалось, доносился вырвавшийся из глубины времен вздох предыдущих поколений. Над фриулийскими полями плыл перезвон веков, такой же печальный и неясный, будто вечерняя дымка. Я укрылся вместе с Манлио, Эльмиро, и Нуто на сеновале в хлеву. Мы выбирались из города по темным и свежим улочкам. Какие-то женщины, прижимаясь к стенам домов, спешили к церкви, в которой другие, пришедшие пораньше, уже свершали, преклонив колени перед алтарем, ритуалы вечерней службы.
Чувство партийного долга обязывало бы меня подчеркнуть одновременность полицейской победы и религиозного служения: очевидное столкновение между политической силой и клерикальной властью. Но только оторванный от жизни бюрократ решился бы на подобное умозаключение. Старая крестьянская мудрость гласит во все времена, что с виду мирным и нерешительным молодым крестьянским парням, которые живут обычаями и в согласии с природными ритмами, нужно периодически давать выход неистовой силе своей крови: станцевать до упаду, в стельку напиться, устроить хорошенькую потасовку после танцев и, если этого мало, сойтись с соседней деревней стенка на стенку. Манифестанты в Баньяроле, наверно, верили, что приколов к петлицам красную звезду, они сражались за дело коммунистического интернационала; равно как и их противники – скорее все-таки рабы сохи, нежели верные сыны Христианской демократии – воображали, что защищают основы Республики. В действительности же ни Тольятти, ни Де Гаспери не руководили этой борьбой. В обоих лагерях люди подспудно повиновались неписаным законам более чем двухтысячелетней давности. По замыслу природы самые сильные, по возрасту или по положению, представители мужского пола должны время от времени пускать в ход кулаки и проливать немного крови, как по тому же замыслу женщинам следует идти в церковь, складывать руки перед Мадонной и воспевать гимны во имя ее. Стычки, тумаки, затрещины и синяки с одной стороны; с другой – шепот молитв и хор песнопений: все в тот исторический день штурма господского имения произошло сообразно древней мудрости земли.
Я собирался сказать: «сообразно извечному порядку вещей», чтобы без зазрения использовать клише, которое всегда служило для оправдания непротивления бедных и власти богатых. Однако, имел ли я основание так говорить, если бы я не был столь основательно ангажирован, и можно ли обвинять меня за то, что я предпочел остаться над схваткой, при том что вскоре после этого я из ненависти к эгоизму и несговорчивости собственников вступил в партию? Несмотря на все злоупотребления, которые принято оправдывать положением звезд на небе и незыблемыми законами, по которым живет вселенная, я остаюсь непоколебим в своем убеждении, что грандиозные послевоенные политические демонстрации не найдут своего объяснения, если ты не увяжешь их с другими обрядами деревенской литургии, праздников крещения и венчания, паломничества к фриулийскому храму Сан Даниеле, скотоводческих ярмарок, ночи Святого Иоанна и карнавальных шествий. Италия тех лет, представь себе ее в образе Великой Матери со множеством сосочков древних восточных культов, в образе черной Артемиды Эфесской, которую мы с тобой видели в неаполитанском музее. Объявшая всех сыновей своих едино и без различия; закрывшая глаза на все их расхождения в поведении; религиозная в этимологическом смысле этого слова; нежная, теплая, деревенская, чувственная, и уже назидающая порядок, но равно настолько, насколько это нужно, чтобы обуздать буйных молодых парней, которые не в Марксе и не в Грамши почерпнули необходимую для штурма дворцов энергию.
Поражение в Баньяроле обсуждали в хлеву Кампези. Женщины похвалили полицию за сдержанность. Нуто раскричался, припомнив всем парня, которому проломили череп. «Недоразумение, – сказала самая старшая представительница рода, – простое недоразумение. Это как, вспомни, когда твой отец заехал тебе по носу, и ты потом сморкался кровью. Силы порядка – это силы порядка», – сказала она в заключении, поправляя свои очки, чтобы сосчитать связанные петли. Это таинственное изречение, похоже, вызвало всеобщее одобрение, так как вслед за ним в хлеву можно было услышать лишь приглушенные звуки жующих коров да жужжание мух, вившихся над кучей навоза. Мама Манлио и его тетки, которые подняли головы, чтобы послушать бабку, вновь уткнулись носами в свою работу. Нуто немного поерзал на табуретке, но потом в подтверждение доброты своего характера зажал между коленей клубок шерсти, направляя разматывающуюся нить, как если бы он угадал в образцовой покорности этих женщин недостающее своему инстинкту бунтаря безусловное дополнение.








