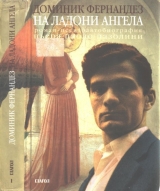
Текст книги "На ладони ангела"
Автор книги: Доминик Фернандез
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 38 страниц)
Я пристыжено поднял голову. И что же я увидел через несколько мгновений, понадобившихся мне, чтобы глаза привыкли к темноте? В двух шагах от кресла, на столике стояла прислоненной к бронзовой статуэтке почтовая открытка, которую я сразу же узнал: точная копия, чтоб я провалился, той открытки, которую отец послал нам в Касарсу и которую я тайком достал из мусорной корзины, куда мама каждый месяц с невозмутимым равнодушием выбрасывала супружескую почту. Ничем не отличающаяся картинка с путешественником и тигром. Хищник уже заглотил часть своей жертвы, но неосторожный охотник, чья голова и грудь еще не пропали в зияющей пасти, не выказывал страха перед смертью и, казалось, получал немалое удовольствие от этой пытки.
Дрожащей рукой я схватил открытку, чтобы рассмотреть ее поближе. В моей памяти запечатлелись все детали этой сцены: смиренная улыбка молодого человека, как будто он по доброй воле отдается алчному зверю; разорванная рубашка, обнажившая загорелое и сияющее здоровьем тело; полосатый окрас животного, изогнувшегося на своих жилистых лапах; пальмы в глубине пустыни, раскинувшие к желтому небу свои гибкие султаны; экзотическая птица на бамбуковом ростке, во все свое разноцветное горло воспевавшая песнь на две ноты (нарисованных в двух мультяшных пузырях) во славу этого пиршества. Все испытанные когда-то чувства вновь охватили меня. Я словно наяву увидел, как прячу эту открытку под рубашку, как прикрепляю ее в изголовье своей кровати. Она стала моим фетишем. Каждый вечер перед сном я обращался к хищнику с молитвой. Он подпрыгивал в ответ на мой зов и мчался к своей более чем довольной жертве. Наслаждение страхом и бегством… Еще большее сладострастие самоотречения… Да и правда, был ли с тех пор в моей жизни хоть один день, чтобы я подсознательно не искал вокруг себя прекрасного чудовища, которое разорвало бы меня своими клыками?
Не стоило жить, жить в течение более двадцати лет, жить полноценно и богато, не стоило вступать дважды в компартию, писать семнадцать книг и снимать шесть фильмов, становиться специалистом по диалектной поэзии, делать себе имя, прославленное или обесчещенное, как принципиального автора и режиссера, не стоило объезжать полмира, ехать в Индию и с этнологической любознательностью записывать легенду джайпурского магараджи, нет, не стоило приобретать это широкое интеллектуальное и политическое образование, которое, быть может, другого сделало бы зрелым человеком, не зависящим от своего детства, чтобы обнаружить в сорок три года, что поступок моего отца, без всякой задней мысли отправившего в тот день из лагеря это послание в виде почтовой открытки, переплело навечно в сердце его сына наслаждение и наказание, сладостную алчность и виноватое смирение.
Мое дальнейшее пребывание в Найроби… Что ж! не удивительно, что оно уже совсем не походило на начало. И если повиновение мрачному закону отца должно было вершиться в жестокости и в крови, то и я приехал в Африку не ради безобидного приключения. Поэтому я увиливал от более или менее явных предложений гостиничных боев из «Хилтона». Они стучались в мой номер, просовывали свои черные мордашки в приоткрытую дверь и входили, не дождавшись ответа, под тем или иным предлогом – проверить непроницаемость москитной сетки или принести на подносе из палисандрового дерева дольки охлажденного ананаса.
Консул полагал, что польстил мне, поселив в этом дворце. О более совершенной сатисфакции человек, в лице которого он хотел не только чествовать «принца кинематографии», но и почтить память своего друга, не мог бы и мечтать. Там, где измученный лихорадкой отец был вынужден ютиться на циновке в бараке, его сыну достаточно было нажать на кнопку кондиционера, чтобы по своему вкусу отрегулировать температуру воздуха. Выбор прохладных пьянящих напитков, хранящихся в минибаре при +5°, мог приятно утолить его жажду.
– Роскошь, покой и нега, – как сказал бы Д’Аннунцио. – Даже если это не «Эксельсиор» в Лидо, пожаловаться, думаю, вам будет не на что.
Похвальная предупредительность, которая возмещала в великодушной натуре консула его литературные пробелы, но не произвела на меня ожидаемого эффекта. Этот люкс угнетал меня. Я и в Венеции при первой возможности убегал из «Эксельсиора». Меня всегда тянуло в более простые отели. В Найроби же это пышное убранство меня совсем выбило из колеи. Может быть, еще и из-за настойчивости консула, с которой он сравнивал отца и сына и повсюду рассказывал об удивительных поворотах судьбы в семье П… Даль-л’Онды. Чего мне действительно не хватало, так это внутренней свободы, необходимой для того, чтобы воспользоваться преимуществами, которые давал мне мой успех. Быть может, я принадлежал к той породе сынов, которых сознание превосходства над отцом ужасает своим кощунством?
Я по-прежнему облачался в свои парадные одежды только по необходимости, дабы отдать дань светским раутам. И вновь с наступлением ночи, напялив майку, джинсы и старые кроссовки, я ускользал из отеля через кухню. Жалкие лачуги, наудачу составленные из деревяшек и железок, тянулись за городом вплоть до саванны. Залатанные железными прутьями и кусками картона, но огороженные решетками заборов, как будто это были частные виллы. Одна дыра вместо окна, другая – вместо двери. Что не мешало их владельцам натягивать на колья перед входом, наподобие балдахинов, красные тряпки с кричащими узорами. Во что превратилась кокетливая соломенная хижина аборигенов?! Удручающее доказательство вырождения местных обычаев под европейским влиянием, смесь дурного вкуса и нищенского тщеславия, эта вакханалия хибар обезображивала грандиозный вид африканских сумерек. Не знаю, впрочем, чем они меня так пленяли, когда я спешно мчался к своей цели; тем же, наверно, что десять лет спустя толкнуло меня на ночные похождения в Идроскало, хотя искать в более чем десяти километрах от моей квартиры в Риме столь невзрачный антураж у меня явно не было никакой нужды.
За последними земельными участками, на границе с саванной, я быстро откопал футбольное поле на огороженной кустиками лужайке, по которой босоногие гиганты с эбеновой кожей гоняли не по регламенту маленький мячик. Пот сверкал у них на груди и на их мощных бедрах. Завидев меня, они что-то лаконично промычали. Я быстро переоделся и сложил стопочкой свои вещи, после чего сразу пересек боковую линию, проведенную на песке пальцем ноги.
Мы играли – если можно назвать игрой ту беспорядочную суматоху, в которой две разъяренные команды сбивались в настоящую свалку – до тех пор, пока в последних лучах света еще были различимы два ствола аводире[46]46
африканское дерево с мягкой белой древесиной.
[Закрыть], заменявших штанги ворот. После чего… лучше спросить у ночного сторожа в «Хилтоне», в каком часу я звонил в дверь; и сколько раз, в ужасе от украшавших мое лицо бледных синяков, он водил меня в служебную комнату и накладывал мне прохладные компрессы. Мне удавалось как-то скрывать от него пятна крови на брюках. Когда же ею забрызгивались мои белые майки, он вынимал из кармана связку ключей, которой он позвякивал словно амулетом у своего уха, после чего трижды обходил комнату, скача на одной ноге.
Вечером после первого матча, когда я попрощался и отправился обратно в отель, они побежали за мной, схватили за плечи, внезапно повалили на землю и навалились на меня. Но потом для меня, как и для них, футбол стал служить лишь прелюдией и возбудителем. В сумке для обуви, в которую мама упаковала мои лакированные туфли, я вынес из своего мини-бара все бутылки виски, коньяка и водки. Под воздействием алкоголя мои юные банту доходили в своем неистовстве до пароксизма. Они извивались по пыльной земле, грубо, со всей своей силой, наваливаясь всем своим весом. Чтобы не закричать, мне приходилось вгрызаться в землю. Потом, разбитый и запыхавшийся, я слушал, как они с криком улепетывали в лес.
Каждое утро, вслед за горничной в номер входил слуга, а я, не вылезая из кровати, натягивал одеяло на голову, пряча свой фонарь под глазом. Горничная цедила сквозь зубы, что она зайдет позже, а слуга, толкая перед собою столик на колесиках, направлялся прямо к бару, чтобы выстроить новую батарею бутылок. Непостижимыми остались для меня мысли, которые крутились в его голове относительно столь внезапно пустевших за одну ночь полок бара. То ли это естественная апатия, то ли благоприобретенная лень, но люди в этом городе мало чему удивляются. Никто и не думал меня спрашивать, почему на всех приемах и даже в кинозале я неизменно присутствовал в своих черных очках.
40
Я сразу узнал его по походке. Он пританцовывал на ходу, как на пружинах, и хлопал в ладоши в воздухе. Я сидел на краю стены, на виа Джулия. Из лицея Вирджиль возвращались домой последние ученики, все с иголочки, прически по последней моде, в руках стопки учебников, перетянутые ремнем. Их длинные волосы ниспадали шелковыми волнами до плеч. Было слышно, как они отчаянно спорили про Вьетнам, и между строгими дворцами этой улицы, в которых когда-то жили принцы и кардиналы, витало имя Маркюза. Он прошел мимо меня в своей застиранной футболке за пятьсот лир. Коротко стриженые волосы, бритый затылок, за плечами – корзина с буханками хлеба. Я спрыгнул со стены, но буквально прирос к земле, боясь пошевелиться и держа руку на сердце, которое готово было выпрыгнуть из груди. Узнал ли он меня? Или не заметил? Я машинально пошел за ним следом.
«Просто иди за ним. Сам увидишь, куда он тебя приведет». Он меня действительно вел. Он вел меня, куда хотел. Останавливаясь, если я терялся в толпе домохозяек, которые возвращались с Кампо деи Фьоре, нагруженные фруктами и овощами. Снова пускаясь в путь, едва я оказывался у него за спиной, так близко, что различал на его загорелой шее крошечную черную атерому. Невозможно поверить, что по чистому совпадению, хотя он ни разу не повернулся и не посмотрел в мою сторону. Он уходил вперед, подпрыгивая на своих когда-то голубых кроссовках, полинявших под струями римских ливней, снова останавливался, чтобы подождать меня, и снова шел, не переставая хлопать в ладоши, словно играя на цимбалах.
Еще более странным мне показалось его поведение. Я – признанный мэтр искусства знакомиться с мальчиками – плыл как баржа на буксире. Инертно, покорно, пассивно. В кармане брюк я всегда ношу зеркальце, предостережение от дурных встреч. Если б одно из моих век (особенно левое) начало западать, я отказался бы от авантюры. Он свернул с площади Фарнезе в направлении Кампо деи Фьоре. Я воспользовался этим мгновением, чтобы посмотреться в зеркальце. О’кей, результат положительный. И свернул за угол. Он ждал меня, опершись всем своим телом на одну ногу и приподняв другую, едва касаясь ее кончиком земли, словно танцор между двумя па.
Во втором кармане брюк я держал пачку сигарет и зажигалку. Обычно, когда парень мне нравился, я закуривал сигарету и протягивал с улыбкой пачку. Положиться снова на этот прием? Ускорить шаг, обогнать его, вынуть из кармана «нацьонали» и произнести ритуальную фразу? «Не хочешь закурить?» Не знаю почему, но эта уловка мне показалась недостойной. Вопрос, который я задавал сотни раз, застрял бы у меня в горле. За ним раскованность, за ним инициатива. Совершенно новая для меня ситуация. Я бестолково путался в мыслях, я безвольно плелся, охваченный непонятным ужасом, который лишь распалял меня, вместо того чтобы заставить повернуть назад.
На рыночной площади – рандеву огородников Латиума – он поставил свою корзину рядом с каким-то рестораном, свистнул, чтобы предупредить о себе гарсона, который разбрасывал опилки под столиками, после чего углубился в толпу, направляясь к торговке овощами. Крепкая женщина с пышной грудью, где-то на шестом месяце, насыпала ему пакетик мирабелей. Он заплатил, взял пакетик и начал пробираться между прилавками с овощами к возвышавшейся над Кампо статуе. Сев на ступеньку цоколя, он зыркнул глазами, проверяя, иду ли я за ним, и принялся уплетать одну за другой мирабели. Надо сказать, фрукты он ел весьма оригинально. Едва мирабель исчезала у него во рту, он давил косточку ногами, но не спешил разжевывать мякоть, смакуя ее до тех пор, пока она сама не таяла у него на языке. Он смотрел теперь мне прямо в лицо своими хитро улыбающимися глазами. Очередная слива и – «хрясть!» – как только выплюнутая косточка прыгала на каменную плиту; тогда как желтый ароматный бархат фрукта медленно растворялся у него во рту, за его мясистыми губами, которыми он шевелил с серьезностью настоящего гурмана.
Я надеялся, что он предложит мне одну мирабель, и что этот жест откроет передо мною двери. Он съел их все до последней. И только тут мне на память пришел сонет одного из диалектных поэтов, которого я читал в подсобке моего дядюшки. Пакетик со сливами – это классическое средство коммуникации среди юных римлян. Таким нехитрым и простым образом молодые люди признаются друг другу в любви. Выплевывать на землю косточки перед стоящим напротив человеком означало, что человек исторгает из себя все твердое и горькое. Остается же только мягкое и нежное, словно сладкая мякоть пахучей мирабели. Тем временем, не смея поверить (судя по его мало заманчивому поведению, и по тому, что мы ничего не знали друг о друге, даже имен) в неожиданное и внезапное предложение, я стоял как вкопанный, не сходя со своего места.
– Эй! – сказал он, как бы приглашая меня своим жестом. – Ты чего, не видел, что я плюю косточки?
– Видел… но ведь…
– Иди сюда! Думаешь, я не заметил, как ты глазел на меня.
– Ладно, – сказал я, рассмеявшись. – Только ты не знаешь почему.
Я присел рядом с ним.
– Почему? Кадришь меня, да? Думаешь, я совсем дурак, Пьер Паоло?
Я вздрогнул. Мое имя было на устах у всех. Я уже не мог пройти инкогнито.
– К счастью, ты мне нравишься, – добавил он.
– Чего же раньше не сказал, тогда? Я тебя искал повсюду.
– Мирабели не созрели.
– Я даже не знал, как тебя зовут. Как я мог тебя найти? Про квартиру Пеппино, это шутка была, да?
На что он просто ответил:
– Данило.
– Данило, – сказал я смущенно, плохо владея собой. Мне хотелось прикоснуться к нему, позвать его «Нило, Нилетто», дотронуться пальцем до черного жировика на его затылке. На нем была футболка с широким вырезом, из-под которой виднелась его грудь и бронзовые выступы ключиц. С виду он казался очень мягким и сентиментальным. Он прислонил своей ногу к моей. Площадь впустую содрогалась от хриплых воплей торговцев – сидя на тех трех ступеньках цоколя, мы словно были огорожены стеной от этого гвалта, от всего мира, наедине со своею тайной. «Двое влюбленных». Мгновенно пронзившая меня мысль. «Ты влюблен?» Я поклялся, под яблоней наших со Свеном свиданий, что меня это больше не коснется. Я влюблен? Я ведь не испытывал к своему маленькому соседу с вьющимися волосами ничего, кроме обычного влечения к его совсем еще юной и упругой коже. «Или что-то еще?» Да и что тут могло быть еще? Однако, в тот момент, когда я снова начал предаваться охватившим меня приятным чувствам, какая-то внутренняя потребность оправдаться заставила меня произнести фразу, которая вполне могла бы повлечь за собой какое-то развитие. И на этих словах я отодвинул свою ногу.
– Так вот почему, Данило, я хочу тебе предложить роль в своем будущем фильме.
– Мне, роль? Роль для меня?
– Вот именно.
Он что-то забормотал и задергался. Не удержавшись, он вскочил на ноги и закрутился как юла.
– Роль для меня? Значит, я стану актером? Настоящее кино? Все увидят мою рожу?
Запыхавшись, он повалился на землю. Но его изумлению, его волнению не было предела. Он снова вскочил и забегал, как сумасшедший, вокруг статуи, после чего весь потный прижался ко мне.
Обхватив меня за шею, он шепнул мне на ухо:
– Я буду вас любить… всю свою жизнь!
– Почему ты говоришь мне «вы»?
– Вы – господин.
– Данило, если хочешь, чтобы мы остались друзьями, не разговаривай так со мной.
Испугавшись, что я обиделся, он запрокинул голову и отвлек мое внимание на статую.
– О! – закричал он, – ты глянь, как этот монах уставился на нас из-под своего капюшона. Кто это?
– Философ, которого схватила Инквизиция, приговорила к смерти и сожгла на костре, на этом самом месте.
– Прямо так?
– Прямо так, на глазах у всех.
– Живьем? Но за что?
– За то что еретик, который думал не так, как другие.
– Это что же, в Риме сожгли человека за то, что он думал не так, как другие?
– Нужно иметь смелость отличаться от других, – сказал я без особого нажима, не зная, стоило ли мне воспользоваться аллюзией, чтобы пленить Данило удовольствием бросать вызов обществу.
Чересчур возбужденный, чтобы услышать мой ответ, он все ошарашено повторял: «Я стану актером! Меня будут смотреть в кино!» Не в силах усидеть на месте, он резко выпрямился и бросился в толчею, шлепая от радости ногами по очисткам. Неожиданно он увидел в корзине у одной матроны, катившей в коляске своего ребеночка, один из тех великолепных сицилийских баклажанов, которые напоминают по форме мяч для регби, схватил его обеими руками и потрясающим ударом правой ноги запулил его прямо в лоханку с кальмарами. «Хулиган!» – завопил измызганный и окоченевший торговец рыбой. Окружающие торговки хором ответили на его возмущение. Данило дал деру, прихватив по пути с какого-то прилавка арбуз. Я уже стоял наготове, нам явно была пора смываться. На другой конец Кампо деи Фьоре, а оттуда, по лабиринту прохладных улочек, вокруг дворца Фарнезе.
Прилипшая от пота майка облекла гладкие формы его груди. Он растянулся в тени под портиком, словно с удовольствием потягивающийся молодой зверь, и тут я случайно обнаружил то, что раньше было скрыто от моего взора. Самые лестные мечты померкли бы в сравнении с тем, что бросилось мне в глаза. Все в этом мальчике нравилось мне. Какой порыв, какая радость жизни, и это, пусть уже притупившееся, возбуждение от кражи и погони! И все во мне зажглось желанием новой авантюры, в которой слово «любовь» не должно было ставить передо мной издевательский вопросительный знак. В сравнении с подростками, которых я встречал последние годы, такими угрюмыми и оскотинившимися в этом обществе изобилия, этот сохранил в себе вольность и чудаковатость рагацци прошлого.
– Сыграем? – предложил он, выкатив на середину улицу блестящий темно-зеленый арбуз.
Мы сделали несколько пасов. Мои ботинки на кожаной подошве были потверже его резиновых кед. Сильно тверже для этой ягодки, которая раскололась при первом ударе, забрызгав покрышку проезжавшей машины соком и семечками.
– Теперь, – сказал Данило, ничуть не расстроившись и горя желанием новых приключений, – пойдем к тебе, что ли.
– Ко мне? – пробормотал я, ничего не понимая.
– Знаешь, у меня, это невозможно. Я живу в одной халупе с двумя своими братьями. Там нас ни на минуту одних не оставят.
Я отвернулся, чтобы он не видел, как я покраснел.
– Ко мне тоже нельзя. У меня мама все время крутится дома.
Мама предоставила бы нам абсолютную свободу. Я сам ни за что на свете не стал бы заниматься любовью там, где она жила. Даже если я себе не слишком хотел в этом признаваться, то объяснить это Данило я уж тем более не сумел бы.
– У тебя что, нет отдельной квартиры? – воскликнул он.
– Слушай, Данило, я знаю одно суперклассное местечко на берегу Тибра.
– Да-а! Я так хотел позырить, как живет какой-нибудь киношник!
– Я с удовольствием тебя свожу. Как-нибудь потом, Данило. Пойдем сначала туда, куда я предложил, за газометр. Ты увидишь, что там лучше, в сто раз лучше, чем в комнате.
Он застыл посреди улицы, расставил ноги и уперся кулаком в бедро.
– На берегу Тибра? Как эта шелупонь? Ну и ну! Я, когда старый стану, я точно лучше на кровати с белой простыней, чем на грязной траве!
Он не обижался на меня. Ни упрека, ни разочарования не было в его глазах, которые искрились лукавством и хорошим настроением. «На берегу Тибра! На берегу Тибра!» Он, от души веселясь, повторял эти слова. Но я, уязвленный его замечанием, спросил его, будучи уверен, что мое худое, жилистое тело, мой подтянутый живот, мои хорошо развитые благодаря занятиям карате плечи производили обманчивое впечатление:
– А сколько лет ты мне дашь?
– Ну за сорок, меньше тебе точно не дашь!
Я прикусил губу. Он это почувствовал. И сразу бросился оправдываться: со сверстниками ему неинтересно, ничему хорошему они научить не могут, он был бы рад, если бы я немного занялся его образованием. Его отец работал на виа Линготто, в филиале Марелли, рабочим в цехе радиотехнического оборудования, он возвращался домой всегда усталый и не успевал заниматься своими сыновьями.
– Я едва читать умею, – признался он мне, покраснев.
Он только что закончил четырнадцать лет обязательной школы. Его братья, родившиеся после него, посещали технический лицей. «Я за них рад!» Это было сказано искренне и без тени злой иронии. Мы шагали вдоль реки быстрым шагом – до газометра, круглые серые очертания которого начали вырисовываться вдалеке за скотобойнями. Рядом с автобусной остановкой он хотел было сбавить шаг. Я же, как ни в чем ни бывало, пошел быстрее, пока тяжелый автобус не обогнал нас. Еще посмотрим, кто из нас двоих, безусого юнца или сорокалетнего «старика», окажется посвежее.
– А твои братья, им нравится в лицее? – спросил я, решив показать ему, что мне еще хватит дыхалки, чтобы потрепать языком.
– Да так. Отличниками им стать не грозит.
– Могу спорить, если у них в классе есть дети служащих, то они их и обставляют.
– Откуда ты знаешь?
Он вынул платок, чтобы вытереть шею.
– Уго остался на второй год в третьем классе. Марчелло прошел. Едва не засыпался, но прошел. Так что жаловаться не на что! Дети эмигрантов, они так вообще все заваливают. Даже переэкзаменовки. У Марчелло есть приятель из Неаполя, он совсем не тянет.
– Да, это не трудно догадаться, – сказал я. – Я раньше был учителем. Я по их сочинениям мог угадать, одни они в семье, или они втроем, вчетвером в одной комнате ютятся, и кем отец работает, и сколько книжек у них дома на полке, и из какой провинции родом семья. Я знал все об их условиях жизни и почти ничего о их реальных умственных способностях.
– Думаешь, я смогу получить диплом? – спросил он меня с некоторым сожалением.
– Еще два брата с тобой в одной комнате? Твои шансы уже снижаются втрое. Тебе кто-нибудь дома объяснял трудные места из Данте, заставлял тебя пересказывать историю Рисорджименто? «Марелли» – передовое предприятие, в этом смысле у тебя преимущество над детьми слесарей и сантехников. Но по языкам, те, кого родители отправляют на каникулы заграницу, точно обойдут тебя. Наверно, ты заслуживал лучших оценок, исходя из твоих личных качеств. Но ты был обречен в этой школьной системе.
– Ну тогда наш Марчелло просто гений! – наивно воскликнул он, не сетуя горько на то, что ему выпало родиться на два года раньше, и что судьба вынудила его разносить хлеб по ресторанам, чтобы подправить семейный бюджет какими-нибудь несколькими тысячами лир.
Пока он слушал мои обличительные речи, я с удовлетворением заметил, что он начал волочить ноги. И уже не прыгал с ноги на ногу и не хлопал в ладоши, как ангелы Фра Анджелико. Его руки безвольно болтались вдоль тела.
Когда мы подходили к скотобойням, он показал мне на вершину холма Тестаччо.
– Газометр еще далеко, Пьер Паоло. Давай залезем туда, если хочешь. Там никто не живет, разве что пара мальчишек, они шугаются всех посторонних и тикают сразу на своих пони.
Я чуть не захлебнулся от гнева.
– Никогда! Никогда! Слышишь меня? Никогда нельзя ходить туда за этим!
Он посмотрел на меня ошарашено и пожал плечами. Я и сам не знаю, что на меня нашло. Ложбина Тестаччо была, наверно, идеальным местом, если бы только… нет, мне даже не сказать, почему я не мог пойти туда с Данило. За десять с лишним лет, что я провел тут, рыща по берегам Тибра в поисках укромных уголков, мне ни разу даже в голову не могло придти воспользоваться этим оазисом покоя. Осквернить последние остатки рая, сохранившиеся в самом центре Рима? «Никогда, – повторял я, сжимая кулаки, никогда нельзя использовать для этого Тестаччо». Он принадлежал этим детям и их лошадкам, морскому ветру и ночным звездам: никому не позволено валяться с любовником на священной для меня траве этого холма.
– Какой ужас, – сказал он, когда мы проходили мимо скотобойни под страшные вопли животных. – Мы здесь как-то были с нашим классом. Нам все показали. Я с тех пор не могу притронуться к мясу. Не могу, понимаешь. А ты?
Мне снова пришлось отвернуться, я вспомнил Карлино, верзилу с прозрачными глазами, который, заколов быка, умывался водой из-под крана, и других подмастерьев мясников, с которыми я ходил по лужам крови их жертв.
– Ты, стало быть, вегетарианец?
– Рыбу я ем. Это разные вещи. Но эту тухлятину, нет.
Ничто меня так не подкупало в Данило, как эта откровенность, с которой он отвергал то, что ему не нравилось. Я был поражен, обнаружив такую чистоту и восприимчивость у этого мальчика с его неприкрыто плебейской внешностью.
– Ну вы же дома не каждый день едите рыбу?
– Мне хватает овощей. Мама мне готовит сою.
– Сою? Они уберут отсюда скотобойни в другое место, – сказал я. – Это уже вопрос решенный. Дело времени.
– И что здесь будет?
– Парк. Поле футбольное.
– Футбольное поле? Здорово!
Он отыскал в канаве консервную банку и пнул ее ногой. Я подхватил ее, подбросил ее носком и залепил ею в каштановое дерево. Данило бросился вперед, я побежал за ним, откуда ни возьмись к нему вернулись силы, я демонстрировал ему свой дриблинг, он весело толкал меня в бок. К газометру мы пришли уже потные, раззадоренные и счастливые. Данило мигом скинул свою майку, бросил ее на траву и начал штурмовать шнурки своих кедов. Я в это время расчищал от веток землю под хилым орешником, который укрыл бы нас более поэтичной тенью, нежели кузов грузовика с его протертыми сиденьями.
Чудо что за парень. Нежный, сильный, сообразительный. И с исключительной внутренней мощью. Впрочем тут ему было далеко до меня. И он дрогнул первый.
– О-го! – крикнул он, видя, что я демонстрировал свою полную готовность начать сначала. – Три раза без остановки! Ничего себе!








