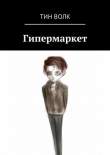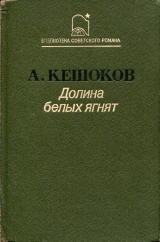
Текст книги "Долина белых ягнят"
Автор книги: Алим Кешоков
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 45 (всего у книги 59 страниц)
– Это, значит, я? – спросил Кошроков.
– Да, конечно.
Кантаса вернулась домой к вечеру и пришла в ужас. Отчужденную землю успели вспахать и засеять. От участка осталось соток двенадцать, считая землю под домом, хлевом и курятником. Об огороде даже думать было нечего.
– Многолетними травами засеяли, – уточнил Нарчо, на глазах у которого все это происходило. Они с Цуркой сидели на пороге, вдвоем охраняли корову. Рядом лежал кинжал, с которым Нарчо собирался в партизаны.
Ночью Кантаса не сомкнула глаз. Встав на рассвете, подняла и Нарчо. Решила отвести его к тебе на завод.
– Я помню этот день, – вздохнул Кошроков. – Хорошо помню. – Кантаса ни о чем не рассказывала, просила лишь об одном: пристроить сироту. Ехали сюда – Нарчо поведал мне историю своей семьи. Беды изрешетили кожу на нем… Ничего. Все зарастет, забудется. Правда, Нарчо?
– Ты ординарцем доволен? – спросил Оришев, надеясь, что Кошроков скажет о мальчике что-нибудь доброе.
– Он один у меня. И все на нас двоих возложено. Но мы не ропщем. – Кошроков положил руку на плечо парня и почувствовал, как тот дрожит.
– Кантаса уехала из аула, – закончил Оришев свой рассказ. – Пришла ко мне, говорит: «Возьми мою корову, даром отдаю». Я говорю: «Зачем даром? У нас есть деньги». – «Не надо, – говорит, – ничего. Одного прошу: дай работу». У меня как раз не хватало стряпухи. Я спрашиваю: «Стряпухой пойдешь в бригаду?» – «Пойду, – отвечает, – куда хочешь пойду».
– Да-а. История, – протянул задумчиво Кошроков. Он понимал, что с Чоровым у него нет и не может быть ничего общего. Чорова он отныне как бы отсек от себя. Наступила тишина. Линейка в гору пошла медленней, лошади взмокли от напряжения. Нарчо сидел понурясь.
Кошроков изумлялся только, как это Чорову все сходит с рук. Может быть, Кулов ничего не знает о проделках председателя райисполкома?
Конеферма колхоза «Бермамыт» спряталась на дне ущелья. Длинный навес, крытый соломой, держался на каменных столбах, высеченных из туфа, на таких же балках держалась и крыша, чтоб никакой обвал не грозил конюшням. Справа расположились утепленные стойла – родильни для жеребых кобылиц и нечто похожее на ветлечебницу (оттуда несло неистребимым запахом лекарств). Конюшни были пусты. Несколько десятков конематок паслись на крутых склонах гор под наблюдением лучшего колхозного табунщика – Айтека, сына председателя, о котором Кошроков почти ничего не знал.
Линейка остановилась у дома табунщиков. Облупившаяся штукатурка, два окна без стекол. Дверь висела на одной петле. У коновязи, почуяв лошадей, заржала слепая кобылица. Но, видно, топот и запах были не те, каких она ждала, поэтому гнедая умолкла, повернув голову в сторону линейки, хотя ничего не могла видеть.
– В трауре кобылица, – сказал Батырбек, и пока Доти «выгружал» свою ногу, объяснил: – Тоскует по жеребенку, никак не оправится от горя. А прошло уже месяца два…
Из конюшни вышел хромой старик с большим шрамом поперек носа. Костылями ему служили вилы. Как-то давно во время сенокоса старик стоял, поставив косу вертикально и, опираясь на нее, переводил дух. «Уалейкум салам», – ответил он на приветствие проезжавшего мимо всадника, кивнул головой и в тот же миг острая коса перерезала ему нос. Кое-как обошлось, зашили рану. Увидев гостей, старик заковылял быстрее. Кто же это с председателем? Вроде военный. Не собирается ли забрать лошадей под седло?
– Фикебляга – добро пожаловать! – глухо сказал старик издали, будто извинялся, что быстрей идти не может. – Только нет никого на ферме. Я да слепая кобылица.
– Товарищ по несчастью! – горько усмехнулся Доти Кошроков. Сам подошел к старику, поздоровался за руку.
Тот от неожиданности чуть вилы из рук не выронил. Его смутили погоны: командиры Красной Армии, каких он видел в начале войны, носили петлицы и нарукавные нашивки. А вот Султанбек Клишбиев, бывший правитель Кабарды, щеголял в золотых погонах.
– Где парень? – спросил Оришев, согласно обычаю не называя сына по имени.
– Да не будет сегодня конца твоим гостям, разве он усидит на месте?
Оришев, зная, что старик не выходил из дому с того самого дня, как захромал, спросил с удивлением, почему тот сегодня на ферме. Но тут же вспомнил все. Сын пригонит табун, сам вернется в аул, оставив старика вместо себя. Как же он не сказал до сих пор о важном событии гостю?..
Кошроков подошел к слепой кобылице. Чистокровная кабардинская порода: изящная голова, слегка округленный, как у барана, нос, широкие ноздри, уши, торчащие, словно всходы кукурузы, – все знакомо. Жаль, что слепая. «Для воспроизводства, впрочем, сойдет», – подумал старый лошадник.
– Как это – почему я здесь? Свадьба же! Ты что, забыл? – восклицал тем временем старик. Батырбек покраснел. О сегодняшней свадьбе, назначенной аллах знает когда, говорил весь аул. Свадьба необычная. Каждый волен по-своему расценить ее. Чоров и так зуб точит на Оришева-старшего, ему только дай за что-нибудь зацепиться – с корнем вырвет. Оришев осторожничал, решив устроить свадьбу скромную, тихую, для одних только родственников.
– Дел невпроворот, не только про свадьбу – собственное имя забудешь. Доти Матович, дорогой мой гость, осчастливь нашу семью… Сын женится. Понимаешь?.. Что значит не бывать дома! Целыми днями фермы да бригадные станы. Боюсь прирасти к седлу. Клянусь аллахом, забыл сказать тебе раньше. Спасибо Цухмару, напомнил.
– Айтека женишь? – спросил Кошроков.
– Да. Единственного сына… – Батырбек оживился. – А жених-то вроде меня. До сих пор его нет. Ему бы расчесывать усы, крутиться перед зеркалом, а он носится по горам с табуном. От такого жениха и невеста сбежит.
– Скоро явится, – сказал Цухмар. – Управлюсь с лошадьми, пожалуй, и я на Хуаре примчусь. Посижу, послушаю, посмотрю на людей. Давненько не бывал я на свадьбах.
– Конечно. Без тебя, как без тамады, – совсем развеселился Батырбек.
Хуарой звали слепую кобылицу. Весной у нее появился жеребенок, смешной, крутогрудый. На длинных ножках носился он вокруг матери, как бы приглашая ее полюбоваться сыном – вот, мол, я какой. Мать не видела ни его гнедой масти, ни пушистого хвостика, только по запаху и топоту угадывала она присутствие детеныша, тревожно ржала, если, заигравшись, он уходил далеко, и хлестала себя хвостом по бокам и спине.
– Почему она не в табуне?
– Хуара – мои ноги. У нас с ней кооператив: ноги ее – глаза мои. И ей хорошо – в пропасть не угодит, и я могу передвигаться. Разве не так, Хуара?
Лошадь, словно понимая, что речь идет о ней, повернула голову к беседующим. Из пустых темно-багровых глазниц заструились слезы. Хуара переминалась с ноги на ногу.
– Славный был жеребенок. Айтек все восхищался им. Аллах не дал ему жизни. – Обветренное смуглое лицо с глубокими морщинами у рта и глаз помрачнело. Жилистой рукой Цухмар провел по подбородку, уперся грудью в вилы, воткнутые железными наконечниками в землю.
– Не выжил? – допытывался Нарчо. Ему до слез было жалко Хуару, еще больше жалел он жеребеночка. – Или волки разодрали?
– Нет, не волки! – Цухмар покачал головой. – Сейчас расскажу. Но сначала о Хуаре. – Взяв клок сена, он принялся чистить кобылу, чтобы шерсть ярче заблестела на крупном, красивом теле. Лошадь ласково коснулась знакомой руки бархатистой губой. – Когда перегоняли табун с гор в долину, немцы бросали бомбы в лошадей. Одна бомба разорвалась перед Хуарой, опалив ей глаза. Оба вытекли… Все равно она у нас лучшая конематка. Только не повезло ей в этом году. Погиб жеребеночек. Вот и плачет мать, ждет сыночка своего. Умница!
До войны на Хуаре ездил зоотехник, живший в двух десятках километров от формы. Утром табунщики седлали Хуару и отпускали без седока. Она шла сама и останавливалась у ворот зоотехника, спокойно ожидая, пока тот выйдет. Вечерами зоотехник, подъехав к дому, отпускал лошадь. Скажет: «На ферму», – Хуара послушно поворачивает назад и возвращается в свое стойло.
Ослепшую Хуару продали колхозу в Ставропольском крае. Там на ней возили воду для тракторной бригады. Лошадь все время была в упряжи. Однажды ее отпустили пастись на ночь. Никто не думал, что она может уйти. Утром хватились – нету слепой кобылицы. Думали – волки задрали. Костей, крови нигде не было. Пошли по балкам – тоже ничего не нашли. Увели, решил водовоз, и успокоился. Хуара необъяснимым чутьем через степи, балки, реки, десятки деревень нашла путь к своей конеферме. Сколько дней она шла, неизвестно, но три сотни километров отмахала, ничего не видя. Табунщики как раз были на мосте, когда она заржала, остановившись у этого самого домика. Дескать, вот я пришла, не хочу, чтобы меня продавали. Бока ввалились, шерсть слиплась, ноги еле двигались, но вернулась домой!
Табунщики, чувствуя себя виноватыми перед Хуарой, поклялись никогда с ней не разлучаться. Ее держали в стойле, лишь иногда запрягали в двуколку, чтобы съездить в колхоз за продовольствием или в лес за дровами. Берегли, холили кобылицу.
Весной Хуара ожеребилась. Жеребенок был всеобщим любимцем. Его кормили из рук, поили родниковой водой. Но однажды случилось несчастье – жеребенок вместе с травой съел по неопытности ядовитые листья дурмана. К несчастью, на ферме никого не было в тот момент, когда он, лежа на боку, в муках рыл копытами землю. Слепая мать чуяла беду, плакала, тихо ржала, зовя людей на помощь. Кто знает, может, жеребенок бы и выжил, если бы пососал материнского молока. Он силился встать, но сил не хватало. Вечером, когда табунщики вернулись на ферму, жеребенок был мертв.
С тех пор Хуара не знает ни радости, ни покоя…
– Нету худа без добра, – сказал Оришев, видя, что Нарчо готов расплакаться, – Айтек никакой ядовитой травы на пастбищах не оставил. Всю выдернул с корнями. Ну, правда, схитрил при этом.
Айтек Оришев положил в переметную суму с десяток поллитровых бутылок, наполненных родниковой водой, и одну или две – с водкой. Приторочил к седлу охапку подсушенного дурмана и отправился «в поход». Доехал до самого Кавказского хребта и начал с дальних конеферм, разбросанных по ущельям. Айтек даже родного отца не посвятил в свой замысел, – хотя, быть может, отец подсказал бы ему лучший способ достижения цели. Айтеку хотелось искоренить зло, которое загубило славного жеребенка. Ему казалось, что он в ответе за горе кобылицы, за ее слезы.
На высокогорных пастбищах особенно ценили гостей: там они очень редки.
– Ябляга! Откуда путь держишь, Айтек? – приветливо встречали Оришева-младшего табунщики из разных колхозов.
– Да будет у вас много гостей. Не могу остаться. Тороплюсь домой, – отвечал Айтек с озабоченным видом. – И так задержался в Кисловодске…
Он останавливался на каждой ферме, уверяя при этом, что времени у него ни капли, и лишь особое уважение заставляет его сойти с коня именно здесь. У табунщиков разговор почти всегда об одном и том же – о лошадях, о жеребятах, жеребцах. Но Айтек явился с новой темой. Он просил только держать услышанное в тайне. Все будут знать – отобьют хлеб. Как бы между прочим, он называл адреса приемных пунктов, которые, конечно, выдумывал.
Табунщики слушали и каждый про себя думал: «Ну-у, уедешь – мы уж постараемся». По словам Айтека, в Кисловодске открыли пункты, где принимают подсушенный дурман (он, дескать, лекарственное растение), дают за него хорошие деньги. Впрочем, можно брать и водкой. В подтверждение своих слов Оришев-младший демонстрировал слушателям горлышки бутылок, торчавшие из переметной сумки.
– А что это за пучок? – спрашивали люди, увидев охапку, притороченную к седлу.
– Не приняли. Корневища оборваны. Надо вялить траву вместе с корнями. Весь смысл, говорят, в корнях. А я, дурак, поспешил, – сочинял Айтек.
Если попадались скептики, то Айтек, откупорив бутылку с водкой, отливал им «по глотку» и отправлялся дальше, заручившись обещанием «беречь дурман – ценнейшее лекарственное растение». После его отъезда табунщики бросались на поиски дурмана, выкапывали куст за кустом – лопатой, топором, а то и кинжалом. За неделю в междуречье не осталось ни одного куста дурмана. «Заготовители» ждали Айтека, который обещал каждому: «Хочешь – я возьму тебя с собой. Жди. Через несколько дней я появлюсь у тебя с навьюченными травой лошадьми. Готовься и ты, но учти – ни слова другим».
Гость смеялся, слушая рассказ о проделках Айтека. Нарчо от восхищения только в ладоши не хлопал. Батырбек вернулся к свадьбе.
– Пора ехать. Прошу тебя, окажи нам честь…
– Как, ординарец? Поедем на свадьбу?
Нарчо всем своим видом словно говорил: «Какой разговор». Правда, он слегка смутился, подумав о подарке, без которого не дадут взглянуть на невесту.
– Как хотите, мое дело – лошади.
– Ну, раз ты «за», что мне остается? Поедем.
Дело принимало неожиданный оборот. Свадьба переходила за «рамки», которые определил Оришев. Он просто думал отдать дань обычаю. А тут вон какой гость пожалует! Теперь обязательно надо послать за Чоровым. А где его искать? Обещал прикатить на ферму. Не прикатил. Не пригласить – кровная обида.
Оришев и Кошроков пошли осматривать конюшни. Как колхоз подготовился к зимовке – видно по ферме. Они шли медленно. В голове Оришева-старшего свадьба уже вытесняла все остальное. Батырбеку послать бы кого-нибудь в аул, да кроме Цухмара никого нет.
– Заспинного бы где-нибудь найти… – Оришев нечаянно произнес эту фразу вслух.
– Это что означает?
Батырбек несколько растерялся, но ответил правдиво.
– Заспинный – по-кабардински «кодза» – человек, который стоит за спиной, то есть заменяет стоящего впереди.
– Верно. Есть такое слово. Кого же ты имеешь в виду?
– Чорова. Он выглядывает из-за спины каждого – первого секретаря, второго, третьего. Один за всех. Един, как бог, в трех лицах.
– Тогда какой же он заспинный: он, скорее, впередсмотрящий, как говорят моряки. Без него с курса свернешь так, что порт назначения не сыщешь.
Батырбек подумал: может, и пришел подходящий момент, чтобы сказать правду о Чорове. Многое можно было поведать о председателе райисполкома. И все же он счел за благо промолчать, чтобы его критика тоже не выглядела «заспинной». Только и проговорил:
– Молод он как руководитель. Конечно, опыт – дело наживное. Но он нахрапом берет, приказами действует. Прямо генерал. Вынесет решение – тотчас рой землю. Вот и роем…
– Как Кулов к нему относится? Поощряет?
Оришев ответил уклончиво.
– Об этом я ничего не знаю. Это для меня сфера недосягаемая. До таких высот даже птицы моих волос не донесут. Подумал и добавил: – Молчит – значит, поощряет. Так надо понимать. Человек высоко сидит, далеко и видит. Кулов же видит Чорова, его дела. Может быть, правда, он не все знает?..
– Хочу надеяться. Я за то, чтобы начальству говорить правду-матку в глаза, не размышляя, знает оно или не знает. Плохо, когда вершителя судеб держат в неведении, но еще хуже, когда он дает втереть себе очки, закрывает глаза на истинное положение дел. – Кошроков внезапно переменил тому: – А соседей своих ты не пригласил?
– Кого именно?
– Я хотел сказать – соседок. – Кошроков улыбнулся, ощутив неловкое чувство. Вопрос мог вызвать подозрения. – Коллегу по должности – Апчару Казанокову. Девушка видная, боевая. Я бы и ее подругу позвал. Тоже боевая. Недаром назначена директором кирпичного завода.
Батырбек понял, что присутствие этих женщин не только украсит свадьбу, но доставит удовольствие Кошрокову.
– Просто не подумал. Исправлю ошибку. Приедем в аул, пошлю и за Чоровым, и за знатными женщинами. Будет свадьба – настоящая! Я-то думал иначе, думал, соберутся двоюродные, троюродные братья – и всё. Теперь придется переиграть – назовем гостей побольше. С приготовлениями справимся. Род Оришевых дружный, многочисленный – все сделают…
– Если я что-то сказал некстати, извини…
– Гость не может говорить некстати. Я просто не хотел широкой огласки. Чем больше гостей, тем дальше слышно музыку. Мне казалось – ни к чему сейчас пышные свадьбы, люди голодают, не каждый поймет, что у меня-то сын один. Скажут: «С жиру бесится председатель». Я ведь клялся на уставе сельхозартели.
– Тогда не надо. – Кошроков решительно поднял руку.
– Апчару я очень уважаю. Толковая. Всего двадцать два, а по уму от матери своей не отстает. Только не любит она Чорова. Ее подруга – того хуже. Встретятся – друг друга буравят глазами. Их души в один кисет не клади – одна обязательно окажется мертвой.
Разговор пришлось прервать на полуслове. Послышался топот копыт, из-за скалы вырвался табун лошадей с отменным гнедым жеребцом впереди. Жеребец шел рысью, как бы любуясь собой. За ним мчались кобылы с жеребятами.
Доти Кошроков замер на месте. Три-четыре косяка – и его завод стал бы выращивать верховых лошадей для армии… За лошадьми мчался рысью и сын Оришева – Айтек, лучший коневод района.
Слепая Хуара, заслышав дробь копыт, вскинула голову. Мордастенький жеребенок подошел к ней, остановился в нескольких шагах. Хуара чутьем угадала, что рядом детеныш, придвинулась к нему, предлагая молоко. Жеребенок понюхал, по запаху понял, что это не его мама, попрыгал и, резвясь, помчался в загон, где его поджидал Цухмар. Приплод в этот раз был отменный: жеребята игривые, смешные, еще покрытые медвежьей шерстью, напоминающие стриженых овец с глазами, похожими на сливы, с лоснящимися черными мордочками. Наиболее любознательные подходили к гостю и смотрели на него. Стоило Кошрокову поднять руку, чтобы приласкать их, – и они со всех ног бросались к матерям. Табунщик загонял жеребят в отдельный вольер, чтобы их не зашибли взрослые лошади.
Подъехал и сам Айтек в черной бурке, в белом башлыке.
– Двадцать семь кобылиц – вся конеферма, – с грустью промолвил Оришев. – До войны – пусть не на полк, но на эскадрона два хватило бы. Скакуны какие были – сказка!
– Сколько всего загублено лошадей? – спросил гость, немало слышавший о потерях колхозного скота в республике. Как погибли лошади Нацдивизии, он знал лучше всех. Об этом не хотелось говорить.
– На пленуме называлась цифра – сорок пять тысяч.
– Целая конармия.
Айтек повесил бурку на столб, к которому была привязана Хуара, деловито подошел к Доти Кошрокову.
– Как удачно вы приехали. Клянусь, лучшего дня не выбрали бы никогда! – сказал он, протягивая гостю свою грубоватую мозолистую руку. Он был высок, строен, быстр в движениях. Загар покрывал обветренное лицо с карими глазами, в которых искрились задор и веселье.
– Да вот стоим с твоим отцом и думаем: ехать на свадьбу или поворачивать оглобли назад, – шутил гость.
– Клянусь, ни одно колесо в вашей линейке не станет кружиться, если не поедете к нам. Как это так – попрать все хабза, все обычаи? Отец, ты что же молчишь?
Батырбек улыбался.
– Я поехал домой. Не прощаюсь. Жду. – Айтек поспешил к своему коню, сел в седло и ускакал. А Кошроков вспомнил юность, времена, когда он участвовал в скачках, устраиваемых во время свадебных торжеств, командовал конным отрядом.
Не раз он несся по скаковой дорожке со скоростью шестьдесят пять километров в час – летел на крыльях, но все равно видел окружающее, следил за соперниками. Однажды случилось вот что: скакун на старте рванул с такой силой, что Доти, который, видимо, расслабился на мгновение, слетел с лошади. Но заезд пошел, фальстарта не дали. Жеребец, оставшись без седока, продолжал скакать как бы по велению жокея, преграждая путь соперникам. Он правильно распределил силы на дистанции и пришел первым.
Это был крек, каких редко встретишь на ипподромах. В жеребце жили спортивный дух, дух соперничества, даже жажда славы. Он «обожал» бурные аплодисменты, музыку, шум на трибунах. Жеребцу давали молоко, овес, яйца, патоку, а иногда даже сухое вино. Доти, который соблюдал диету не хуже балерины, завидовал своему подопечному.
Война застала Кошрокова сотрудником органов внутренних дел. Вскоре он перешел на новую работу, связанную с формированием воинских частей. Уезжая, пошел прощаться прежде всего на конюшню к своему коню, не раз спасавшему его от бандитских пуль, а потом уж к родным и близким…
– Едем? – прервал Оришев воспоминания Кошрокова.
– Да. Поехали.
Линейка покатила в долину.
ГЛАВА СЕДЬМАЯВо двор Оришевых народу набилось гораздо больше, чем ожидал Кошроков. Мужчины, разведя огонь в сарае, кололи дрова, свежевали баранов. Подвесив туши к перекладине, они сдирали кожу деревянным ножом, а то и руками. Им помогали мальчишки, носившие воду, которой обмывали внутренности. По комнатам просторного дома, крытого черепицей, сновали женщины. Из двери и окна небольшого прямоугольного флигеля, служившего летней кухней, валили пар и дым. «Все-таки зря я приехал на эту свадьбу, – казнился уполномоченный, – в конце концов, я здесь не в гостях, а в командировке».
Сгустились сумерки; в наступавшей мгле тонули горы, деревья, дом. Кошроков подумал о хозяине. С первой встречи понравился ему Батырбек своим чистосердечием, прямодушием. А к Чорову он испытывал теперь откровенную неприязнь. Все, что довелось услышать о председателе исполкома, настроило его в высшей степени недружелюбно. Таить же свои чувства комиссар не привык.
Но Кошроков не жалел, что выбрал именно Чопракский район. Он сразу заявил: «Поеду в отдаленные места». Тем более эти места связаны с его фронтовым другом Локотошем. Дай бог, чтобы район успешно выполнил план по поставкам молока и мяса, собрал неплохой урожай кукурузы. Тогда уполномоченный будет рад доложить обкому, когда придет срок, об успешном выполнении своей миссии. Как-никак, это очень важная операция, от ее успеха зависит и репутация полковника. Затребует ГлавПУР характеристику на Кошрокова перед тем, как подобрать для него новую должность, – Зулькарней Кулов напишет: выполнил план. Доти Матович усмехнулся, поймав себя на том, что все время думает об одном и том же. Тщеславие?
Нет, не тщеславие, – его одолевает желание скорее вернуться на фронт. Кукуруза – это все же не для него…
Размышления Доти Матовича прервал появившийся Оришев.
– За невестой уже послали? – спросил Кошроков без всякой задней мысли. Если не послали, то его линейка в распоряжении Оришева. Раньше полагалось невест привозить в фаэтоне и в сопровождении полусотни всадников. Среди них многие были с винтовками, будто в пути им предстояло отразить нападение. Кстати, случалось и отражать…
Батырбек не знал, как ответить. Выдержав паузу, он все-таки признался:
– Невеста давно здесь.
– Ах, даже так! Оперативно действует жених.
– Это не жених. Это я действовал.
Кошроков не понял, что значат произнесенные слова. По каменным глыбам, и здесь заменявшим ступеньки, он поднялся на застекленную веранду, – вернее, когда-то застекленную, потому что теперь почти все стекла были выбиты. Как почетного гостя его провели в самую большую комнату, где уже сидело несколько человек. Доти с каждым поздоровался за руку. Два старика усадили его на кровать и сами взгромоздились рядом, по обе стороны. Один из них был Цухмар. Когда он успел примчаться сюда на слепой кобыле?
Вскоре комната уже была набита людьми. Яства подносили из кухни, а затем передавали из рук в руки над головами сидевших за пиршественным столом. Чего тут только не было: отварная птица, нарезанная ломтиками паста из пшена, румяные лакумы, чесночный соус, сыр, овощи, фрукты… На подоконнике высилась тарелка с головой барана, которую по ритуалу предстояло разломать руками на части.
– Батырбек, ты мне объясни: как это ты «действовал»? – вспомнил вдруг Доти Матович.
– Я привез невесту. Сына-то здесь не было…
– Первый раз слышу! – Гостю это показалось невероятным. – В наше время отец ездил за невестой для сына, которого даже дома нет! Такой обычай существовал, но в старину, очень давно.
– Главное не в этом. Главное – невеста отменная. Батырбек правильно сделал, что не упустил ее, – заговорил старый Цухмар, очень довольный, что занял почетное место рядом с Доти. – Замешкайся Батырбек – она бы разводила огонь в другом доме.
В комнате появился человек, одетый по-городскому, в костюме с галстуком, правда, не слишком удачно подобранным, с копной черных волос на голове, крупными, выразительными глазами. Учитель или врач? Оказалось, это директор средней школы. Он сел против Кошрокова.
– Нет, но как же Оришев все-таки позволил себе нарушить обычай? За невестой в крайнем случае должны ехать друзья жениха.
– Разве он живет по обычаю? Не знаете вы Оришева! – заговорил директор школы. – Он и к постановлениям относится, как к обычаям, – творчески. Иначе бы ему не поставить колхоз на ноги! И школа наша из руин – первая в районе! – поднялась, благодаря его помощи.
– Тем более интересно!
– Коли интересно, расскажу. – Оришев провел рукой по усам, как бы вспоминая, с чего все началось. В ауле до мелочей знали эту историю. Батырбек начал, но каждый считал своим долгом добавить что-то, уточнить. Вспыхивали споры. Гости вскакивали с мест, перебивали друг друга, Оришев по праву хозяина требовал, чтобы ему не мешали, и все равно его перебивали каждую минуту. Тогда Цухмар не выдержал:
– Не спросить ли нам самого виновника – Айтека?
– Какой он виновник? – Айтеку разжевали сладенькое да в рот положили. Где он был, когда ему невесту привезли?..
В этот момент в соседней комнате зазвучала музыка. Свадьба набирала силу. В комнату, где шел пир, втолкнули Нарчо. Он, взволнованный, возбужденный, упирался. Цухмар, сидевший рядом с Кошроковым, неторопливо, с достоинством приподнял свой стаканчик. Виночерпий мигом наполнил его. Цухмар поставил стаканчик на тарелку, положил туда же кусочек курицы, протянул «ординарцу». Нарчо поклонился Цухмару, молча принял угощение и замер в ожидании тоста.
Кошроков пытался возразить: нельзя мальчику наливать спиртное. Старик и слушать не хотел: «Гость младшим не бывает. Особенно такой – стремянный дорогого человека». Потребовав тишины, тамада заговорил:
– Знаешь ли ты, что в старину опытные джигиты доверяли своих коней только самым чутким, храбрым и умным парням? Тебя избрал стремянным наш почтенный гость, именитый человек. Будь, сынок, достойным его! Оправдай его надежды.
Раздались голоса:
– Да будет так!
– Амин!
– Клянусь, нам радостно видеть тебя – кость рода Додоховых. Дом твоего отца, Нарчо, стоял на видном месте. Но солнце отпустило ему мало света и тепла. Да прибавит тебе аллах и те годы жизни, что не прожили твой отец, твои мать, сестра… Будь продолжением рода. Да приумножишь ты все то хорошее, чем славился дом Додоховых. Прими, сынок, эту чарку и осуши ее.
Все притихли. Нарчо держался мужественно, только рука его дрожала и водка выплескивалась на пол.
– Да будет солнечно-белой твоя старость, – сказал он, с трудом преодолевая волнение. Поднес стаканчик к губам, но смог сделать лишь глоток, – закашлялся, сморщился. Виночерпий мигом долил стопку. Нарчо вернул полный стакан тамаде, как того требует обычай. Курицу он ел со слезами умиления на глазах.
– Молодец, Нарчо! – похвалил комиссар. – А теперь позови нам Айтека.
Нарчо был рад, его освободили. Но такой тост – это же награда на всю жизнь! Теперь он может считать себя взрослым. Нарчо побежал исполнять поручение. Вскоре на пороге появился Айтек, молча встал у двери в ожидании распоряжений тамады.
– Дорогой Айтек! – ласково сказал Цухмар. – Наш почетный гость, добрый друг Батырбека, хочет узнать историю твоей женитьбы. Гость ничего не знает. А я, клянусь, готов выслушать ее сто раз.
– Калым давал, честно скажи? – Лицо директора школы расплылось в улыбке. Кошроков заметил, что правый глаз у него искусственный, понял, отчего этот молодой мужчина не на фронте. – У невесты мать такая, что без калыма с ней не договоришься. Скажи, дал?
– Где ж мне взять? У меня и денег нет.
– Так мы тебе и поверили. Два миллиона за хребет отнес, а себе и рубля не оставил, – шутил директор школы. Когда он приехал сюда, от школы почти ничего не осталось. Одни развалины. За два месяца он узнал весь аул, со всеми подружился и многое сделал для своих маленьких питомцев. Без веселого, остроумного Аслана не обходилось ни одно застолье.
Между тем свадьба Айтека имела свою, довольно любопытную историю.
После изгнания гитлеровцев воскресли некоторые старые обычаи. Перед войной все уже забыли, как умыкают девушек да и выплата калыма стала редкостью. Теперь же обнищавшие родители требовали плату за дочь-невесту, требовали скот и деньги. Жениху, которому неоткуда было достать требуемое, приходилось тайком увозить возлюбленную.
Похищение грозило и сельской библиотекарше Данизе. Даниза, погрузив на бидарку ящики с книгами для форм, бригад и полевых станов, разъезжала по долине. Айтек познакомился с ней перед самой войной. Отец одобрил его выбор. Началась война, и Батырбек решил поскорее сыграть свадьбу: не сегодня-завтра Айтек уйдет на фронт, и он хотел, чтобы сын уехал женатым. Глядишь – родится наследник, продолжение рода. Но гитлеровцы оккупировали республику, и жизнь словно прекратилась. В памятный день отец и сын, спасая государственные деньги, хранившиеся в банке, взвалили на плечи по мешку, подались за хребет к своим. Слава богу, удалось спасти народное добро. На пути их не однажды подстерегала опасность. Обошлось.
Батырбек вернулся к мирному труду раньше сына. Айтек, воевавший в партизанском отряде, после изгнания оккупантов оказался в специальном соединении по борьбе с бандитизмом. Бои в горах вспыхивали то тут, то там. Гитлеровцы подбрасывали своим приспешникам подкрепление – вооружение, боеприпасы. Преследуя врагов, Айтеку не раз приходилось снова уходить далеко за хребет: иные бандиты пытались бежать в Турцию.
Айтек воевал в горах, а жизнь в ауле текла своим чередом. После ухода отца на войну Данизе пришлось оставить библиотеку и идти птичницей на колхозную птицеферму, где работала ее мать. Тут им голодная смерть не угрожала: яйца, да и куры, утки… Председатель берет себе помногу, Мима – понемножку.
Батырбек не забывал о девушке. Забьет барана – отложит кусок для Данизы: «Доля невесты». Попадется на базаре хорошая ткань – не преминет купить, отослать Данизе, чтобы помнила об Айтеке.
Однажды Батырбек сам сделал большую сапетку из прутьев и отвез ее будущей теще сына – для хранения кукурузы. Корзину он сделал добротную – на три-четыре воза кукурузных початков.
– Что это – в счет калыма? Мы так не уговаривались! – протестовала Мима, худая, как жердь, бледнолицая, остроносая. Она уже не хотела связывать себя с Оришевыми. На это у нее появились свои соображения. Ушей Батырбека тоже коснулся кой-какой слушок. Поэтому будущий сват особенно настаивал на своем.
– Не хочу, чтобы невеста голодала. Увянет.
– Это не твоя забота. Она еще не стала хранительницей огня в твоем очаге. Не ходи в мечеть раньше пятницы, все равно муллу не застанешь.