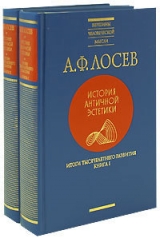
Текст книги "Итоги тысячелетнего развития, кн. I-II"
Автор книги: Алексей Лосев
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 42 (всего у книги 115 страниц)
Тут же с огромной мощью возникает тенденция так или иначе определить достигнутые пределы объективности и субъективности, что и привело к возникновению философии Сократа, Платона и Аристотеля. У Сократа подготовительно, а у Платона и Аристотеля окончательно отождествляются натурфилософия досократиков и антропология софистов и Сократа. Объективный мир хотя и продолжает здесь противополагаться субъективному миру, тем не менее то и другое уже вступает в существенный синтез, и возникает понятие идеи как именно синтеза субъекта и объекта. Но, во–первых, этот синтез назревает не сразу. У Платона он представлен слабее, то есть является только"идеей вообще", но Аристотель уже прямо учит о космическом уме как о синтезе мыслящего и мыслимого. Таким образом, в лице Аристотеля общеантичная прекрасная скульптурно–человеческая индивидуальность представлена достаточно ясно. Однако, во–вторых, – и тут Гегель не всегда выражается ясно, – и Платон и Аристотель все же не могут преодолеть основного общеантичного дуализма. И это потому, что их идеи, – у одного более изолированно от космоса, а у другого более внутренне для него, – все же остаются только абстрактной категорией, которая не в силах охватить всю материю и природу целиком и предполагает материю как самостоятельную субстанцию, подвергающуюся оформлению, но в бесформенном виде все таки остающуюся самостоятельной субстанцией, такой же вечной, как и сам мир идей.
Тут необходимо во что бы то ни стало добиться полной ясности предмета, далеко не везде присутствующей у Гегеля и часто затемняемой чересчур сложной и многозначной терминологией. Но эта ступень, от Фалеса до Аристотеля включительно, не только абстрактна с точки зрения общеантичной скульптурно–прекрасной и человечески–телесной индивидуальности. Эта ступень является также и ступенью всеобщих категорий. Эти натурфилософские, антропологические и спекулятивные категории охватывают собой решительно все. Они пока еще мало и плохо индивидуализируются и оставляют без внимания внутреннюю сторону человеческой индивидуальности, каковая сторона у софистов предстала в чересчур ограниченном виде. Между прочим, понятийная сущность всего этого абстрактно–всеобщего периода греческой философии формулирована у Гегеля достаточно ясно ("История философии", т. IX, с. 138 – 140). Однако нельзя сказать, чтобы столь роскошно формулированная у Гегеля"прекрасная индивидуальность"везде проводилась у него достаточно четко и определенно. Местами она совсем не упоминается, и как раз особенно в анализе неоплатонизма. Конечно, само собою ясно, что эта абстрактно–всеобщая ступень философии по исчерпании всех своих категориальных возможностей необходимым образом требовала перехода в свое иное.
2) Этим иным явилось то, что Гегель называет римской ступенью античной философии, имея в виду окончательные формы тогдашней философии, ступень, которую мы теперь именуем эпохой эллинизма, или эллинистически–римскойэпохой. Здесь господствуют уже не абстрактные категории, но конкретные и не всеобщие, но единичные. Возникает философия конкретной единичности, которая, конечно, тоже вовсе еще не есть исчерпание общеантичной прекрасной индивидуальности, а опять таки одна из ее сторон, которая тоже для нее необходима. Стоический и эпикурейский мудрец имеет здесь своей основною целью охранение внутреннего покоя своей личности, которого не должна нарушать никакая внешняя жизнь, никакие ее случайности и никакие доставляемые ею страдания и несчастия, как, впрочем, и никакие радости и счастливые состояния. Стоический, эпикурейский и скептический мудрецы отбросили все внешнее, что мешало бы покою их личности. Они тверды, непоколебимы и бесстрастны. Это не значит, что они не признают ничего другого, кроме себя. Наоборот, они признают все высшие начала: стоики – свой первоогонь, истечением которого является все существующее, включая и самого человека; эпикурейцы – свои атомы, из смешения которых возникает человек со всей его внутренней жизнью; и, наконец, скептики – весь окружающий их мир, о котором они не хотят ничего знать, мыслить о котором они не считают возможным и подчиняться которому они считают для себя необходимым, и тоже только в целях охраны своей субъективной бесстрастности. Можно ли сказать, что тот античный дуализм, о котором шла у нас речь выше, в эту эпоху раннего эллинизма преодолен и уничтожен? На этот раз Гегель с неопровержимой ясностью доказывает наличие здесь полного дуализма. Не обращать внимания на внешний мир – не значит его преодолевать. А стоически возводить себя к первоогню и считать себя его эманацией тоже не означает преодоления стихийных сил природы, потому что эти последние являются тоже результатом эманации первоогня, хотя отдельная конкретная личность и находится с ними в конфликте.
Заметим, однако, что анализ этого философского периода у Гегеля тоже весьма перегружен сложнейшей терминологией, которую мы сейчас и постарались упростить при помощи проводимого у нас здесь комментирующе–интерпретирующего метода. Гегель ("История философии", т. X, с. 319 – 325) исходит здесь из того, что у Платона идея дана только в общей форме, а у Аристотеля – уже как самосознание (тут, очевидно, имеется в виду учение Аристотеля о нусе–уме). Но это самосознание все еще абстрактно, поскольку самосознающий нус у Аристотеля приводит в движение весь космос как бы извне. И космос у обоих великих мыслителей периода греческой классики поэтому логически еще не выводится из надмирного нуса–ума. Чтобы понять эту логику, нужно было соответственно углубить и проблему самосознания идеи. А это на первых порах и происходит только в пределах единичной человеческой личности, которая поэтому все еще не может преодолеть окружающей ее природы и потому чувствует себя пока дуалистически. Так можно было бы, – пусть ценою некоторого упрощения, но зато с достижением достаточной ясности, – формулировать гегелевский анализ этого периода философии.
3) Наконец, с неоплатонизмом, по Гегелю, наступает третья, и последняя, ступень античной философии. Здесь господствуют уже не только абстрактные и не только конкретные категории, а их целостный синтез, дающий возможность конкретной единичности человека подниматься до своей всеобщей значимости и свою абстрактную отъединенность преодолевать восхождением к идеальному миру. Здесь Гегель, к сожалению, не употребляет термина"миф". Но единственный способ понять диалектику Гегеля в этом месте – это трактовать и человека, и весь космос, и богов именно как царство мифологии, потому что только в мифологии идея во всей своей субстанции дана материально, то есть в виде чуда; и только здесь материальное, оставаясь материальным, превратилось из конкретной единичности в абстрактную всеобщность, или, вернее, стало этой абстрактной всеобщностью, то есть опять таки чудом, а точнее сказать, теургией. Таким образом, неоплатонизм является не чем иным, как диалектикой мифологии.
И опять таки мы должны себя спросить: является ли это окончательным преодолением формулированного у нас выше общеантичного дуализма? Здесь Гегель допускает множество разного рода неясных выражений, которые мешают в отчетливой форме представить себе разницу между языческим неоплатонизмом и назревающим в те же самые века христианством. Несомненно, конкретная единичность человека, ставшая или, по крайней мере, могущая стать абстрактной всеобщностью, и притом по самой своей субстанции, – это действительно последний и самый великий синтез античной философии. Но ведь то же самое, согласно неоплатонизму, происходит и в природе. Природа тоже представляет собою иерархию восхождения от изолированных конкретных единичностей к своей абстрактной всеобщности и на высших своих ступенях, а именно в космосе как в целом, даже и становится этой абстрактной всеобщностью. Мало того, абстрактная всеобщность идеи или духа в результате своего перехода в свое инобытие, то есть в область бесчисленных конкретных единичностей, тем самым противопоставляет себя им, то есть достигает, своего самосознания. Тот дух или та идея, которыми жила античность, достигли здесь своего самосознания; и тем самым тот абсолют, который был дарован античности, впервые только здесь достиг своего самосознания и, значит, завершил все доступные ему формы развития. И это абсолютное самосознание, согласно основным взглядам неоплатоников, одинаково свершается и внутри человеческой индивидуальности, то есть субъективно, и внутри самой природы, то есть объективно, со всей иерархией ее интеллигенции, начиная от низших неодушевленных, одушевленных и разумных форм и кончая чувственно–воспринимаемым космосом, который является не чем иным, как универсальным, живым и разумным существом, то есть прекрасной индивидуальностью, но данной уже универсально, в предельно обобщенном виде. Человек доходил до умопостигаемого мира, который был своего рода вселенной в боге, а чувственная материя и природа доходили до универсального чувственного космоса. Казалось бы, здесь мы и должны были находить окончательный монизм, который был Гегелю так необходим при конструировании им античной прекрасной индивидуальности, одинаково материальной и духовной, одинаково человеческой и божественной, одинаково реальной и скульптурной. Но Гегель на этих своих страницах из"Лекций по истории философии"как раз и забывает о той прекрасной индивидуальности, которую он так убедительно сконструировал в других своих трудах и которая была основана только на ограниченной природе духа, скованного материальным началом, и только на ограниченной материи, тоже скованной ограниченно понимаемым духом. При всем монизме прекрасной индивидуальности последняя в других трудах Гегеля предполагала совершенно непреодолимый дуализм абсолютного духа и абсолютной материи. Но как раз об этом то самом Гегель и склонен забывать в своей формулировке основ неоплатонизма. Ведь как ни едины природа и дух в неоплатонизме, все же по самой своей субстанции они друг другу внеположны. И поэтому тот дуализм абсолютного духа и абсолютной материи, который монизмом прекрасной индивидуальности не только не уничтожался, а, наоборот, необходимейшим образом предполагался, очевидно, и здесь, в неоплатонизме, остается совершенно нетронутым.
Необходимо сказать, что изложение неоплатонизма у Гегеля в этом смысле страдает глубокими неясностями, так что изображаемый им языческий неоплатонизм, собственно говоря, с большим трудом отличается от христианства.
Итак, неоплатонизм дуалистичен именно потому, что он основан на модели прекрасной и скульптурной индивидуальности, являясь в этом смысле вполне античной философией, но только додуманной до своего последнего категориального конца. Но сказать, что Гегель в этом отчетливо разбирается, никак нельзя ("История философии". т. XI. М. – Л., 1935, с. 11 – 76, особенно с. 11 – 22).
6. Положительное у Гегеля
Вопреки традиционному для времен Гегеля пренебрежению к античному неоплатонизму, вопреки коллекционерскому и, самое большее, внешне описательному его толкованию как беспринципного эклектизма в связи с религиозным синкретизмом времен неоплатонизма, вопреки – тоже традиционному – сведению неоплатонизма к теории чудес, пророчеств, магии, теургии, вопреки пониманию этой величайшей четырехвековой философской школы как проповеди фантастических вымыслов и бессодержательных сказок и, наконец, вопреки абстрактно–метафизическому и антиисторически мыслящему просветительству, Гегель впервые во всей философии Нового времени стал трактовать античный неоплатонизм как 1) строжайшую философскую теориюсо своим специфическим принципом и со своим оригинальным систематическим построением. Античный неоплатонизм для Гегеля не мир обманных мистификаций, но определенного рода новое и небывалое философское качество, или, точнее, понятие, поскольку для Гегеля понимать какой нибудь предмет это и значит создавать понятие данного предмета.
2) Свой историзм, понимаемый им как диалектическое развитие от абстрактного к конкретному, Гегель в самой интенсивной форме применил и к неоплатонизму, который и сам возникает для него как результат диалектически–исторической необходимости, и внутри себя тоже проходит путь определенного исторического развития.
3) Диалектическая необходимость, исторически порождающая собою последнюю, то есть неоплатоническую, конкретность античного мышления, состоит, по Гегелю, из диалектического слияния периода объективно данных абстрактно–всеобщихкатегорий (физические стихии досократиков, абстрактная субъективность софистов, а также абстрактные идеи и формы Платона и Аристотеля) и периода конкретно–единичныхкатегорий эллинизма, который у Гегеля носит название римского периода. Гераклитовский и демокритовский мудрец абстрактен потому, что он бессилен перед бесконечной громадой объективных свершений космических переворотов. Но и стоический или эпикурейский мудрец, хотя он уже и считает себя эманацией объективных свершений, творящих в недрах космоса, тоже абстрактен и только стремится уйти в себя перед лицом космических катастроф, бесповоротно оградить себя от них и сохранить только свой внутренний покой, невозмутимость и бесстрастие. И только в неоплатонизме, рассуждает Гегель, мудрец доходит или может доходить до состояния абсолютной идеи, уже не боящейся никаких объективных катастроф. Здесь мудрец доходит или может доходить до идеи в ее абсолютном существовании и прежде всего в ее самосознании. Здесь абстрактность и конкретность, а с другой стороны, всеобщность и единичность слились в одно нераздельное целое.
4) Природа (а в основе, значит, и материя) тоже представлена в неоплатонизме, как учит Гегель, в виде иерархии космической интеллигенции, начиная от неодушевленного мира и кончая космосом в целом. Здесь объективно происходит тот же диалектический процесс, что и, как указано у нас выше, в человеческом субъекте.
5) Для этого слияния абстрактного и конкретного, или всеобщего и единичного, или объективного и субъективного, в одном единораздельном спекулятивном потоке мысли неоплатонизм, по Гегелю, мыслит только диалектически, а мы бы к этому прибавили – и спекулятивно–диалектически, что буквально и соответствует неоплатонической терминологии относительно умного восхождения к умопостигаемому миру идеи. Но, рассуждая об иерархии интеллигенции в природе, Гегель уже не употребляет термина"миф", хотя это всеобщее разумно–одушевленное конструирование космоса и есть не что иное, как мифология. К сожалению, Гегель не называет весь неоплатонизм диалектикой мифологии, но такая терминология максимально соответствует тому, что фактически мы находим в подлинных текстах как у самих неоплатоников, так и в изложении неоплатонизма у Гегеля.
Эти пять пунктов неоплатонизма как точнейшего историко–философского понятия Гегель формулировал с необычайной ясностью и простотой, и в этом проявилась его ничем и никем неопровержимая гениальность как историка философии.
7. Критика ошибок Гегеля
Вместе с тем, однако, несмотря на свое объективное отношение ко всем изображаемым у него культурам, Гегель все же оставался сыном своего времени и был одним из вождей немецкого идеализма со всеми присущими этому последнему преимуществами и недостатками.
1) В своем изображении неоплатонизма Гегель не больше и не меньше, как вполне забыл свое роскошное учение о греческой"прекрасной индивидуальности", то есть об идеально совершенной, но чисто человеческой и, в частности, чисто телесной скульптуре. Где она в неоплатонизме? Гегель здесь не говорит о ней ни слова. Понимать ли это так, что неоплатонизм уже не есть греческое явление, или так, что это все еще остается греческим классическим идеалом, но с примесью каких то иных элементов, – об этом у Гегеля ни слова.
2) Это забвение"классической художественной формы"сбило Гегеля с толку и, ввиду обилия в неоплатонизме утонченнейших мыслительных категорий, заставило его трактовать и весь неоплатонизм как царство чистой мысли. Гегель уже забыл, что классическая художественная форма, по его же собственному учению, вовсе не есть воплощение абсолютного духа в материи, а только воплощение такого духа в материи, который ограничен своими материальными возможностями и вовсе не есть воплощение абсолютной материи, но тоже духовно ограниченной и могущей дорастать, самое большее, только до телесной красоты, но никак не выше того.
Необходимо иметь в виду и то, что абсолютный дух, по Гегелю, простирается для периода классики только до степени осмысления материального факта, то есть он лишен и личностного, и общественного, и исторического развития. И так как абсолютная материя в классическом идеале тоже не дана в своем безграничном развитии, но только постольку, поскольку она необходима для указанной ограниченной идеи, то и она доходит только до того, что максимально совершенно в материальном мире, то есть до живого, разумно одушевленного и прекрасного человеческого тела. Эту свою так роскошно развитую скульптурную"прекрасную индивидуальность"Гегель и забыл в своем анализе неоплатонизма, заменивши ее сложнейшей диалектикой очень тонких и абстрактных, а местами даже и малопонятных логических категорий.
3) Отсюда у Гегеля тройная беспомощность в его анализе античного неоплатонизма.
Во–первых, Гегель плохо понимает то, в чем неоплатонизм является монизмом и в чем он является неискоренимым дуализмом. С точки зрения общегреческой прекрасной индивидуальности античный неоплатонизм, конечно, есть монизм. У неоплатоников монистичен и идеальный мир, представляющий собою особого рода упомостигаемую вселенную или, так сказать, природу в самих богах, почему эти боги и являются традиционными греческими прекрасными индивидуальностями. Но монистичен у неоплатоников также и космос, являющий собою предельную красоту одушевленно–разумной, но в то же самое время чувственно–телесной материи, то есть тут опять торжествует исконная скульптурно–телесная прекрасная индивидуальность, только доведенная до своего предела. Однако с точки зрения духа, понимаемого в его безграничном и чисто духовном бесконечном саморазвитии, и с точки зрения материи, взятой тоже как абсолютная субстанция и тоже со своим безграничным развитием (не только до степени красоты, но и выше), античный неоплатонизм, безусловно, является дуализмом.
Мудрое и богатое изложение неоплатонизма у Гегеля изобилует в этом отношении многочисленными путаными и противоречивыми суждениями. То материальная действительность является у Гегеля истечением"мирового духа"или"абсолютной идеи"; но тогда все существующее является только единой субстанцией, хотя и построенной иерархически, то есть тут перед нами самый обыкновенный пантеизм, с которым трудно объединить слишком возвеличенный у Гегеля неоплатонический ум. То дух и материя являются у Гегеля двумя исключающими друг друга субстанциями, что противоречит основной древнегреческой модели прекрасной скульптурно–человеческой индивидуальности. Кроме того, это противоречит и неоплатоническому учению о первоедином, представляющем собою сконцентрированное в одной нераздельной точке единство всего материального и всего идеального. Панлогизм не помешал Гегелю понять то, что материально–ограниченный дух и духовно–ограниченная материя создавали художественную и скульптурно–данную прекрасную индивидуальность. Но панлогизм помешал Гегелю понять, что также и безграничный дух, диалектически сливаясь с безгранично–творческой материей, тоже требовал для себя своей собственной"прекрасной индивидуальности". В анализе неоплатонизма у Гегеля не учтено то, что такое эта новая специфическая и диалектически нерасторжимая индивидуальность (конструированием которой были заняты уже послеантичные культуры), и поэтому античный неоплатонизм навсегда остался для Гегеля абсолютным дуализмом.
Во–вторых, философские категории, которыми оперирует Гегель в своем анализе неоплатонизма, отличаются весьма стабильным, весьма неповоротливым и метафизически дискретным характером. Им не хватает того живого становления, о котором Гегель так прекрасно рассуждает в других своих сочинениях, так что остаются невидимыми и несформированными те бесконечные промежуточные звенья между соседними категориями, которые всему неоплатонизму придают такой живой и трепещущий характер. Без этого немыслимо было бы как существование неоплатонизма в средние века, так и его возрождение в эпоху Ренессанса.
И, в–третьих, хотя Гегель формально и говорит о присущем неоплатоническому первоединому превышении даже всех идеальных сущностей, тем не менее первоединое все же является у Гегеля результатом мышления и теряет характер концентрации всего материального и мыслительно–идеального в одной неделимой точке. Это мешает Гегелю понять не только сущность субъективных восхождений, проповедуемых в неоплатонизме, но и правильно сопоставить языческий неоплатонизм с христианским монотеизмом. Этой путаницей языческого неоплатонизма и христианства особенно отличаются с. 14, 15 и 45 его"Истории философии"(т. XI).
4) Отсюда и не может проистекать у Гегеля той специфической особенности неоплатонизма, которая единственно только и могла бы помочь Гегелю понимать ограниченность того псевдоабсолютного духа, который был присущ Древней Греции, а именно, понимать внеличностный, внеобщественный и аисторический характер древнегреческого духовного развития, оставшийся незыблемым также и для неоплатонизма. Если бы Гегель всерьез исходил из прекрасной индивидуальности как из основной модели всего античного мира, то он бы понял, почему эта прекрасная скульптурная индивидуальность, ставящая такие узкие пределы для абсолютного духовного развития и для разумного осознания всего существующего, самым необходимым образом связана с учением о судьбеили об окончательной, но вполне иррациональной силе всех космических свершений. Понять, что эта античная скульптурная индивидуальность, вера в судьбу, неоплатоническая проповедь духа как предельного самосознания и проповедь умного и сверхумного восхождения, а также и иерархия интеллигенции в природе являются одной и той же идеей, – понять это на основах своей абсолютизированной понятийной методологии Гегель никак не мог.
5) Короче, можно сказать, что весь провал анализа неоплатонизма образуется у Гегеля на почве непонимания того, что развитый субъект и развитый объект дают в своем диалектическом синтезе категорию личности, которая как самосознание есть субъект, но которая в то же самое время и есть нечто реально существующее, то есть объект. Диалектический синтез ограниченного духа и ограниченной материи в одной единой и нераздельной, скульптурно–данной"прекрасной индивидуальности", – это Гегель понял гениально. Но что также и"абсолютный дух"и субстанциально отличная от него"абсолютная материя"тоже требуют для себя такой же абсолютной личности, но уже не просто скульптурной и не просто прекрасной, – это Гегель никак понять не мог. Отсюда и частая путаница у него в анализе неоплатонизма и даже прямое противоречие. Понять же личность, а следовательно, и общественность и весь историзм в свете этого абсолютного синтеза, над которым так бесплодно бился неоплатонизм, – это было не под силу Гегелю, превращавшему все на свете только в мышление понятиями. Что у Гегеля в этой области вполне понятно – это переход абсолютного духа,"безжизненного и одинокого", в свое инобытие и в самоотрешение, при помощи которого он только и приходит к своему самосознанию, возвращая это инобытие к себе же самому и тем самым впервые достигая абсолютного самосознания («Феноменология духа», т. IV. М., 1959, с. 432 – 434). Но эта понятность дается нам дорогой ценой. Это есть понятность, возникающая в результате превращения всего живого в абстрактные категории, которыми диалектически мыслим абсолютный дух. При этом такого рода процесс самоотчуждения абсолютного духа и возвращения его к себе же самому не есть ни языческий неоплатонизм, ни христианский монотеизм. Это только логицизм и панлогизм самого же Гегеля.
6) Наконец, при всей чуткости своего отношения к отдельным историческим эпохам, Гегель все таки не понимал подлинных движущих сил истории. И трудно даже себе представить, как он мог бы связать свою прекрасную скульптурную индивидуальность с рабовладением, хотя никто, как он, не дал такой отчетливой диалектики господина и раба, которую мы находим в его"Феноменологии духа"(с. 103 – 106). Гегель не в силах был понять, каким же это образом весь прекрасно сформулированный им глубочайший синтетизм неоплатонической философии только и был возможен потому, что это была не больше и не меньше, как насильственная реставрацияпрежних социально–исторических эпох, давно ушедших в безвозвратное прошлое. Тут тоже Гегель поступал вопреки своему же собственному учению о том, что ни один односторонний момент философского развития никогда не погибает, а сохраняет свою историческую необходимость и истинность навсегда и, следовательно, всегда возможно восстановление этих забытых и раскритикованных моментов в одно единое и нераздельное целое («Философия истории», т. VIII, с. 75). Фактически Платон и Аристотель довольно ярко представлены в анализе неоплатонизма у Гегеля. Пифагорейцы и досократики – уже хуже, а стоицизм со своими эманациями, столь необходимыми для понимания неоплатонизма, почти совсем у него в этом анализе отсутствует.
В качестве бьющего в глаза социально–исторического противоречия у Гегеля можно привести то, что он называет римским периодом античной философии. Фактически под этим он понимает почему то ранний эллинизм, то есть стоиков, эпикурейцев и скептиков. И этому"римскому"периоду он противопоставляет неоплатонизм в качестве окончательного завершения античной мысли. Но неоплатонизм как раз и возник в период расцвета Римской империи, так что вся грандиозность и всеобъемлющий характер его философской системы только и возможны были как логическое построение в связи с обширными горизонтами Римской империи от Испании до Индии. Все греческое здесь было использовано, но оно было расширено до грандиозных размеров, да и политически старая Греция была здесь только глухой провинцией. Можно сказать, что Гегель совсем не понимает, что греческого было в неоплатонизме и что римского.
8. Общий вывод
Если перейти к общим выводам, то необходимо сказать, что логицизм, или, точнее, панлогизм Гегеля, то есть полная и последняя абсолютизация мышления, как помог философу дать такое замечательное и оригинальное понимание античного неоплатонизма в его специфике, так и заставил его внести огромную путаницу во всю эту сложнейшую философскую систему античного неоплатонизма, оторвать его от общеантичных моделей, не разобраться в неоплатоническом дуализме, смешать его с христианством и часто навязывать ему те же самые категории, которые свойственны и философии самого Гегеля, не говоря уже об отсутствии у Гегеля всякого понимания социально–исторически реставрационного характера всего неоплатонизма. Приходится признать с полной необходимостью то наше общее воззрение на Гегеля, которое заставляет нас ставить его с головы на ноги. Гегель понимал материальную действительность как одну из категорий мирового духа, почему она часто и представлялась ему ничтожеством, лишенным своей собственной субстанциальности. Но даже там, где Гегель склонялся к субстанциальной самостоятельности материальной действительности, он не понимал, что все духовное было лишь отражением материальной действительности в тех случаях, когда она доходила до своего собственного самосознания. Однако требовать от Гегеля понимания идеи как отражения действительности, но как такого отражения, которое способно переделывать саму действительность, было бы неблагоразумно и антиисторично.
9. Переход к последующему
После того как мы многому научились у Гегеля, а еще больше того, сумели его критически истолковать, мы можем говорить об отдельных периодах истории античной эстетики уже с употреблением нашей собственной терминологии и с использованием наших собственных историко–философских методов. Основным для нас явится понимание самой эстетики не как системы абстрактных категорий (этой системы, как мы сейчас убедились, не выдерживает и сам Гегель), но как картины общевыразительнойсистемы, когда каждая категория явится для нас принципом в античном смысле слова, то есть как такая категория, которая в свернутом виде насыщена всеми более частными элементами и уже содержит в себе все порождаемые ею частичные моменты. Но такого рода всякий античный принцип и оказывается не просто категорией, но именно выразительно данной категорией. Это и значит, что принцип обязательно содержит в себе в свернутом виде то самое, принципом чего он является, а это и значит, что он есть метод, закон, правило и проблема, которую предстоит решить, но которая в свернутом виде уже разрешена в содержании принципа. Надо разучиться понимать принципы как нечто абстрактное и неправильное. Античный принцип всегда есть метод, закон и проблема текуче–сущностного функционирования той или иной смысловой заданности. Только поняв всю эту выразительную идею принципа и можно понять то, что мы дальше будем говорить о выражении и об основных античных определениях красоты как о выразительных принципах.
§3. Античный термин aisthësis
1. Четвероякая необходимость изучения термина"айстесис"
Общеизвестность и общеупотребительность этого термина сильно повлияла в смысле затемнения его подлинной значимости и в смысле слишком уж обывательского его понимания. Русский перевод этого термина – "чувственное ощущение" – мало о чем говорит. Поэтому его систематическое исследование, как он употреблялся в разные периоды античной философии, является крайне необходимым.
а)Прежде всего возникает вопрос о том, можно ли айстесис считать тем, что греческие философы называют"принципом". Выше в греческом понимании термина"принцип"мы нашли очень много разных моментов, свидетельствующих о богатой смысловой насыщенности соответствующего понятия. И теперь сам собой возникает вопрос, можно ли айстесис называть принципом в подлинном античном значении этого последнего термина. Это важно еще и потому, что рассмотренный нами сейчас Гегель тоже пользуется своими категориями вовсе не как мертвыми и застывшими абстрактными понятиями, но как творчески становящимися и взаимно порождающими структурами. На то ведь Гегель и считается образцом диалектического мышления, хотя это мышление и не стоит у него на твердых ногах, а само пытается быть основой для всякого бытия и для всей действительности. Очевидно, что если айстесис есть принцип в античном смысле слова, то в нем будет очень много всякого рода логических конструкций, но уже, конечно, без гегелевского логицизма и панлогизма. С этой стороны, то есть со стороны принципиальной значимости в античном смысле слова, термин"айстесис", можно сказать, до сих пор почти совсем не изучен.








