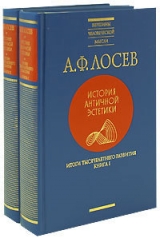
Текст книги "Итоги тысячелетнего развития, кн. I-II"
Автор книги: Алексей Лосев
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 41 (всего у книги 115 страниц)
4. Аристотель
а)Он облегчил для нас исследование термина archë. Именно, в V книге его"Метафизики"мы находим перечисление целых шести значений данного термина. Эти шесть значений А. В. Кубицкий перечисляет в таком виде (в изложении главы I указанной книги"Метафизики"): 1) исходный пункт движения (1012b 34 – 1013a 1); 2) наиболее целесообразная отправная точка (a 1 – 3); 3) исходная материальная основа вещи (a 3 – 7); 4) внешняя первопричина возникновения, изменения или движения вещи (a 7 – 10); 5) усмотрение, определяющее ход дела (a 10 – 14); 6) предпосылки, лежащие в основе познания той или другой вещи (a 14 – 16). Из этого перечня видно, что главную роль принципов Аристотель находит в процессах познания, а в этих процессах самым главным он считает движение и структуру этого движения.
Но если это так, то более выдержанную классификацию аристотелевских принципов необходимо находить в его четырехпринципной характеристике каждой вещи (V 2), поскольку для каждой вещи важны ее материя, ее эйдос, ее причина и ее цель. Отсюда можно сделать вывод, что основных принципов у Аристотеля именно четыре: материальный, эйдетический, причинный и целевой.
Необходимо сказать, что, по существу, такое смысловое разнообразие каждого принципа, который является как бы зарядом множества более мелких делений, можно находить и у досократиков и у Платона. Но у Аристотеля оно дано сознательно и логически обдуманно. Недаром этот термин особенно фигурирует в логических трактатах Аристотеля, которых мы здесь не касаемся.
б)Заметим, что термины"принцип"и"причина"различаются у Аристотеля не очень отчетливо; но это свидетельствует вовсе не о недостатке его аналитической способности, а, скорее, вообще об античной близости этих двух понятий. С одной стороны, Аристотель пишет (V 1 1013a):"О принципах говорится в стольких же значениях, как о причинах". С другой стороны, тут же Аристотель добавляет:"ибо все причины суть начала". А это добавление Аристотеля некоторые комментаторы толкуют в том смысле, что далеко не все принципы являются причинами. В этом заключении комментатор не отличается большой точностью, поскольку среди принципов Аристотель, как мы сейчас видели, перечисляет и многое такое, что, скорее, относится либо прямо к материи, либо к суждениям о материи. Эта недосказанность у Аристотеля объясняется именно тем, что принцип для него вовсе не есть нечто целиком оторванное от подчиненного принципу, но нечто такое, что его определяет и материально, и нематериально, и логически, но не абстрактно–понятийно, а в форме как угодно общей или конкретной осмысленности. Другими словами, и для Аристотеля принцип есть некоторого рода смысловая заряженность, смысловой задаток, смысловой зародыш, смысловая потенция. Да и вообще в античной литературе"причина"и"основание"различаются весьма слабо ввиду всеобщего онтологизма всякого мышления в античности.
5. Стоицизм
У стоиковтоже изначально проводится различие принципа и элемента."Принципы лишены возникновения и гибели, элементы же в связи с процессами воспламенения подвержены гибели". Одни"бестелесны"и"бесформенны", другие же находятся в состоянии оформления (SVF 11, фрг. 299). Разные состояния материи и уж подавно сама"не имеющая происхождения"материя могут рассматриваться как принципы только в том случае, если они установлены при помощи мышления (409). Поэтому принципами являются"действующее"и"страдальное", когда одно – божество, другое же – «материя»в качестве бездейственной сущности (1, фрг. 85). Принцип справедливости – «от бога и общей природы»(III, фрг. 326). Принципы и вообще относятся ко всей высшей области философии (II 156, 9 – 10).
6. Плотин
Плотин, как и Аристотель, тоже сам помогает нам определить, в каком смысле он понимает принципы. Оказывается, что этих принципов у него в основном столько же, сколько и основных ступеней диалектического развития, то есть у него имеются принципы единого, числа, ума, души и вообще жизни, космоса, живых существ, вещей, или тел, и, наконец, материи. Некоторые из этих"принципов всего"он специально перечисляет (III 8, 9, 38 – 40). У Плотина имеется обширное рассуждение о первоедином принципе как о корне, из которого вырастает дерево со всеми своими составными частями, или как о предках в отношении их потомства (3, 7, 8 – 28).
О том, что во главе всех принципов находится у Плотина единоекак"беспредпосылочный"принцип, об этом и говорить нечего, так что трудно даже и перечислить все соответствующие тексты, занимающие у Плотина иной раз несколько страниц (укажем хотя бы на 9, 40 – 54). О числеговорится (VI 9, 15, 34 – 35), что"первичное и истинное число"является"для существующего принципом и источником субстанции"."В отношении умопостигаемых предметов [мы должны помнить, что] если тамошняя жизнь сама множественна, как, например, тройка, то тройка эта, [функционирующая] в живом существе, сущностна (oysiödes); тройка же, еще не свойственная какому нибудь живому существу, но являющаяся вообще тройкой в сфере сущего, есть только принцип сущности (archë oysias)"(6, 16, 47 – 50).
Уму Плотина тоже является принципом, а именно принципом всеобщей упорядоченности, потому что без него все превратилось бы в хаотическую множественность. Но и сам ум есть некоего рода множественность (хотя уже чисто смысловая) и потому нуждается в еще более высоком принципе, который вообще выше всякой множественности. Об этом – обширное рассуждение (8, 17, 9 – 21).
Душатоже является у Плотина принципом, но на этот раз принципом, осмысляющим движение (II, 3, 8, 2; 15, 20 – 21; III 1, 8, 4 – 7). Однако у Плотина есть очень интересное рассуждение о том, что Эрос является результатом принципа души. А эта душа, от которой появляется Эрос, есть результат брака Богатства–Эйдоса и Бедности–Материи. В подобного рода рассуждении, основанном, конечно, на платоновском"Пире", выясняется принцип души как принцип творческой структуры вездесущего становления (5, 7, 15 – 16). Также и вообще вожделение имеет свой принцип в душе (6, 3, 19 – 20). В конце концов, душа есть принцип всякого движения вообще; но принцип собственного движения она имеет в себе же самой, поскольку она самоподвижна, и только порядок и целесообразность производимого ею движения она получает от более высокого принципа, от ума (IV 7, 9, 6 – 16; ср. VI 2, 6, 6 – 8). В этом смысле говорится и о человеческой душе (12, 4). Также и жизнь есть"первичный"и"совершеннейший"принцип всего живого, то есть всего, что относится к жизни (I 4, 3, 38 – 40).
Космос тоже обладает"принципом"и"первичной причиной"всех вещей, существующих в нем (II 3, 6, 19 – 20).
Наконец, свое последнее уточнение понятие принципа получает в тех текстах Плотина, где Плотин критикует стоиков за признание ими положительных и отрицательных принципов и где он утверждает, что принцип чего бы то ни было есть только принцип в положительном смысле конструктивный, так что все плохое, бесформенное, пассивное, безжизненное, неразумное, темное и вообще неопределенное никак не может считаться принципом (VI 1, 27, 1 – 4). Это значит, что материя, если брать ее только с отрицательной стороны, то есть как нечто разрушительное для эйдоса, вовсе не есть принцип. Но, по Плотину, она вполне должна считаться принципом, если, будучи восприемницей эйдоса, она материально воплощает его как некое совершенное произведение. Она есть только становление, только возможность чего бы то ни было и становится злом только в том случае, если сама душа начинает отходить от разума и погружаться в частичное и несовершенное становление (I 8, 4, 12 – 25). В сущности, это есть у Плотина не что иное, как критика стоического материализма.
Необходимо сказать, что принципы, по Плотину, при всем их бесконечном разнообразии по содержанию всегда являются только смысловыми конструкциями. Но это не значит, что нет ничего бессмысленного и внесмысленного. Оно есть, и оно есть материя; но сама по себе взятая материя уже не есть принцип и даже не есть категория, а только более или менее совершенное их становление. Но это не значит, что каждый принцип лишен своего собственного становления и не проявляется ни в чем частном. Это значит лишь, что каждый принцип, взятый сам по себе, ничем не отличается от родового понятия, а родовое понятие уже, во всяком случае, порождает свои виды и индивиды (VI 2, 2, вся глава). Таким образом, то, что Плотин называет принципом, всегда представляет собою нечто в смысловом отношении весьма насыщенное и порождающее из себя множество более частных конструкций. Это мы сейчас должны твердо запомнить, потому что в дальнейшем всю античную эстетику мы как раз и будем рассматривать как логическую систему принципов и проблем.
Однако нам хотелось бы для более точного изложения античной эстетической проблематики коснуться одного мыслителя, который впервые создал грандиозное учение об античной философии именно как о системе логических категорий. Этот мыслитель – Гегель, достижения и ошибки которого в настоящее время должен учитывать всякий исследователь античной эстетики, рассматривающий ее как систему принципов и проблем.
§2. Гегель и история античной эстетики
Здесь мы коснемся сначала общих вопросов, а затем перейдем к частностям.
1. Общая оценка историко–философского значения Гегеля
Большое значение Гегеля для современного понимания античной эстетики, как весьма положительное, так и весьма отрицательное, но, во всяком случае, для современности необходимое, мы сейчас и должны рассмотреть.
Но на основании сказанного у нас выше мы считаем необходимым уже и теперь в кратчайшей форме зафиксировать это значение. Здесь мы хотели бы рассуждать следующим образом.
Поскольку внутреннее и идеальное перестает в античности быть загадкой, какой, по Гегелю, оно было на Востоке, и начинает выражать себя вовне, это значит, что художественным идеалом является для греков телесное, и притом человечески–телесное, изображение богов, то есть прекрасная индивидуальность или греческая скульптура периода классики. В этой конструкции телесной, скульптурной, божественной индивидуальности Гегель непобедим; и та история античного эстетического творчества, которая после Гегеля развивается до настоящего времени, только подтверждает эту основную теорию Гегеля.
Но что интересно для прекрасной скульптурной индивидуальности? Для этого нужно такое слияние идеи и материи, которое было бы совершенством. Идея здесь ни в чем не противоречит материи, а материя – идее. Но можно ли сказать, что идея и материя берутся здесь в своем окончательном и абсолютном виде? Этого сказать никак нельзя. Идея, взятая в абсолютном виде, а не только в том своем природном виде, который был необходим и достаточен для античной скульптурной классики, обязательно есть и личность и общественно–личная структура, обладающая универсальным пределом, обобщенным и никак не превосходимым характером. Но такая структура идеальности была совершенно чужда античным мыслителям. Ведь это же было бы полным монотеизмом, которого не знала языческая античность и который был создан при совсем других социально–исторических условиях, то есть только в период средневекового феодализма. Но вовсе не о таком универсально–личном и неповторимо единственном божестве говорит античная скульптура. Ее боги – вовсе не абсолютные личности, но лишь обобщение и обожествление природных сил и природно ограниченного человека, включая и вообще все несовершенства природы. С другой стороны, также и материя, использованная в античной скульптуре, вовсе не есть абсолютная материя, то есть такая материя, которая сама могла бы стать абсолютом, но материя ограниченная, которая используется лишь в меру необходимости для материализации указанного относительного и ограниченного божества.
Неоплатонизм возник в ту эпоху, когда уже были изучены все отдельные моменты, входящие в идеальную и материальную структуру универсального живого и мыслящего существа, данного в виде чувственно–материального космоса, этой предельно обобщенной античной скульптуры, включая и все достижения восточного архитектурного стиля. Ввиду этого неоплатонизм столкнулся с небывалой раньше в античности проблемой, а именно с проблемой абсолютной идеи, или духа, и абсолютной материи, или космического тела. И вот Гегель думает, что неоплатоники стали разрабатывать теорию уже в самом деле абсолютного духа и абсолютной материи, то есть он понимает неоплатонизм как прямое предшествие христианства.
Но тут великий Гегель совершает великий грех. В формальном смысл античный неоплатонизм действительно дошел до проблемы абсолютного духа. Но фактически и по своему содержанию этот античный и абсолютный дух никуда не шел дальше чувственно–материального космоса, какие бы философские глубины здесь ни открывались. Однако античный чувственно–материальный космос вовсе не есть личность. Он является не чем иным, как обожествлением вполне безличной природы. Следовательно, ни о каком монотеизме здесь, не могло быть и речи. И это делает понятным то, что античные неоплатоники были противниками христианства, считали его атеизмом и писали против него яркие трактаты. Языческий неоплатонизм даже и без всякого христианства, а только сам по себе и в силу исторической необходимости приходил к проблеме абсолютного духа. Но он продолжал понимать его безлично и бездушно. И вот этого то как раз Гегель и не понимает.
Мало того. Гегель не понимает также и того, что даже и монотеизм, как и всякое человеческое мировоззрение вообще, тоже не ограничивается ни абсолютным духом, ни абсолютной материей, а тоже хочет совместить то и другое. Но абсолютный дух, понимаемый как предельно обобщенная личность, единствен и неповторим. А это значит, что и в истории он может осуществиться и воплотиться только однажды. С другой стороны, также и материя должна в этом случае проявлять себя не как античное и вполне бессильное начало, как простой материал и простая возможность для подлинного и идеального бытия, но тоже должна быть способной стать абсолютным духом. Но тогда получается, что предельно обобщенный синтез идеи и материи есть уже не чувственно–материальный космос, а богочеловечество Христа, который есть Бог субстанциально и материальный человек тоже субстанциально. У Платона (Tim. 28c, 37c) чувственно–материальный космос есть сын божий, а в христианстве только Христос есть единственный сын божий. Это богочеловечество в истории образует собою, согласно Новому Завету, исторически данную церковь. Ничего этого Гегель не понимает. И поэтому, как ни замечательно его учение о прекрасной и скульптурной индивидуальности, он все же не понимает того, что неоплатоники вовсе еще не дошли до теории абсолютного духа, а если и дошли, то до такого абсолютного духа, который есть только абсолютизированная природа, но не личность и общественно–историческая структура.
Запомнивши эту общую гегелевскую оценку и всей античной философии и, в частности, неоплатонизма, попробуем теперь сказать об этом поподробнее.
2. Хронология сочинений Гегеля
Как известно, Гегель обдумывал и создавал свою историю философии одновременно с"Феноменологией духа"(1807),"Наукой логики"(1812 – 1816) и"Энциклопедией философских наук"(1817). Впервые этот курс истории философии он читал в 1805 году в Иене, два раза в Гейдельберге (1816 – 1818) и шесть раз в Берлине (1819 – 1830). Впервые этот курс был издан только после смерти Гегеля в 1833 году, и все три тома этих лекций появились в 1840 – 1844 годах. Из этих данных видно, какой огромный интерес был у Гегеля к этому предмету и что он работал над ним не меньше, чем над своими курсами по логике. Его работы по логике и энциклопедии философских наук тоже завершались переходом к истории, всегда бывшей в глазах Гегеля продолжением и осуществлением то ли"абсолютной идеи"в самом конце"Науки логики", то ли абсолютного знания в самом конце"Феноменологии духа", то ли мировой истории, и притом не только главы, об объективном духе, в"Философии духа", то ли всей философии духа. Все эти трудности и глубина изложения, в целях четкого разграничения огромных достижений и огромных провалов философии Гегеля, заставляют теперешнего его излагателя часто прибегать к более простой и легкой терминологии и не воспроизводить в буквальном смысле замечательного текста произведения философа.
В отношении античной Греции и, в частности, в отношении неоплатонизма Гегель создал очень простую, очень ясную и понятную концепцию. Однако эту концепцию он излагал во многих своих трудах, обсуждая ее по–разному и при помощи разных терминов, что весьма затрудняет дать эту гегелевскую концепцию в простейшем и яснейшем виде. Кроме того, изложение Гегеля изобилует такими тяжелыми и малопонятными терминами, которые для него самого и для, его слушателей, несомненно, были простыми и понятными. Для нас же вся эта терминология изобилует глубоким разнобоем, так что в своих лекциях по"Истории философии"он выражается, например, гораздо более абстрактно и непонятно, чем в своей"Философии истории"; а в своих"Лекциях по эстетике"он выражается еще ярче и яснее, чем в"Философии истории". Поэтому современный исследователь Гегеля, пожелавший формулировать греческий мир и, в частности, неоплатонизм так же просто и ясно, как представлял себе это сам Гегель, принужден прибегать к разного рода комментариям и интерпретациям, часто совершенно несходным с тем, как выражался сам Гегель. Это единственный путь понять Гегеля в его глубине, и последующее наше изложение представляет собой попытку интерпретирующе–комментирующегоизложения учения Гегеля об античной Греции. К этому методу приходится прибегать потому, что, несмотря на огромную литературу о Гегеле, настоящая наука все таки не обладает исчерпывающим анализом его терминологии, который бы установил всю многозначность таких гегелевских терминов, как"понятие","идея","дух","материя","природа","субъект","объект","личность","общество"или"история".
3. Основные категории
Если коснуться основных категорий, то специфическим методом философии Гегеля является диалектика. Однако ради достижения доступности Гегеля здесь приходится отмечать то, что более или менее понятно для нашей современности.
Диалектика Гегеля, вообще говоря, есть учение о становлении, или, вернее, само же становление. Это последнее не есть ни просто движение, ни просто переход движущегося от одной точки к другой, ни просто изменение, ни просто отражение одной точки движения в другой.
1) Становление непрерывно, но так как простая непрерывность есть нерасчлененность, то есть иррациональность, то Гегель постулирует в результате тех или иных моментов становления прерывные точки, возникающие в результате созревания тех или иных отрезков становления. Таким образом, становление есть синтез прерывности и непрерывности.
2) Далее, прерывные точки, возникающие на путях непрерывного становления, обладают всякий раз новым качеством, а так как понимать что нибудь, по Гегелю, значит составлять его понятие, то эти прерывные точки суть не просто новые качества, но и каждый раз новые понятия, а все становление оказывается поэтому мышлением, конечно, не только субъективно–человеческим, но и объективно–данным в самой действительности.
3) Далее, поскольку всякое становление всегда есть становление чего нибудь, то это что нибудь должно присутствовать и в каждом отдельном моменте становления, иначе останется неизвестным, что же именно в данном случае становится. Но если что нибудь, изменяясь, становится все новым и новым, это значит, что оно каждый раз пополняется, то есть находится в постоянном развитии. Становление, таким образом, есть развитие.
4) Развитие, далее, начинается с момента минимально содержательного, то есть максимально абстрактного. Развитие пополняет его, то есть делает более конкретным. Поэтому становление обязательно есть движение от абстрактного к конкретному, которое чем дальше, тем больше конкретизируется.
5) Это движение от абстрактного к конкретному не только мыслится теоретически, но сама же мысль требует перехода от себя самой к своему инобытию, где это движение и получает последнюю свою конкретность. Это движение от абстрактного к конкретному в материи есть история. Становление чего бы то ни было есть его историзм. Рассуждая исторически, необходимо допускать, что нечто, данное в истории в своем движении от абстрактного к конкретному, в некотором пункте должно достигать себя в конкретном виде, то есть оно должно иметь начало, серединуи конец. Гегель, однако, считал концом истории себя самого, думая, что он в своем мышлении уже достиг обозрения всех возможностей категорий мысли и достиг их окончательного обзора и завершения, а также этим концом была для него и современная ему эпоха, которая тем самым оказывалась некоторого рода земным абсолютом. Таким образом, если диалектика Гегеля с ее непрерывным становлением и необходимыми скачками была логикой революции, то его учение о конце истории было метафизической остановкой, а политически – вполне реакционным мировоззрением.
Итак, диалектика Гегеля была непрерывно–прерывным историческим развитием от абстрактного к конкретному с завершением этой конкретности в мышлении самого Гегеля и его эпохе. Все эти основные категории короче и лучше всего выражены у Гегеля в его"Философии истории"(Соч., т. VIII. М. – Л., 1935, с. 17 – 75), а также в"Лекциях по эстетике"(Соч., т. XII. М., 1938, с. 308 – 437 и особенно с. 312 – 324).
4. Греческий мир
На основании всего предыдущего необходимо сказать, что невозможно понять историко–философской диалектики Гегеля в отношении отдельных периодов ее развития без отдачи себе самого ясного и простого отчета в том, что такое вообще греческий дух по Гегелю. Вообще говоря, и самый этот греческий духи отдельные ступени его развития, как и вообще у всех систематически мыслящих философов, сводятся у Гегеля к разнообразным соотношениям идеи и материи, или духа и природы, или содержания и формы.
Весь древний Восток, по Гегелю, развивался в условиях приоритета материи, в условиях примата ее над идеей, над духом. Это началось еще с простого и безотчетного созерцания всего существующего, и прежде всего звездного неба, всех звезд, человека, животных, растений и неодушевленных предметов как живых и одушевленных при полном отсутствии всякой рефлексии над разницей духа и материи. Мы бы сейчас сказали, что это чистейший фетишизм.
Но даже и в условиях фетишизма на Востоке постепенно зарождались рефлексия и попытка расчленения духа и материи. Однако, ввиду примата материи над духом, этот последний, по Гегелю, не только не достиг на Востоке какого нибудь самосознания, но и вообще остался на стадии загадки и неразрешимой проблемы. Египетские пирамиды, обелиски, сфинксы как раз представляют собою результат этого соотношения духа и материи, когда материя поражает своими количественными размерами и пестротой содержания, а дух остается только чистейшей загадкой. В художественном смысле наилучшим показателем такого соотношения духа и материи является архитектура, которая очень интересна и наглядна в своем внешнем выражении; но тут еще неизвестно, кто же именно обитает в этом здании, которое воздвигнуто искусным архитектором («Философия истории», с. 111 – 207, особенно о переходе египетского периода к греческому на с. 204 – 207;"Эстетика", кн. 1, т. XII, с. 312 – 436, особенно с. 312 – 332).
Совсем другую картину представляет собою, по Гегелю, античная Греция. Здесь загадочный дух уже начинает являться в материи, в теле и материя уже перестает обладать восточным абсолютным приматом над духом и идеей. В греческой скульптуреуже является человеческому взору загадочная идея или дух, и тем самым они уже перестают быть безусловной загадкой. С другой стороны, однако, это еще не есть полное явление духа или идеи, которые ограничены здесь материей и телом. Дух, ввиду своей отождествленности с материей, не может быть здесь абсолютным духом, то есть быть абсолютной субстанцией. Гегель не очень ясно говорит об этой ограниченности греческого духа. Но если принять во внимание все, что говорится Гегелем на эту тему в его разных сочинениях, то можно прямо сказать, что этот греческий дух еще не дошел ни до личности, ни до общественности, ни до историзма. Такой дух и такая материя – и это опять наша интерпретация – остаются у Гегеля только принципами материального устроения, только его порождающей моделью. Это есть просто смысл вещей и, следовательно, всей материи и всей природы. С другой стороны, и эта материя, то есть природа, ввиду абстрактности воплощенного здесь смысла, тоже не выявляет всех своих возможностей и тоже не доходит до порождения личности, общества и истории. Но чем же, в таком случае, является подлинное соотношение такой ограниченной идеи и такой ограниченной материи?
Это подлинное соотношение есть живое, одушевленное и разумное, но чисто материальное и вполне чувственное человеческое тело; и потому самым ярким показателем такого тождества ограниченной идеи с ограниченной материей является античная скульптура. В Греции скульптурны и боги, и человек, и создаваемое такими богами и такими людьми классическое государство в лице афинской демократии с Периклом во главе. Боги здесь не просто возвышенные, потому что для чистой возвышенности требуется отвлечение от природы и материи. Нет, эти боги, будучи духовными индивидуальностями, в то же время материальны, телесны, но, конечно, телесность эта лишена всякой случайности материального хаоса жизни, а является только безукоризненной красотой. Но, будучи самодовлеющими существами, в своем самочувствии ни от чего не зависимыми (так как они все тот же дух, хотя и ограниченный), они полны также и беспечной веселости. Третьей стороной такой прекрасной индивидуальности богов – и это опять тоже следствие ограниченности воплощенного в них духа – является отсутствие в них ярко выраженной психологии и ярко выраженное отсутствие интимных чувств, поскольку они являются также и природой не меньше, чем духом или идеей. Отсюда холодность этих богов, как холодна и безличностна и сама природа, составляющая их незыблемую основу наряду с чистым духом.
И, наконец, такое живое, одушевленное, разумное, человечески–телесное существование богов лишает их возможности быть абсолютным духом и, следовательно, подлинной причиной и законом всякого существования. А это приводит к тому, что греческие боги, и уж тем более люди, подчинены неведомой, бездушной, безличностной и аисторической судьбе. Не поэтому ли в этих прекрасных богах просвечивает некоторого рода тонкая грусть? Боги здесь идеальны, но вследствие своего отождествления с природой они и не всеведущи, и не всемогущи, и лишены полноты самосознания. Материя же здесь и по природе по этим же самым причинам достигает только красоты, но не больше того; и в своем пределе она достигает тоже одушевленного и тоже разумного живого существа в виде космоса, вполне чувственного, видимого и слышимого и даже осязаемого; но опять таки не больше того. Таким образом, если доводить учение Гегеля до последней ясности, мы должны были бы сказать, что скульптурный стиль искусства и мировоззрения древних и, с другой стороны, исповедуемый здесь фатализм являются такими двумя принципами, которые обязательно предполагают друг друга и являются, в сущности, только двумя сторонами одного и того же предмета. Ярче всего об этой прекрасной, но ограниченной индивидуальности сказано Гегелем в его"Лекциях по эстетике"(т. XIII. М., 1940, с. 5 – 87, и особенно с. 49 – 73), а также в"Философии истории"(с. 213 – 267, и особенно с. 227 – 241).
Во всех этих замечательных рассуждениях Гегель опять таки не высказывает до конца той своей мысли, которая тем не менее будет играть доминирующую роль в его"Истории философии"от самого ее начала и до ее последнего конца. Дело в том, что такого рода скульптурно совершенное живое существо, будь то боги, будь то человек, будь то космос, все таки не приходит к тому конечному результату, где дух и материя, оставаясь разными субстанциями, слились бы в одно нераздельное целое. Гегель должен был бы сказать, что дух и материя сливаются здесь в нераздельное целое только постольку, поскольку то и другое выступает здесь в ограниченном виде. Это совершенное живое скульптурное человеческое тело, являясь моделью всего мироздания и всего мировоззрения, оставляет нетронутым и дух в его абсолютном развитии, и материю тоже в ее абсолютном развитии. И потому, на первый взгляд, весьма странно, но, по существу, с полнейшею диалектическою необходимостью как раз эта то самая прекрасная человеческая индивидуальность и является причиной дуализма духа и материи, взятых в их безграничном развитии, дуализма, не преодолимого никакими усилиями античной философской мысли. Исканиями преодоления этого дуализма полны уже другие, уже послеантичные культуры.
5. Греческая философия
В своих"Лекциях по истории философии"Гегель, к сожалению, почти не касается тех категорий античного мира, которые он сам же установил в"Философии истории"и в"Лекциях по эстетике". Это делает его анализ греческой философии не только чересчур абстрактным, но часто даже и недостаточным, а иной раз и просто неверным. Здесь мы опять таки попытаемся применить свой интерпретирующе–комментирующий метод.
1) Вместо многочисленных и неясных формулировок Гегеля ("История философии", т. IX, с. 147) то, что он называет первым периодом греческой философии, то есть от Фалеса до Аристотеля, будет справедливо, как мы думаем, назвать абстрактно–всеобщейступенью. Этот термин попадается у Гегеля довольно часто, и притом не только в отношении указанной у нас сейчас ступени философии. Абстрактной эту ступень нужно назвать потому, что из цельной прекрасной индивидуальности берутся только отдельные ее категории в их самостоятельном существовании, изолированно от этой цельной мировоззренческой скульптуры. Так естественным образом внимание древнего философа обращается прежде всего к чисто материальным стихиям, которые, как мы знаем, обязательно входят в понятие прекрасной индивидуальности. Они тоже одушевлены и прекрасны, и они тоже образуют собою весь космос. Но и они сами и возникающий из них космос еще пока лишены самосознания и рассматриваются только в предметном, только в объективном плане. Но уже и в пределах данной первичной ступени греческой философии вполне естественно возникновение также и стремления осознать и субъективную сторону действительности. Но опять таки, ввиду отсутствия в Греции интуиции абсолютного духа, эта субъективность, представленная софистами, покамест еще слишком несовершенна. В качестве мерила истины она выдвигает субъект отдельного человека, включая даже все возможные в этом субъекте явления, случайные и капризные. Само собой разумеется, что ни натурфилософская объективность, ни софистическая субъективность не могли исчерпать того художественного идеала, который явился моделью для всей греческой философии.








