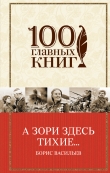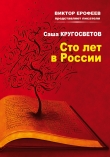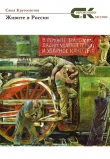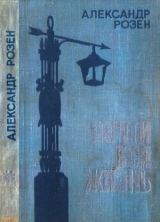
Текст книги "Почти вся жизнь"
Автор книги: Александр Розен
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 41 страниц)
Глава одиннадцатая
Батальон Сарбяна наступал. Немцы не могли остановить нашего общего движения вперед. Передние цепи уже приближались к рубежу, установленному приказом.
Ларин шел рядом с Богдановым. Когда Ларин упал, Богданову показалось, что командир дивизиона просто споткнулся о камень. Но Ларин не мог подняться. Он был ранен смертельно.
Когда Богданов понял, что Ларин ранен, он так испугался, что не посмел его осмотреть. В это время к ним подбежали две девушки-дружинницы.
– Возьмите его на носилки, – сказал Богданов.
Но Ларин открыл глаза и сказал твердо:
– Не трогайте меня.
Богданов, обрадовавшись, что Ларин пришел в себя, стал убеждать его лечь на носилки.
– Не трогайте меня, – повторил Ларин.
Богданов с отчаянием посмотрел на Ларина. Тогда одна из дружинниц негромко сказала:
– У него шок. Обязательно надо унести его отсюда.
– Нет не трогайте, – сказал Богданов.
Где-то невдалеке застонал раненый. Дружинницы, пошептавшись, отошли от Ларина. Вернувшись с носилками, на которых лежал раненый боец, они закричали:
– Мы врачу скажем! Он у нас такой, что сразу же сюда прибежит.
– Плохо вам, товарищ капитан? – тихо спросил Богданов.
Ларин ничего не ответил. Вот так же, как Богданов, он сам спрашивал умирающего Петренко в июле, когда они попали в окружение. И так же, как сейчас Ларин, Петренко просил тогда не трогать его.
Теперь Ларин понял, что это значит. Он понял, что умирает, но ощущение опасной легкости, которую он испытал несколько дней назад, более не повторялось. Сила жизни, которую человек чувствует, пока он живет, не оставляла его, как магнит не оставляет частицу железа, им притянутую. Но Ларин прижимался к земле не потому, что земля могла продлить ему жизнь, а потому, что это помогало ему до последнего вздоха не расставаться с жизнью.
Было необходимо – и это было самое трудное – сосредоточиться на том самом главном, что он считал своею жизнью, своим счастьем, на том, ради чего он родился. Но мыслям мешали видения прошлого, похожие на стаи птиц, прилетевших к закрытым окнам и бьющихся о стекла.
Вот он стоит на улице и смотрит вслед Ольге, и легкое снежное облако удаляется вместе с ней; вот медленная синяя волна с неожиданным шумом разбивается о каменный причал, и Ольга радостно вскрикивает; вот они вдвоем в комнате Ольги, и майские сумерки не в силах перейти в ночь. Его сын…
Ларин застонал, и Богданов снова спросил:
– Плохо вам, товарищ капитан?
Мысль об Ольге, так рано им покинутой, вытеснила все другое. И этот маленький мир, известный только двум людям, ему и Ольге, вдруг вырос и заявил свое право на первенство.
Так это и было его жизнью, счастьем, тем, ради чего он родился? И разве не печально, что так короток был час вечерних сумерек, и что, стоя у каменного причала, он не дождался новой волны, несущей свет и синь, и что он не продлил расставания и не остановил Ольгу, ушедшую в легкое снежное облако?
Но Ларин не чувствовал ни сожаления, ни печали. На этом последнем допросе он ни о чем не сожалел.
Он жил в большом мире и для него. Он любил большой мир, и его судьба была для него важна. Неужели же в предсмертную минуту он обвинит себя в этом?
И видения этого мира представились Ларину тем более ясно, что лежал он на земле, привычной к боям, впитавшей войну и ставшей как бы ее отражением.
Так это и было его жизнью, счастьем, тем, ради чего он родился, – боевое подвижничество ради большого мира?
Богданов достал из кармана пакет с марлей, разорвал его и осторожно вытер испарину со лба Ларина.
И пока Богданов в ожидании врача прислушивался к биению сердца своего командира и всматривался в его глаза, ища желанного выражения, Ларин продолжал вести свой неслышный разговор. Новые видения, видения двух разных миров, посещали его, более не мешая сознанию и как бы соревнуясь друг с другом.
Так что же, что было его жизнью?
Он боялся сделать новое умственное усилие, чтобы не потерять сознания, но другого выхода не было, и ему пришлось сделать это усилие, и капельки крови показались в уголках его рта.
«Конец…» – подумал Богданов и, отвернувшись заплакал.
Ларин не замечал его слез. Он совершил усилие и теперь, в последней сосредоточенности, увидел свою жизнь так, словно бы ей еще суждено было продолжаться. Будущее двинулось к нему навстречу, как будто бы он в бинокль взглянул отсюда на Пулковские холмы. Но неожиданное приближение ничего не изменило.
Пути и перепутья, расставания и встречи, и, проживи он сто жизней, – он бы не смог сказать себе: остановись. И когда кончилась бы его сотая жизнь, он, лежа в смертной постели, пожал бы руку своей старой подруге и сказал бы ей: «Так. Только так», и не отвернулся бы от ее испытующего взгляда и не сказал бы: «Прости», потому что мир, созданный ими вдвоем и друг для друга, неразделим с миром, судьба которого была для них так важна.
«В этой нераздельности и есть моя жизнь, смысл ее, счастье, то, для чего я родился».
Богданов закрыл ему глаза.
Вскоре прибежал врач, пожилой человек с погонами майора медицинской службы. Он быстро и с удивительной для его возраста ловкостью осмотрел Ларина.
– Ничего нельзя было сделать, – сказал врач.
– Он это понимал, – ответил Богданов, не спрашивая о подробностях ужасного ранения.
– Какой был орел! – покачал головой врач, с невольным удовольствием рассматривая могучее и красивое тело Ларина.
Бой гремел уже вдалеке. Дружинницы заканчивали свою скорбную работу.
Дали знать Макееву. Ночью он пришел проститься с Лариным и сел возле него.
Лицо Макеева было усталым, каким только может быть лицо командира полка, двенадцать дней находящегося в жестоком бою. Казалось, что за двенадцать дней Макеев впервые присел. Морщины на его лице расправились и словно отдыхали, более не похожие на шрамы.
Николай Новиков впервые испытывал тяжелое горе и целиком был погружен в него. Все другие чувства были ему сейчас недоступны.
Елизавета Ивановна, глядя на мертвое лицо Ларина, вспоминала Смоляра, и потеря Ларина неумолимо сочеталась с главной потерей ее жизни.
Макарьев мучительно упрекал себя в том, что не уберег командира дивизиона. Он не представлял себе, как можно было уберечь Ларина, но чувство ответственности за все, что в дивизионе происходило, и за каждого человека, в нем служившего, было воспитано в Макарьеве с такой отчетливостью, что он повторял все ту же мучившую его фразу: «Все-таки я остался жив, а убили Ларина».
Ларина хоронили в Гатчине. Немцы окончательно были отсюда выбиты. Дивизия вышла из боя. Осуществленный ею удар по противнику был высоко оценен командованием фронта.
На похоронах Ларина был выстроен батальон Сарбяна. От бойцов надгробное слово взялся сказать Богданов. Но, увидев тело Ларина, он долго молчал.
– Командир дивизиона все стремился освобожденных повидать, – сказал наконец Богданов. – Но были другие задачи… – Богданову хотелось сказать об этих задачах, вспомнить прошлое, ведь Ларин – это уже было прошлое их дивизиона, но, глядя на лица окружавших его людей, он отказался от этого. Люди смотрели на него с надеждой, и Богданов сказал: – Все же мы теперь и Красносельские, и Гатчинские.
На следующее утро Макеев вызвал Новикова к себе.
– Ваша сестра, если не ошибаюсь, была женой капитана Ларина? – рука его невольно отбила такт.
– Так точно, товарищ подполковник.
– Полк заинтересован в судьбе вдовы погибшего капитана Ларина и… – костяшки пальцев снова упали на свежий сруб стола, – его ребенка. Вам ясно, товарищ лейтенант?
– Ясно, товарищ подполковник.
– Вам предоставлен отпуск для поездки в Ленинград.
– Слушаюсь, товарищ подполковник.
– Идите выполняйте.
Новиков по-курсантски точно сделал «кругом», но в это время Макеев подошел к нему. На плечи Николая легли сухие пальцы командира полка.
Николай хотел повернуться, но Макеев сам повернул его к себе.
– Товарищ подполковник… – сказал Новиков, чувствуя сильный и глубокий взгляд Макеева.
Макеев ничего не ответил. Он не спеша всматривался в лицо Николая, словно стремясь найти в нем новое, еще никому не известное выражение.
Вдруг что-то дрогнуло в углах его рта. Улыбнувшись каким-то своим мыслям, он чуть привлек к себе Николая и легко отстранил его.
– Мне можно идти, товарищ подполковник? – спросил Николай нерешительно.
– Да, да, конечно… – быстро сказал Макеев. Неожиданная улыбка еще какое-то время освещала его лицо.
Не заходя к себе, Николай выбежал на шоссе и стал ждать попутную машину. Но все машины шли по направлению к фронту, и Николай, нервничая, долго ходил взад и вперед. Вдруг он остановился. Навстречу ему один за другим шли двое. Первый был в широченной шинели без погон, болтавшейся на нем, как халат, и в пилотке без красной звездочки. Позади него шел красноармеец, держа винтовку навскидку. Николай чуть не вскрикнул: это были Хрусталев, бывший начальник артснабжения, и его конвоир. Когда они поравнялись с Николаем, он невольно уступил им дорогу. Хрусталев, кажется, узнал его. Что-то вроде улыбки появилось на его опухшем лице.
– А, младшенький!.. – сказал он сквозь зубы.
Николай отвернулся. Полчаса спустя ему удалось остановить попутную машину. Николай быстро прыгнул в кузов, где сидели два бойца.
Они накрылись брезентом от мокрого снега, вялые хлопья которого падали непрерывно.
– Нет, душно, – сказал Николай и пересел на борт.
Он должен был обдумать поручение, которое дал ему полк, а мысли были расстроены. И такова была сила личного его горя, что чем более он пытался привести в порядок свои мысли, тем менее это ему удавалось.
Бойцы, сидевшие под брезентом, чувствовали себя как дома. Вытащив из мешка хлеб, сало и консервы, они ели с большим аппетитом, сожалея лишь, что нечем промочить горло.
Машина шла теперь рывками, не в силах совладать с разбитой дорогой. То и дело шофер вылезал из кабины и тяжелым ключом стучал по скатам, выслушивая машину, как врач больного.
– А что, товарищ лейтенант, с нами не закусите? – спросил один из бойцов.
– Нет, я не хочу, – быстро ответил Новиков. – Спасибо, не хочу.
Боец покачал головой.
– Зря, товарищ лейтенант. После обеда настроение повышается.
Новиков пожалел, что фляжка его пуста: нечем угостить попутчиков.
– Я вот смотрю на вас, товарищ лейтенант, – сказал другой боец, бережно складывая в мешок остатки продовольствия. – Смотрю, все на борту сидите. Мало разве в бою снега наглотались? И веселья в вас не видать. А вы человек молодой. Чем объяснить?
– У меня горе, – не удержался Новиков.
– До этого мы своим умом дошли, – сказал боец, переглянувшись с товарищами. – Однако в чем горе?
Взгляд его был такой внимательный и сочувственный, что Николай сказал откровенно:
– Командира моего дивизиона убили.
– Горе большое, – сказал боец. – Знаю. Нелегко пережить.
– Трудно! Хоть бы в бой поскорее… – вырвалось у Новикова.
– Так… Погибший семейным был?
– Жена и… не знаю, может быть сейчас уж ребенок.
– В Ленинграде?
– Да…
– Увидитесь с ней?
– Она моя сестра…
– Товарищ лейтенант! – вдруг с жаром воскликнул боец. – Так ведь надо вам о ней подумать!
– Ну конечно, – подтвердил Новиков. – Ясно, что я о ней думаю.
– Нет, товарищ лейтенант, всерьез нельзя о чужом горе думать, если в себе свое не поломаешь. Иначе не поможешь.
– Да? Так? Это так? – с жадностью спросил Новиков, чувствуя, что незнакомый боец своими словами дотронулся до чего-то самого сокровенного.
В самом деле, он никогда так не думал: надо в себе поломать горе, но не для того, чтобы самому легче стало, а для того, чтобы помочь другому человеку. Для того, чтобы в душе другого человека зажегся огонек надежды, нужно самому иметь этот огонь…
Машина остановилась так резко, что Новиков едва удержался на борту. Водитель выскочил и, покачав головой, сказал:
– Будем менять скаты.
Бойцы сразу же стали ворчать:
– Говорили тебе, этой дорогой не ехать. Это не дорога, а мучение.
– Срезать хотел, – ответил шофер. – Вас поскорее в Ленинград доставить, – добавил он ядовито.
– Вот тебе и поскорее!
Они находились вблизи Ленинграда. Был виден Дворец Советов. Дорога, которую выбрал шофер, чтобы «срезать», и за которую его сейчас ругали, проходила по бывшему переднему краю.
Здесь было дико и пусто. Казалось немыслимым, что здесь еще совсем недавно жили люди, и только дырявые консервные банки да простреленные каски напоминали об этом. Девятьсот дней этот передний край честно служил Ленинграду, а за двенадцать дней нашего наступления траншеи уже кое-где обрушились, двери блиндажей были распахнуты и качались на петлях, и под семью накатами гуляла темная поземка.
– Помочь вам, товарищи? – спросил Николай.
– Справимся, товарищ лейтенант.
Николай прошел немного вперед по дороге. Поземка утихла, и стало вдруг светло и ясно, как часто бывает на севере в предзакатный час. Желтое пятно солнца за облаками быстро скользило к земле. Еще минута – и над самой линией горизонта показался пурпурный луч.
Этот луч был нетороплив. Он задержался на белом камне Дворца Советов и не спеша коснулся земли бывшего переднего края. Не сострадания заслуживала эта земля, а благодарности.
На Международный проспект они въехали, когда уже было совсем темно. И только успели въехать, как услышали сильный орудийный залп и вслед за ним, где-то вдалеке, у самой Невы, увидели небо в разлете множества многоцветных огней.
Новый залп и новые огни, раздвинувшие небо. Новиков сильно постучал в кабину. Машина остановилась.
– Что это? Салют?
– Салют в Ленинграде, как в Москве?
– В честь победы?
На Международном проспекте было пустынно. Видимо, люди ушли к Неве, туда, где гремел салют, и только у ворот стояли дежурные групп самозащиты. Они отвечали Новикову и его спутникам:
– Да, салют.
– Да, был приказ Военного совета фронта.
– Да, в честь победы.
И, кажется, впервые жалели о том, что не могут уйти со своих постов.
– Давай не задерживай, давай третью скорость, давай скорей к Неве! – яростным начальственным тоном крикнул Новиков.
Машина помчалась. Но когда они уже были на проспекте Майорова, залпы прекратились.
– Опоздали, дурында, – раздраженно сказал боец водителю и стал ему доказывать, что могли бы они и не опоздать, если бы…
Новиков уже не слышал их. Он бежал к своему дому. У ворот стояли люди и не сводили глаз с неба, словно желая продлить удивительную возможность безбоязненно смотреть на мир.
В толпе Новиков увидел Валерию Павловну, вернее, не увидел, а угадал ее спину, плечи. Николай подумал, что своим появлением может испугать мать. Он сказал так тихо, как только сумел:
– Мама…
Валерия Павловна быстро обернулась. Они обнялись, и Николаю показалось, что мать, словно еще не доверяя встрече, прислушивается к биению его сердца. Не отрываясь от сына, Валерия Павловна сказала:
– Ольга родила. Сына…
И, с трудом оторвав свое лицо от груди. Николая, взглянула ему в глаза.
– Ларин убит, – сказал Николай.
Всю ночь они не ложились. Света не зажигали, как будто боясь, что свет может нарушить их тайную беседу. Прожектор, верный своей девятисотдневной судьбе, медленно вглядывался в небо и, убедившись в его безопасности, исчезал, чтобы вновь появиться.
Пожалуй, впервые Валерия Павловна разговаривала с сыном, как с человеком совершенно взрослым. И не только потому, что он в полной мере стал военным человеком и испытал бой, но и потому, что это испытание сделало его человеком, способным вместе с нею решать трудные вопросы их семьи.
Валерия Павловна запретила сыну навестить Ольгу.
– Она еще слишком слаба… Да тебя и не пустят к ней. Я скажу ей сама… потом.
Николай, слушая мать, понимал, что она, быть может, тоже впервые думает не только о нем. Ольга, ставшая матерью, в душе Валерии Павловны теперь равноправна с Николаем. Ларинский сын займет в ней особое место.
– Скажи командиру полка, что я обо всем напишу ему, – сказала Валерия Павловна твердо.
И снова они думали об Ольге, о ее будущей жизни, в которую заглянуть невозможно, но в которую можно и нужно верить.
Рано утром Николай сказал:
– Пора, мама…
Валерия Павловна взглянула на него и вдруг с необыкновенной остротой поняла, что сын уходит, надолго уйдет. Старая боль, такая же, как в июне сорок первого, когда началась война, та же боль – страх за сына – снова охватила ее.
Но сейчас ей, старой женщине, было стыдно перед сыном. Гибель Ларина заставляла Валерию Павловну стыдиться своего страха. Она сдерживала себя, и от этого усилия она настолько ослабла, что едва держалась на ногах.
Все той же военной дорогой Новиков возвращался в полк. В мутном рассвете мелькали огоньки в блиндажах и палатках строительных и дорожных батальонов.
Новые звуки рождались на дороге. Работали сварочные аппараты, и в их синем пламени лица бойцов казались по-особенному напряженными. Молоты, не сбиваясь в ритме, повторяли свои законные полукруги, в мягкий визг электропил врывался настойчивый шум землечерпалок. На многих развилках дороги надписи «Объезд» были уже сорваны.
Казалось, что нет конца этой ленинградской дороге и что до самого фронта будут мелькать огни в палатках строителей, и виться синие струи сварочного огня, и звучать и звенеть пилы и молоты, и что далеко-далеко на запад пройдет эта рабочая страда, вызванная к жизни победой.
У разных людей разные чувства вызывает дорога. Трус боится ее. Увидев живую ленту, уходящую вдаль, он садится на придорожный камень и закрывает лицо руками. Он не верит, что можно одолеть путь, и поэтому шепчет в смущении: «Нет конца у этой дороги» – страх натрудить себе ноги в пути сковывает его.
Смелому человеку приятна дорога. Дух захватывает от желания осилить ее. Он идет вперед и знает, что только в движении он достигнет исполнения желаний. И пока трус сидит на камне и дорожная пыль оседает на нем, сильный идет вперед, и все ему хорошо. Дорога идет через мачтовый лес, через заливные луга, через буйную реку, через веселый город – и везде узнают смелого человека, и всюду он слышит слово привета.
Дорога, которая предстояла Новикову, шла через порубленные леса и истерзанные поля, через мутные воды рек, через сожженные врагом города. Но, глядя на боевую, хорошо послужившую Ленинграду дорогу, Новиков был уверен, что пройдет ее до конца.
Он догнал полк в маленькой деревушке южнее Гатчины. Прибыло пополнение. Бойцов распределяли по дивизионам и батареям. Новиков нашел избу, в которой остановился командир полка. Адъютант Макеева попросил его обождать – подполковник занят.
В узких сенях Новиков присел на колченогую табуретку. В соседней комнате негромко разговаривали:
– Капитан Измайлов Илларион Николаевич?
– Так точно.
– Год рождения?
– Тысяча девятьсот девятнадцатый.
– Образование?
– Ленинградское артиллерийское училище.
– Партийность?
– Член партии с сентября сорок первого года.
– На какую должность прибыли?
– На должность командира первого дивизиона.
Минутное молчание. Затем Макеев спросил:
– Вам известно, кто командовал первым дивизионом?
– Никак нет.
– Дивизионом командовал капитан Ларин. Я хочу вам о нем рассказать.
1946
Рассказы разных лет

Неизвестная девушка
Днем Кудрявцева вызвал заведующий экскурсионным бюро:
– Вот что, Коля: в Сталинград приехал замечательный человек. Вы, наверное, о нем слыхали – Герой Советского Союза Нерчин.
– Слыхал, конечно… Где он остановился?
– Не знаю. Он был у нас и записался на экскурсию. Тема ваша: исторические места боев. Поедете, как всегда, с нашим катером по Волге, от местной пристани до гидростроевского поселка. Хорошенько подготовьтесь, и в добрый час!
Кудрявцев был озабочен. Дома он заперся у себя в комнате, сел за стол, вынул из ящика чистый лист бумаги и четким почерком написал: «План проведения экскурсии».
Прошло два часа. Пепельница завалена окурками, на столе, на подоконнике, на кровати разбросаны книги, рукописи, вырезки из журналов и газет, но на листе, озаглавленном «План проведения экскурсии», не прибавилось ни строчки.
И в сотый раз за сегодняшний вечер Кудрявцев спрашивал себя: как рассказать о Сталинградской битве ее герою?
В Сталинград Кудрявцев приехал три месяца тому назад из Москвы, где учился на историческом факультете. Здесь он должен был закончить свою дипломную работу, посвященную Сталинградской битве.
Он тщательно изучал материалы в Музее обороны, познакомился со многими участниками боев, кропотливо восстанавливал эпизоды прошлого, связывая их в одну неразрывную цепочку.
Вскоре после приезда Кудрявцева пригласили работать в городское экскурсионное бюро.
– Дело у нас живое, да и материально вам будет легче… – говорил заведующий, бывший танкист.
Кудрявцев решил: «Попробую», – потом втянулся и полюбил новое для него дело.
И скольким же людям показал он за это время Сталинград! Ленинградские металлисты и румынские крестьяне, колхозники с Алтая и ткачи из Иванова, лесорубы из Архангельска, электрики из Москвы… Но никогда еще за время своей работы в Сталинграде Кудрявцев не испытывал такого затруднения, как сегодня.
Он знал о событиях, связанных с именем Нерчина. Осенью сорок второго сержант Нерчин командовал отделением в роте лейтенанта Трофимова. Долгое время эта рота сдерживала натиск крупного фашистского соединения, пытавшегося прорваться к Волге. Бон на Продольной улице, которую обороняла рота, отличались особенной ожесточенностью. К Волге фашисты не прошли. Из всей роты героев остался жив только Нерчин. Тяжело раненный, он был эвакуирован в тыл на левый берег и после пяти месяцев госпиталя вернулся в строй.
О боях на Продольной улице Кудрявцев ежедневно рассказывал экскурсантам. Но как рассказать о Сталинградской битве ее герою?..
Он закрыл большую кожаную тетрадь для записей и уже хотел спрятать ее в стол, как в дверь постучали.
– Войдите, – крикнул Кудрявцев и, подойдя к двери, открыл ее.
На пороге комнаты стоял военный в форме майора с Золотой Звездой на груди.
– Прошу извинить за беспокойство. Товарищ Кудрявцев?
– Да, это я…
– Разрешите представиться – Нерчин.
Кудрявцев был так удивлен, что почти минута прошла в полном молчании.
– Садитесь, пожалуйста, – сказал наконец Кудрявцев и подал стул.
Майор молча сел, видимо тоже не зная, как начать разговор.
На вид Нерчину было года тридцать два – тридцать три. Был он невысокого роста, широкоплечий, с лицом немного полноватым, но очень свежим. Яркий румянец на щеках, спокойный, ровный взгляд… Все это создавало убедительное впечатление здоровья и силы.
– Я записался на вашу экскурсию, – начал майор. – В бюро мне рассказали о том, что вы историк, интересуетесь Сталинградом и собираете материал.
– Мне будет очень интересно записать ваши воспоминания, – сказал Кудрявцев. – Это сильно поможет моей работе.
– Я, разумеется, с удовольствием, – серьезно ответил майор, – но сегодня я сам пришел к вам за помощью.
– Если я могу быть вам полезен…
– Я думаю, можете, – сказал майор. – Вы, наверное, знаете о боях на Продольной улице и о роте лейтенанта Трофимова?
– Да, я изучал материалы.
– Ну так вот. Я в этой роте командовал отделением в звании сержанта и десятого октября сорок второоа года был ранен и увезен в тыл. Ранение было тяжелое, и я плохо помню все, что затем было. Помню только, что лежал я там на Продольной и меня подобрала и привела в чувство дружинница, неизвестная мне девушка, тащила на себе до переправы, а потом я очнулся уже в госпитале. Я, конечно, очень заинтересован найти эту девушку. Несколько раз я запрашивал госпиталь, но куда там… Мне справедливо отвечали, что надо знать хотя бы имя и фамилию. Многие дружинницы и сестры погибли… Да, многие погибли, это верно. Но я всегда надеялся, что эта девушка, которая спасла мне жизнь, жива. После войны я запросил воинскую часть, в которой служил осенью сорок второго, и мне прислали список сандружинниц, работавших у нас и ныне здравствующих. Две из них жили в Москве, третья в Полтаве.
– Сестры Князевы в Москве и Лида Хоменко в Полтаве, – сказал Кудрявцев.
– Вы о них знаете? – спросил майор.
– Разумеется. Одна из глав моей работы посвящена сандружинницам периода Сталинградской обороны, Так что же они?
– Лида Хоменко работала на Продольной в сентябре, ну, а я был ранен в октябре, а сестры Князевы на Продольной улице не были, они работали на заводе «Красный Октябрь». Лида Хоменко написала мне, что были сандружинницы и из приданных частей. Но как их разыскать?
– У меня есть картотека, – сказал Кудрявцев. – Я молу сейчас же посмотреть.
Он сел за стол, снова взял большую кожаную тетрадь и уверенно открыл нужную страницу.
– Здесь записаны имена и фамилии сандружинниц, работавших в период Сталинградской обороны, и мои беседы с теми, кто работает сейчас в Сталинграде. Вот, например, Мария Александровна Ястребова. Штукатур…
– Но ведь в том-то и дело, что я не знаю ее имени, – снова сказал майор.
– Понимаю, понимаю. Я сейчас ищу людей, работавших на участке вашего полка, – сказал Кудрявцев. – Мария Ястребова нам не годится. Она находилась при сануправлении другой дивизии. Ольга Ильинишна Проценко. Работает на грейдер-элеваторе. Сандружинница с начала Отечественной войны. Вот разве что она… Нет, здесь ясно написано – служила в авиачастях. Сестры Князевы… Ну, о них вы все знаете. Однако я ясно помню, что со слов одной сандружинницы записывал о боях на Продольной улице. Вот: крановщица Полина Михайловна Минаева. Бои на Продольной улице, октябрь тысяча девятьсот сорок второго.
Нерчин встал.
– Значит, вы думаете…
– Я еще ничего не думаю. Я историк и в своей работе привык опираться только на факты, – с юношеской деловитостью заметил Кудрявцев. – Здесь есть еще одна бывшая сандружинница, лаборантка по бетону в Сталинградгидрострое, товарищ Королева. Продольная улица… Да нет, это уж ноябрь. Евгеньева Лидия Константиновна. Тоже ноябрь. У меня записаны и другие имена сандружинниц, но их уже нет в живых. Да, пожалуй, единственно возможный случай – это Полина Михайловна Минаева. Совпадает и участок боев и время – октябрь.
– У вас есть ее адрес? – спросил Нерчин.
– Да, я в таких случаях очень аккуратен. Гидростроевский поселок, дом тридцать четыре, квартира четыре.
– Дом тридцать четыре, квартира четыре. Большое вам спасибо. Иду. Я ведь здесь в отпуске, – прибавил майор, словно оправдываясь. – В конце концов, она может лично признать меня.
Кудрявцев задумался. Поиски неизвестной девушки, спасшей жизнь майора, его заинтересовали.
– Идемте вместе. Я и дорогу знаю и с Минаевой вас познакомлю.
Кудрявцев жил в Верхнем поселке, и отсюда были видны все огни Сталинграда. Они смешивались с огнями, строительства гидроэлектрической станции на левом берегу Волги, и река угадывалась только по движущимся огням катеров, теплоходов и барж.
– Не узнаю я этих мест, – признался Нерчин.
– Да, трудно узнать…
Они шли по широкому асфальтированному проспекту, по обе стороны которого были высажены молодые тополя. Вечер был легкий, не душный. Повсюду было много гуляющих. Кудрявцеву и Нерчину поневоле пришлось замедлить шаг.
– Все неузнаваемо, – повторил Нерчин, – все новое: дома, школы, клубы, театры, сады… Целый день искал знакомые места, да так ничего и не нашел.
– То ли еще будет через пять лет, когда гидростанцию построят, – сказал Кудрявцев. Он всего несколько месяцев жил в Сталинграде, но эту летучую здесь фразу быстро воспринял. – Трудно историку…
– Трудно?
– Ну конечно. Люди заняты новыми делами… Вот здесь сядем в автобус, – предложил Кудрявцев, – он довезет нас до места.
Вскоре они уже были в гидростроевском поселке и вошли в дом, где жила Полина Михайловна Минаева.
Им открыла дверь сама хозяйка. Видимо, она кого-то ждала. Лицо ее было приветливое и веселое. Одета была Полина Михайловна по-домашнему: ситцевое платье с передником, тапки на босу ногу. Увидев посторонних людей, она смутилась.
– Вы к Павлу Васильевичу? – спросила Минаева, пряча руки, вымазанные в муке, и незаметно вытирая их о передник. – Его нет дома. Но он вот-вот придет.
– Нет, мы к вам, Полина Михайловна, – сказал Кудрявцев. – Извините, что так поздно…
– Ничего, что вы. Проходите, пожалуйста, в комнату… Лизочка, убери свои картинки, а то дядям даже присесть некуда. Слышишь, что тебе мама говорит? Вас-то я знаю, – обратилась она к Кудрявцеву, – вы к нам на стройку приходили, записывали, кто в Отечественной войне участвовал. Лизочка, вынь изо рта пальчик. Это она на вашу Золотую Звезду засмотрелась. Вы не из нашего Управления будете?
– Нет, я не из Управления, – сказал Нерчин, нахмурившись.
– Говорили, что новый человек к нам в Управление приехал – механик. И тоже герой… Ох, минуточку, я сейчас, только пирог выну, сгорит, – сказала Минаева и выбежала на кухню.
– Ну, что это вы сразу нахмурились? – тихо спросил Кудрявцев майора. – Разве так можно? Все же это не вчера было. Надо рассказать о себе, напомнить обстоятельства, человек же совершенно не подготовлен. Понимаете?
– Понимаю.
Полина Михайловна вернулась в комнату с известием, что пирог вынут из духовки, чуть-чуть подгорел, но с корочкой даже лучше. Она успела снять передник, надеть чулки и туфли, причесаться и теперь чувствовала себя куда более уверенно.
– Вы, наверное, снова ко мне по поводу старых дел? – спросила она Кудрявцева.
– Угадали, Полина Михайловна, – сказал Кудрявцев, – и не только я, но и майор Нерчин.
– Простите, фамилию не расслышала…
– Нерчин Иван Алексеевич, – отчетливо сказал майор и еще больше нахмурился.
– Иван Алексеевич Нерчин тоже участник Сталинградской обороны, – продолжал Кудрявцев. – В 1942 году он был тяжело ранен.
– Разрешите, я уточню, – сказал майор. – Я служил в роте лейтенанта Трофимова. Ранение – 10 октября 1942 года… На Продольной улице. Неизвестная мне сандружинница переправила меня в госпиталь, на левый берег…
Сказав это, майор встал, привычным движением поправив гимнастерку. Полина Михайловна тоже встала. В комнате теперь было так тихо, что маленькая Лиза подбежала к матери и испуганно уткнулась лицом в ее платье. Наконец Кудрявцев услышал голос Полины Михайловны и обрадовался ему. Но голос ее был не прежний – легкий и немного протяжный, а другой – строгий и сдержанный.
– Это могла быть и я, – сказала Полина Михайловна, – но это могла быть и не я… Мы многих вынесли из боя и переправили в тыл. Я не могла всех запомнить. Вы не обижайтесь, но это было невозможно.
– Понимаю, – сказал майор.
– Помню, одного везла на катере, он все что-то говорил, говорил. Снова нас бомбили… А в госпитале он пришел в себя и сказал мне: «Спасибо»… Потом я о нем справлялась, и мне сказали, что он умер.
– Может быть, ошиблись? – спросил Нерчин.
– Может быть…
– Постойте, – сказал Кудрявцев. – Не все, но кое-что можно восстановить в памяти. Вы, товарищ майор, наверное, помните события, которые предшествовали вашему ранению. Ну, например, где, в каком месте Продольной улицы шли в это время бои?