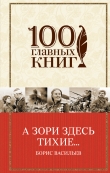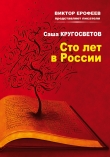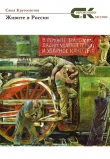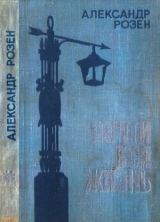
Текст книги "Почти вся жизнь"
Автор книги: Александр Розен
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 41 страниц)
Было очень тихо, казалось, что где-то поблизости находится источник тишины. Может быть, даже в одной из этих странных башенок под тяжелым металлическим, наглухо закрытым куполом.
– Откроют нам башню, да? – шепотом спросил Сережа.
– Ну конечно откроют, – ответил Григорий Макарович. – Для этого мы сюда и приехали. Только не башня, а астрономический павильон. Здесь находится зенит-телескоп.
– «Сезам, отопрись, сезам, отопрись», – шептал Сережа, когда сотрудник Пулковской обсерватории открывал замок.
– Похож на мой, только больше, – шепнул Сережа Вале, когда они вошли в павильон. – Григорий Макарович, а коронограф мы тоже увидим? – спросил он.
– Сережа, дорогой, увидишь и коронограф. Не волнуйся, все увидишь.
– А большой вертикальный круг? – полчаса спустя спрашивал Сережа.
Григорий Макарович засмеялся:
– Вот это контролер!
С этого момента за Сережей укрепилось прозвище Контролер.
– Ну, Контролер, что еще нам надо посмотреть?
– Менисковый телескоп, – уверенно отвечал Сережа.
Но каждый раз, когда сотрудник обсерватории открывал дверь нового павильона, Сережу снова охватывало нетерпение.
Особенно понравился ему большой пассажный инструмент, установленный неподвижно и прямо по Пулковскому меридиану. Сережа долго допытывался о подробностях его конструкции и даже попробовал срисовать на память.
– Недурно, недурно получилось, – сказал Григорий Макарович, – но только слово «пассажный» пишется через два «с», учти, пожалуйста.
– Григорий Макарович, – упрашивал Сережа, – разрешите одним глазком взглянуть в окуляр.
– Что же ты увидишь? Ведь еще совсем светло.
– Ну, что увижу, то увижу…
Получив разрешение, Сережа прильнул к окуляру. Конечно, Григорий Макарович был прав. Ничего, кроме белого кружка и сетки линий, симметрично расположенных вокруг одной центральной, Сережа не увидел, но оторвать его от окуляра было не так просто. Эта черная нить – Пулковский меридиан – означала для Сережи очень многое. Она связывала его с родным городом, с чистовским Домом пионеров и маленькой обсерваторией, спрятанной между грядками резеды и розовыми кустами…
Наконец Григорий Макарович объявил, что осмотр окончен и что в конференц-зале состоится встреча экскурсантов с известным астрономом профессором Русановым.
– Тот самый, который «Увлекательное путешествие» написал?
– Да, тот самый…
Сережа задумался: встреча с профессором Русановым… Вот кто по-настоящему оценит Сережино открытие!
– Ты что такой бледный? – спросил Григорий Макарович. – Устал? А ну-ка, доставай свои бутерброды…
Но Сережа решительно отказался. В такое время не до еды.
Профессор Русанов был совсем таким, каким представлял Сережа «настоящего астронома». Пожилой человек с густыми бровями и проницательным взглядом. Говорил он негромко, да и незачем было ему повышать голос – ребята вели себя тихо.
Профессор живо интересовался, какие книги читают ребята, умеют ли пользоваться школьным телескопом, знают ли звездные карты.
«Пора, – думал Сережа. – Нет, подожду еще немного. Кто-то спрашивает, есть ли жизнь на Марсе. Глупый вопрос, – разумеется, есть. Валя говорит, что мечтает стать капитаном дальнего плавания. „Правильно, – отвечает Русанов, – мореплавателям астрономия необходима“. Вот теперь пора!..»
Сережа встал:
– Я умею определять долготу! Я открыл, что живу на Пулковском меридиане… То есть я хочу сказать, что Пулковский меридиан проходит как раз через наш город.
– Молодец, – сказал профессор. – А ты сам откуда?
– Из города Чистова. Заставская улица, дом номер семь. А Пулковский меридиан проходит через наш Дом пионеров. Я по солнечным часам узнал местное время, сравнил его с сигналами времени по радио и определил свою долготу.
Ребята зааплодировали. Сережа слышал одобрительные возгласы. А Валя негромко сказала:
– Да, это здорово! Этого мы еще не проходили.
Триумф был полный…
Русанов сделал чуть заметный жест рукой, и в зале снова стало тихо. Профессор похвалил Сережу: определение долготы – дело очень важное. Не только мореплаватели, но и люди других профессий в этом заинтересованы. Например, летчики, геодезисты… Ведь ни одно строительство нельзя начать без предварительных геодезических работ. Верно понял Сережа и самый принцип определения долготы. Одного только не учел наш молодой ученый: местное время должно быть определено очень точно. Солнечные часы для этого не годятся. Здесь неизбежна ошибка – ну хотя бы на одну минуту. А ведь это значит ошибиться больше чем на двадцать восемь километров. И следовательно, Пулковский меридиан не проходит через город Чистов…
Русанов встал, подошел к Сереже:
– Двадцать восемь километров… Где же тогда пройдет Пулковский меридиан?
– Если на восток, то через колхоз «Красный партизан», – едва слышно ответил Сережа.
Он был подавлен своей неудачей. Так осрамиться перед ребятами, перед Григорием Макаровичем! Его открытие, все, чем он так гордился, – все насмарку… Профессор хвалит его только для того, чтобы смягчить удар…
Сережа уже видел свое бесславное возвращение домой. Да и сам Чистов, удаленный от главной астрономической магистрали, как-то потускнел и поблек.
Всем было видно, что Сережа глубоко взволнован, но, пожалуй, только Григорий Макарович заметил, что взволнован и сам Русанов. Первый признак: он не сидит на своем месте, а расхаживает по залу.
Русанов рассказывал о том, как ученые научились определять точное время по звездам, а Григорий Макарович спрашивал себя: неужели же Сережина неудача могла так взволновать знаменитого астронома?
– В каждой большой обсерватории существует специальная служба времени, – продолжал Русанов. – Самые точные пулковские хронометры мы проверяем с помощью астрономических инструментов и ежедневно даем для страны поправку времени. Теперь мы учитываем тысячные доли секунды…
Русанов снова подошел к Сереже и взглянул на его огорченное лицо:
– Веселей, веселей, Сережа! Я ведь тоже свое знакомство с астрономией начал с ошибки!
– А вы расскажите нам, как это было! – смело попросила Валя.
– Что ж, я охотно… Но не поздно ли?
– Совсем, совсем не поздно, – за всех ответил Григорий Макарович.
Профессор сел рядом с Сережей, обнял его и начал свой рассказ:
– Впервые я познакомился с астрономией в октябре тысяча девятьсот семнадцатого года. Точнее сказать, двадцать шестого октября, через несколько часов после того, как Владимир Ильич Ленин с трибуны Второго съезда Советов провозгласил Советскую власть. В то время я работал слесарем на Путиловском заводе и никак не думал, что стану астрономом или вообще ученым человеком.
В октябре семнадцатого на нашем заводе был создан отряд Красной гвардии. Командиром этого отряда был мой товарищ, молодой рабочий по фамилии Волчок. Он приехал в Питер из провинции еще в четырнадцатом году, скрываясь от полиции. Настоящая его фамилия была другая, но мы все называли его «товарищ Волчок».
Двадцать пятого октября в штабе революции, в Смольном, наш отряд получил важное задание: занять главный почтамт и главный телеграф. Не буду рассказывать вам всех подробностей, скажу только, что красногвардейцы выполнили ленинский приказ.
Наступило утро. Первое утро Советского государства. На главном почтамте многие чиновники не хотели подчиняться власти трудящихся. Некоторые из них совсем не пришли на работу, а другие сидели сложа руки и посмеивались: дескать, попробуйте, справьтесь без нас!
Одного из таких чиновников я хорошо запомнил. Его лицо выражало одновременно и насмешку и страх; казалось, что он нарочно гримасничает.
Волчок и я работали бок о бок с этим чиновником. Нам приходилось заниматься самыми разными, порой совершенно незнакомыми делами. Около полудня позвонил телефон. Я подошел, взял трубку: «Слушаю».
«Добрый день, – вежливо сказал голос по ту сторону провода. – Примите, пожалуйста, поправку к вашему времени».
Признаюсь, что я ровно ничего не понял в этой фразе. Она показалась мне нелепой, а настроение мое, сами понимаете, было в то утро приподнятое, радостно-возбужденное.
И вместо того чтобы разобраться, я весело крикнул в телефонную трубку:
«Ошибка, дорогой товарищ! Время у нас самое что ни на есть правильное!»
И в ту же минуту я увидел пренебрежительную, издевательскую гримасу на лице чиновника. Волчок быстро подошел к телефону и взял у меня трубку:
«Кто говорит? Пулковская обсерватория? Минуту… я сейчас запишу. Принято. Продолжайте, товарищ, спокойно работать. Советская власть будет оказывать всемерную поддержку науке».
Голос нашего командира звучат твердо и уверенно. И чиновник больше уже не смеялся. Вид у него был весьма растерянный.
«Служба времени Пулковской обсерватории сообщила поправку своих часов, – объяснил мне Волчок и обратился к чиновнику: – Нет ничего удивительного в том, что красногвардеец Русанов не разбирается в астрономии. В главном-то он все-таки не ошибся: время наше самое что ни на есть правильное!»
А через несколько дней мне пришлось поближе познакомиться с Пулковской обсерваторией. Царский генерал Краснов поднял мятеж против Советской власти. Он хотел прорваться в Питер, и его разъезды уже подошли к Пулкову. Вместе с другими отрядами Красной гвардии и мы вышли навстречу врагу. И если бы не Красная гвардия, артиллерия мятежников сровняла бы с землей гордость русской и мировой науки – Главную астрономическую обсерваторию.
Наш отряд после разгрома врага еще несколько дней стоял на охране Пулковских высот. Жизнь обсерватории быстро налаживалась. Научные наблюдения продолжались как обычно, и один из сотрудников обсерватории предложил нам, красногвардейцам, осмотреть, как он выразился, «храм науки».
Впервые в жизни я был на экскурсии, впервые в жизни я взглянул на небо вооруженным глазом. Много лет прошло с тех пор, а я как сейчас помню себя у окуляра, помню яркий, трепещущий в меридианной сетке диск звезды.
Ночью, греясь у походного костра, я все поглядывал на небо, хмурое, осеннее, отягощенное тучами. Но сквозь тучи я видел, как пробирается по небу яркая звезда и подымается все выше и выше… Может быть, это была Вега?.. Я ведь тогда не знал названия звезд. Мысленно я назвал ее своей счастливой звездой. Подошел Волчок и тоже взглянул на небо…
А говорили мы в ту ночь о наших земных делах. Мечтали, делились планами. И я обещал своему командиру и другу, что буду учиться и овладею высотами человеческих знаний. Эта ночь многое решила в моей жизни…
– С тех пор вы и стали астрономом? – не выдержав, спросила Валя.
– Ну, до этого еще было очень далеко, – серьезно ответил Русанов. – Три года я воевал с врагами – с Юденичем, Колчаком, Деникиным, и только в двадцать втором году вернулся в Ленинград и поступил на рабфак, а потом в университет. В Пулково я пришел в начале двадцать седьмого года.
– А Волчок? Что стало с Волчком?! – закричали ребята.
– Он воевал на других фронтах, – ответил Русанов, – и больше я ничего о его жизни не знаю. Настоящий это был человек, пришедший к нам в Питер из маленького уездного города Чистова…
Русанов не закончил фразы. Сережа взволнованно вскочил:
– Из Чистова? – переспросил он. – Из нашего Чистова?
Русанов улыбнулся.
– А я и забыл, что ты тоже из Чистова… Да, в Чистове Волчок родился и вырос, там вступил в подпольную большевистскую организацию. Сколько я помню, – продолжал Русанов, пристально глядя на Сережу, – в нашем красногвардейском отряде были люди со всех концов страны: и москвичи, и питерцы, и нижегородцы, и сибиряки. Что же тут удивительного?
Сережа не отвечал. Ребята шумно благодарили Русанова, просили, чтобы в следующий раз он сам показал, как работает Служба времени.
Сережа не принимал участия в общем разговоре. Он стоял молча, наморщив лоб, нахмурив брови, и заново переживал рассказ Русанова. Ему казалось, что он взглянул в телескоп удивительной силы: прошлое придвинулось к нему совсем близко. В окуляре этого чудесного телескопа он видел молодого паренька в косоворотке, в смятом картузе, темной ночью пробиравшегося по кривым немощеным улицам уездного городка… И того же паренька в кепке, в кожанке, с винтовкой через плечо, идущего впереди отряда Красной гвардии. Дворцовая площадь… Смольный… Пулковские высоты. В окуляре этого телескопа нет центральной нити Пулковского меридиана, но куда более прочная связь соединяет Пулковскую обсерваторию с городом Чистовом.
Думал Сережа и о том, что от него самого зависит сделать эту связь еще более прочной. Не за горами время, когда он окончит школу, а потом вуз… Сергей Аксенов будет работать здесь, в Пулковской обсерватории… В павильон большого пассажного инструмента придет экскурсия десятиклассников, и Сергей Владимирович Аксенов, так и быть, ответит на их робкие вопросы…
– Ну как, Сережа? – спросил Русанов. – Приедешь еще раз к нам в Пулково?
– Спасибо, товарищ профессор. Обязательно приеду. Если только… – Он хотел сказать: «Если тетя Женя позволит», но ничего не сказал, боясь, что это может снова подорвать его репутацию.
Но Сережа напрасно заботился о своей репутации. На обратном пути в автобусе он был в центре внимания. Все расспрашивали его о городе Чистове, и Сережа отвечал, что это хороший и довольно большой город. Улицы в нем не такие широкие, как в Ленинграде, но дома есть тоже очень красивые, например Дом пионеров. А такого элеватора, как в Чистове, нет нигде больше в стране.
И сам Григорий Макарович подсел к Сереже и спросил его, нельзя ли будет в Чистове разузнать, кто из старых коммунистов был известен как «товарищ Волчок». Сережа ответил, что берет это на себя. Может быть, еще в Ленинграде удастся кое-что выяснить. У него есть тетя, то есть не его тетя, а двоюродная тетя его отца, она многое что помнит…
– Смотрите, смотрите! – закричала Валя, высовываясь из окна. – Вега видна! Счастливая звезда…
– Я бы выбрал для себя Полярную, – сказал Сережа.
– А я бы Капеллу…
– Чур, моя звезда Арктур!
И только сосед Сережи, флегматично надкусив яблоко, сказал:
– Звезды разделяются по степени яркости. Нет никаких счастливых или несчастливых звезд. Верно я говорю, Григорий Макарович?
Но Григорий Макарович на этот раз промолчал.
1953
Осколок в груди
1Бывают дни, когда по-особенному слитно чувствуешь себя с людьми. Такое чувство охватывает тебя Первого мая и Седьмого ноября, когда ранним утром ты идешь на Дворцовую площадь, и сталь на клинках кажется нежной и розовой, и трибуны – рукоплещут тебе, и вместе с тобой шагает Красная площадь в Москве, и площадь Мира в Волгограде, и площадь Ленина в Минске, и другие Красные, Ленинские и Октябрьские площади и улицы…
Но есть один день в году, который отмечает каждый советский человек без торжественных тостов, без звонкой меди, отмечает негромко, одним только своим неспокойным сердцем. Из года в год 21 июня я ложусь спать очень рано и ставлю будильник на четыре часа утра. Но просыпаюсь я раньше, и в три я уже на улице. Светло. Самая короткая ночь в году, самый длинный день.
Иду по городу и молча называю имена погибших товарищей.
Иду мимо знакомых окон, иду, трогая стены домов, гранитный парапет набережной, безумно радуясь, что этот город уцелел, что мы его отстояли.
Только один раз за все эти годы я встретил 22 июня далеко от Ленинграда.
Литва. Бывший пограничный городок Кибарты. Бывшая пограничная станция Вербалис. В дореволюционные времена – Вержболово. У многих русских писателей есть строчки добрые, трогательные, посвященные этим местам. Ведь Эйдкунен – конец Германии, Вержболово – начало России.
Эйдкунена давно уже нет, есть село Чернышевское Калининградской области. Нет, разумеется, и границы между селом Чернышевским и городком Кибарты. Просто две автобусные остановки. Километра два, два с половиной, не больше. Обыкновенное шоссе, вдоль него уютные одноэтажные и двухэтажные домики, сельпо, кафе, булочная, магазинчики, ручеек какой-то…
«На этом месте отряд пограничников 22 июня 1941 года до последней капли крови защищал Государственную границу СССР от напавших немецко-фашистских захватчиков».
Живые цветы у подножия скромного памятника. Тишина. Ночь. Самая короткая ночь…
Это началось здесь. Бойцы Кибартской комендатуры и несколько подразделений стрелковой дивизии были первыми защитниками Ленинграда. Я не оговорился. Именно отсюда группы фашистских армий «Север» и «Центр» нанесли первый удар в направлении Даугавпилс – Остров – Ленинград с задачей овладеть Ленинградом. На картах вермахта от этих мест стрелка – «Нах Петерсбург».
Пограничники держались почти трое суток. В Кибартах хозяйничали немцы, но к зданию комендатуры им было не подойти. Артиллерийским огнем немцы разрушили здание, пограничники продолжали отстреливаться из подвалов. Тогда в подвалы были брошены газовые шашки…
Там, в Кибартах, я встретился с замечательным человеком, разведчиком Николаем Алексеевичем Тихомировым. Он был ранен в этих местах 22 июня, но избежал плена. Его успели вывезти, он провоевал всю войну и дошел до Эльбы.
А жена его вместе с другими женами наших офицеров (немцы называли их «катюшами») пасла скот в Кибартах и жила в одном хлеву со свиньями. И там, в хлеву, родился сын Николая Алексеевича, названный в честь отца Николаем. Он уже давно Николай Николаевич.
В Кибартах я познакомился и с акушеркой Марией Расикевичиене, которая пришла в хлев, на рогожке приняла сына советского офицера и была наказана немецким командованием «за помощь врагу».
И всю ночь с 21 по 22 июня мы ходили со старшим лейтенантом запаса Тихомировым из Кибартов в село Чернышевское и обратно, и снова из Кибартов в село Чернышевское и без конца курили и рассказывали друг другу о войне.
2Война затронула каждого из нас. Само собой разумеется, что те, кому сейчас двадцать пять, воевать не могли. Но Коля Тихомиров, тот самый Коля Тихомиров, который родился в кибартском хлеву осенью сорок первого и которого уже давно величают Николаем Николаевичем, тоже испытал войну.
В сорок третьем, в Ленинграде, я познакомился с семилетней девочкой, Ларисой Федоренко, и до сих пор не могу забыть выражение ужаса в ее больших и чистых глазах.
Сорок третий считается у блокадников не таким тяжким, как годы сорок первый и сорок второй. В сорок третьем не было голода, в сорок третьем в Ленинград уже вернулся Большой Драматический и невозможно было достать билеты на пьесу Малюгина «Дорога в Нью-Йорк», на Невском открылся Сад отдыха, в котором уже многие поколения ленинградцев назначают свиданья, создавались концертные бригады: Вера Арманд, Настя Шрамкова…
В семье Ларисы Федоренко решили отпраздновать именины мамы – Антонины Афанасьевны (она заведовала детским садиком, о котором мне давно хотелось написать). Отлично помню не только дом, где жили Федоренко, но и комнату – большую тахту по одной стене и по другой две детские кроватки – Ларисину и младшего брата – Вити. Посредине комнаты – стол. Ближе к двери – шкаф, ближе к окну – пианино, совсем у окна небольшой столик и на нем клетка с птичкой.
Пришли гости – дедушка Иван Кузьмич Боровик, мамина сестра – Анна Афанасьевна Позолотина с подругой Анной Ивановной Соколовой. Сели обедать, и в это время начался артиллерийский обстрел и в дом один за другим попали пять фашистских снарядов. Первым снарядом были убиты Анна Афанасьевна Позолотина и ее подруга и тяжело ранены дед, мама и брат Витя. Второй снаряд разорвался в комнате домохозяйства и изувечил паспортистку Марию Федоровну Культяпину, третий разорвался в столовой и тяжело ранил официантку Ольгу Ивановну Смирнову, четвертый убил Нину Васильевну Калинину, пятый снаряд разорвался на улице, но тоже попал «в цель»: ранил двух мальчиков – Васю и Броню Архиповых.
Я был в госпитале, в котором вместе лежали Антонина Афанасьевна Федоренко и ее сын Витя, я был в детском садике, видел Ларису и навсегда запомнил ее глаза. Молодая воспитательница Александра Федоровна Гнесина показала мне рисунки детей. Алик Мищенко нарисовал танк, в котором сидят наши бойцы и стреляют по фашистам, Вова Степанов нарисовал наши самолеты, штурмующие Берлин, а Юра Егоров – наших артиллеристов. Никто из них не нарисовал фашистов – слава богу, они не знали, что фашисты выглядят так же, как выглядят люди. Но они знали, что все страшное и плохое происходит по вине фашистов. Ночью со звоном вылетают стекла в окнах детского садика – это делают фашисты. Напротив горит дом – это сделали фашисты… Видел я детские рисунки и не только о войне: был рисунок – солнце, и был рисунок – луна, и рисунок – мальчик стоит на фиолетовом кружке. Что это за фиолетовый кружок? Это трава… Никогда не видевший траву ребенок знал, что трава существует и что – зеленая или фиолетовая – она прекрасна…
И Юра, и Вова, и Лариса выросли. Но разве можно сказать, что их, невоевавших, не тронула война? У многих из них есть дети, но уверен, что и они с тревогой и надеждой берегут детские рисунки своих отцов.
Все вместе мы одно поколение людей, переживших и выигравших войну.