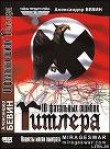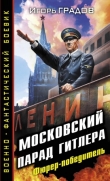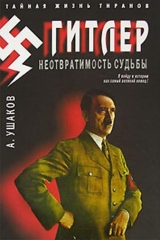
Текст книги "Гитлер. Неотвратимость судьбы"
Автор книги: Александр Ушаков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 60 страниц)
ЧАСТЬ II
НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Когда 28 июня 1914 года Попп сообщил за ужином Гитлеру об убийстве сербским студентом в боснийском городке Сараево наследника австрийского престола эрцгерцога Франца Фердинанда и его супруги, тот только равнодушно пожал плечами. Никакого дела ему до убиенного Франца не было. Но как только Германия и Австро-Венгрия объявили войну Сербии и России, от его равнодушия не осталось и следа. Его охватило радостное ощущение чего-то великого, и 1 августа вместе с тысячами мюнхенцев он устремился на Одеонс-плац, где состоялся грандиозный митинг. И когда какой-то офицер с портала королевского дворца объявил о всеобщей мобилизации, Гитлер долго махал шляпой в знак одобрения.
«Те часы, – вспоминал он позже, – показались мне избавлением от страданий, омрачивших мои молодые годы… Не стыжусь сказать, что я, охваченный бурным восторгом, пал на колени и от всего сердца возблагодарил небо за то, что оно даровало мне счастье жить в это самое время».
Это был тот редкий случай, когда Гитлер говорил правду. Да, он жил в последнее время сытой жизнью, но она не радовала его. Все эти парки, музеи и театры, которые он целыми днями копировал с фотографий, надоели ему. Но дело не в этом. Он мечтал о великой Германии, об освобождении немцев от евреев, марксистов и прочих недочеловеков, но в то же время он совершенно не чувствовал себя частичкой той самой нации, которую готовился спасать от бога Яхве и Маркса. И вот теперь, когда Германию охватил невиданный патриотический подъем, он с несказанным восторгом почувствовал, что война освободила его от повседневного однообразия и бесцельного существования.
В своих возвышенных чувствах он был не одинок. Судя по царившему в стране оживлению, то же самое чувствовали многие немцы, все политические разногласия были забыты, и выступавший 4 августа 1914 года в рейхстаге Вильгельм II заявил: «Я не знаю больше никаких партий, я знаю только немцев». Теперь, когда немцы уже не разделялись на партии и классы, а «само существование германской нации было под вопросом», Гитлер обратился к королю Баварии с просьбой разрешить ему служить в баварском полку. Надо ли говорить, какую он испытал радость, когда с разрешения его королевского величества он был зачислен в 16-й Баварский запасной пехотный полк под командованием Листа!
В октябре Гитлер принес присягу королю Баварии и императору Францу Иосифу I, а еще через две недели получил боевое крещение в битве при Ипре. Бои шли тяжелые, на пути рвавшейся к Ла-Маншу германской армии стояли отборные британские части, и счет погибших в полку шел на сотни человек.
«Влажная холодная ночь во Фландрии, – вспоминал Гитлер свой первый бой. – Мы идем молча. Как только начинает рассветать, мы слышим первое железное «приветствие». Над нашими головами с треском разрывается снаряд; осколки падают совсем близко и взрывают мокрую землю. Не успело еще рассеяться облако от снаряда, как из двухсот глоток раздается первое громкое «ура», служащее ответом первому вестнику смерти.
Затем вокруг нас начинается непрерывный треск и грохот, шум и вой, а мы все лихорадочно рвемся вперед навстречу врагу, и через короткое время мы сходимся на картофельном поле грудь в груд с противником. Сзади нас издалека раздается песня, затем ее слышно все ближе и ближе. Мелодия перескакивает от одной роты к другой. И в минуту, когда кажется, что смерть совсем близка, родная песня доходит и до нас, мы тотчас включаемся, и громко, победно несется: «Дойчланд, Дойчланд юбер аллес!» Через четыре дня мы вернулись в исходное положение. Теперь даже наша походка стала иной, шестнадцатилетние мальчики превратились во взрослых людей».
А вот что писал он о своих переживаниях мюнхенскому приятелю Эрнесту Хеппу: «В 6 утра мы около какой-то гостиницы встретились с другими ротами, а в 7 часов все и началось. Мы повзводно проходим через расположенный справа от нас лес и в полном порядке выходим на луг.
Перед нами вкопаны четыре орудия. Мы занимаем за ними позиции в больших окопах и ждем. Над нами уже свистит первая шрапнель и срезает деревья на опушке как соломины. Мы с любопытством глядим на все это. У нас еще нет настоящего чувства опасности. Никто не боится, все ждут сигнала «В атаку!» А дела становятся все хуже. Говорят, что уже есть раненые.
Наконец команда «Вперед!» Мы рассыпаемся цепью и мчимся по полю в направлении небольшого хутора. Слева и справа разрывается шрапнель, свистят английские пули, но мы не обращаем на них внимания. Залегаем на десять минут, а потом опять вперед. Бегу впереди всех и отрываюсь от взвода.
Сообщают, что убили рядового Штевера. «Вот так дела», – успеваю подумать я, и тут начинается. Поскольку мы находимся посреди открытого поля, нужно как можно быстрее бежать вперед. Теперь уже падают и первые среди нас.
Англичане направили на нас огонь пулеметов. Мы бросаемся на землю и медленно ползем по канаве. Иногда мы останавливаемся, это означает, что кого-то опять подстрелили, и он не дает двигаться вперед. Так мы ползем до тех пор, пока канава не кончается и опять надо выбираться на поле. Через
15-20 метров мы добираемся до большой лужи. Один за другим вскакиваем туда и занимаем позицию, чтобы отдышаться. Но залеживаться некогда.
Быстро выбираемся и марш-марш к лесу, до которого примерно 100 метров. Там мы опять собираемся вместе. Лес уже сильно поредел. Над нами свистят пули и осколки, и вокруг падают сбитые сучья и куски деревьев. Потом на опушке рвутся снаряды, поднимая облака камней, земли и песка, вырывая огромные деревья с корнями, а мы задыхаемся в желто-зеленом ужасном вонючем дыму. Вечно лежать здесь не имеет смысла. Если уж погибать – так лучше в поле. Мы снова бежим вперед.
Я прыгаю и бегу из всех сил по лугу, через свекольные грядки, перепрыгиваю через окопы, перелезаю через проволоку и кустарниковые заросли и вдруг слышу впереди крики: «Сюда, все сюда!»
Передо мной огромная траншея, и через мгновение я спрыгиваю в нее. Передо мной, за мной, слева и справа туда же прыгают и другие. Рядом со мной вертембержцы, а подо мной мертвые и раненые англичане. Теперь становится ясно, почему мне было так мягко спрыгивать. В 240-280 метрах слева от нас видны еще английские окопы, а справа – дорога, которая находится в руках англичан.
Над нашей траншеей беспрерывный железный град. Наконец в 10 часов начинает работу наша артиллерия. Пушки бьют одна за другой. То и дело перед нами снаряд попадает в английские окопы.
Англичане выскакивают как из муравейника, и мы снова бежим в атаку. Моментально проскакиваем поле и после рукопашной, которая местами была довольно кровавой, выбиваем их из окопов. Многие поднимают руки. Всех, кто не сдается, мы приканчиваем. Так мы освобождаем траншею за траншеей. Наконец выбираемся на большую дорогу. Слева и справа от нас молодой лес. Входим в него. Выгоняем оттуда целые своры англичан. Наконец доходим до места, где лес кончается, и дорога идет дальше по чистому полю. Слева стоят какие-то хутора, которые еще заняты противником, и по нам открывают оттуда ужасный огонь. Люди падают один за другим. Офицеров у нас уже нет, да и унтер-офицеров почти не осталось. Поэтому все, кто еще в состоянии, вскакивают и бегут за подкреплением.
Мы движемся через лес слева от дороги, по дороге не пройти. Четыре раза мы поднимаемся в атаку – и четыре раза вынуждены отойти. Изо всей моей команды кроме меня остается всего один человек. Наконец и он падает.
Мне отрывает выстрелом рукав кителя, но каким-то чудом я остаюсь живым и здоровым. В 2 часа мы идем, наконец, в пятую атаку и на этот раз занимаем опушку леса и хутор. Вечером в 5 часов мы собираемся вместе и окапываемся в 100 метрах от дороги.
Три дня идут бои, пока наконец на третий день мы не опрокидываем англичан. На четвертый день – маршируем назад. Только тут мы оценили, насколько тяжелы наши потери. За четыре дня наш полк сократился с трех с половиной тысяч человек до 600. Во всем полку осталось всего три офицера, четыре роты пришлось переформировать. Но мы были горды тем, что опрокинули англичан».
Англичан они опрокинули, но победа далась дорогой ценой: полк сократился на две трети, и в одном из боев погиб его командир. Зато почти все уцелевшие были представлены к награде за храбрость. Среди них и Адольф Гитлер, который получил Железный крест второй степени. А затем случилось то, что еще долго будут объяснять невероятной интуицией Гитлера, с помощью которой он выходил из самых безнадежных ситуаций. Когда представленных к награде солдат попросили войти в штабную палатку, Гитлер вдруг почувствовал себя очень неуютно. Вместо того чтобы следовать приказу, он повернулся и на глазах изумленных товарищей быстро пошел прочь. А вот объяснить им, что с ним случилось, он так и не смог: как только награжденные оказались в палатке, в нее ударил артиллерийский снаряд.
Через неделю история повторилась, и когда Гитлер со своим взводом устроился на обед в огромной воронке, один из солдат усмехнулся:
– Ну, здесь-то нас не достанут! Снаряды в одно место дважды не падают!
Однако Гитлер не разделял его веселья. Он как-то странно взглянул на приятеля и покинул воронку.
– Куда ты, Адольф, – спросил тот, – не терпится получить пулю?
«Я, – вспоминал позже Гитлер, – отошел на 20 метров, прихватив свой обед в котелке, снова сел и спокойно продолжил трапезу. Едва начав есть, я услышал взрыв в той части воронки, которую только что покинул. Шальная граната угодила именно в то место, где я только что обедал вместе со своими товарищами. Все они погибли».
В другой раз он неожиданно для всех вышел из палатки, где раздавали свежую почту. Через минуту артиллерийский снаряд разнес в клочья всех, кто находился в ней. Гитлер еще не раз избежит смерти благодаря удивительной способности чувствовать опасность, и поверившие в его провидение солдаты будут стараться держаться рядом, веря в то, что если рядом Гитлер, то гибель им не грозит. Эти чудеса продолжатся и позже, и фюрер благополучно избежит гибели после нескольких десятков покушений на него. После всех этих событий он еще более уверовал в свою избранность. Да и как не уверовать, если сама судьба его так бережно хранит!
* * *
Можно, конечно, по-разному относиться к провидению, но, похоже, оно и на самом деле хранило Гитлера для более важных свершений. Особенно если учесть, что он был связным между штабом полка и передовыми позициями. Это была одна из самых опасных военных специальностей – связные гибли десятками, и тем не менее Гитлер был очень доволен оказанным ему командованием доверием. «Служба, – писал он все тому же мюнхенскому приятелю, – здесь намного чище, хотя и опаснее».
Он оказался прекрасным солдатом, полк Листа стал для него «родным домом», и фюрер всегда будет вспоминать об этом «родном доме» с гордостью и тосковать по нему. Ему было чем гордиться: за четыре года войны он участвовал во многих боях и более чем тридцати крупных сражениях на Западном фронте. В отличие от своих товарищей по оружию, для которых война быстро превратилась в опасную и тяжелую работу, Гитлер мог со спокойной совестью сказать: «Кому война, а кому мать родна!» Целых два года он ходил по краю пропасти, не брал отпуска и не покидал переднего края, и его удивительная судьба продолжала хранить его. Словно насмехаясь над смертью, он умудрялся выходить из кромешного ада, где гибли тысячи, живым и невредимым. Его начальники были не прочь похвалить его и представить к наградам, но в то же самое время считали, что ему не хватает командирских качеств даже для унтер-офицера. Что, по всей видимости, и послужило причиной того, что Гитлер так и не поднялся выше ефрейтора. А вот товарищи по оружию называли его не иначе как чокнутым. И дело было не только в той глубокой задумчивости, в какой время от времени пребывал Гитлер. Куда больше их раздражали те патриотические речи, какими он изо дня в день мучил их. Странным казалось и то, что он никогда не принимал участия в разговорах о женщинах, вине и доме – у Гитлера на самом деле не было ни того, ни другого…
После первых военных неудач у него появилась новая тема, и он принялся терроризировать однополчан бесконечными рассуждениями о внутренних врагах и существовании международного еврейского заговора против Германии. Доставалось от него и еврейским социал-демократам, которые готовили «удар в спину» империи.
– У каждого из нас, – говорил он, – одно желание: чтобы как можно быстрее рассчитаться с этими бандитами, чего бы это ни стоило, и чтобы те из нас, кому повезет снова вернуться на родину, увидели ее очищенной от всяческой иноземщины, чтобы благодаря тем жертвам и страданиям, которые сотни тысяч из нас испытывают каждый день, и тем рекам крови, которые проливаются в борьбе с международным заговором врагов, мы не только разбили внешних недругов Германии, но чтобы рухнул и внутренний интернационализм.
Повторяя солдатам набившие оскомину лозунги официальной пропаганды, Гитлер казался солдатом, сошедшим со страниц патриотического календаря или агитационных листовок, какими были завалены окопы. Товарищи не понимали его. Одни считали его «больным на голову», другие видели в нем обыкновенного карьериста, который спит и видит, как бы ему заработать еще одну нашивку. Нельзя сказать, чтобы Гитлера сторонились, – наоборот, его считали неплохим товарищем, но он держался в стороне от других, отказывался от отпуска, не проявлял интереса к женщинам, не пил и не курил. Никому и в голову не могло прийти, что ему, достаточно образованному и в общем-то пуритански воспитанному, даже при всем желании было не так просто вписаться в грубую и циничную жизнь казармы. Да и как он еще мог себя вести, если его тошнило от тупого казарменного юмора и круглосуточных разговоров о бабах и пьянках. Как бы тяжело ему ни приходилось, он никогда не жаловался на опасности и продолжал демонстрировать так раздражавшее его сослуживцев гипертрофированное чувство долга. И не случайно один их служивших с Гитлером солдат как-то заметил: «Была среди нас одна белая ворона: мы честим войну на чем свет стоит, а этот наоборот».
Несмотря на некоторое отчуждение, сам Гитлер высоко ценил фронтовую дружбу и, как отмечал один из его биографов Иоахим Фест, именно в ней он обрел «тот тип человеческих взаимоотношений, который как нельзя лучше подходил его натуре». На протяжении всей своей жизни Гитлер так и не обзавелся настоящими друзьями, и именно поэтому казармы и окопы составляли для него ту среду, которая была близка как его мизантропической отчужденности, так и его стремлению к общению. По своей обезличенности серая армейская жизнь мало чем отличалась от пребывания в мужском приюте. Однако там Гитлер чувствовал себя изгоем, в то время как на войне осознавал себя частицей чего-то единого и неизмеримо великого, частицей могучей армии, частицей нации, что одновременно и низводило ценность жизни до минимума, и придавало особую значимость каждой отдельной личности. Вена показала Гитлеру, что значит быть люмпеном. Война открыла ему слияние личности с народом. До войны Гитлер чувствовал себя оторванным от социальной жизни и от той самой нации, о благополучии которой он так пекся. Зато теперь, когда перед всей нацией, а значит, и перед ним стояла великая цель, он преобразился. С болью вспоминая свое бесцельное и одинокое существование в Вене и в Мюнхене, Гитлер с радостью подчинился армейской дисциплине и наслаждался чувством защищенности и осознанием того, что он стал частью могучего целого, подчиненного великой цели – уничтожению врагов Германии. Война превратила его юношеские фантазии в реальность, и Гитлер испытывал гордость и воодушевление, видя себя в роли героя, готового умереть за Отечество.
«В детстве и в юности, – писал он, – я часто мечтал о возможности доказать, что мое национальное чувство не просто слова… Подобно миллионам соотечественников я испытывал радость и гордость от того, что мне надо пройти через это суровейшее испытание… Для меня, как и для каждого немца, именно с этого момента начался самый великий, самый незабываемой период в моей жизни…»
Но была и обратная сторона медали. Именно на войне, где лилась кровь и не было места жалости, Гитлер сделал для себя вывод, что борьба, жестокость и насилие являются высшим законом человеческой жизни. Каждый день он видел смерть и разрушения в самых неприглядных формах, и все увиденное им не только не отвратило его от этой веры, но, наоборот, укрепило его в ней. Именно поэтому за все военные годы он так ни разу и не высказал сожаления о загубленных десятках тысяч жизней и разрушенных городах и деревнях. Более того, он всю жизнь будет гордиться тем, что война не только закалила его тело, но и укрепила дух. Так и было на самом деле. Он ни разу не дрогнул за все время страшных испытаний и в конце концов превратился из юнца в закаленного и умудренного опытом ветерана, для которого такие понятия, как милосердие и сострадание, были пустым звуком. «Война, – считал он, – для мужчины означает то же, что рождение ребенка для женщины».
Судя по всему, Гитлер и сам уже не понимал, что не способен отличить жизнь от смерти, и его богом стала та самая некрофилия, о которой столько напишут после того, как он сделается фюрером. Кто знает, может быть, психоаналитики и правы: его воспоминания о войне как о самом счастливом времени жизни и восторг при виде разрушений превратились у него во всепоглощающую страсть…
ГЛАВА ВТОРАЯ
Как ни хранила Гитлера заботливая судьба, но осенью 1916 года он был ранен в бедро шальным осколком и отправлен в один из лазаретов в пригороде Берлина. Целых пять месяцев провел он в тылу, и это время стало одним из самых тяжелых в его жизни. И дело было не в ранении. Именно здесь, в тылу, Гитлер воочию убедился в том, насколько сильны в его стране ее внутренние враги. Спекулянты, призывавшие к поражению Германии в войне агитаторы, наглые тыловики, продолжавшие свою революционную деятельность социал-демократы, большинство из которых были евреями, – всех их он считал ничтожными людьми и главными виновниками того безобразия, которое творилось в тылу. И в то время, когда все истинные патриоты проливали кровь за будущее великой Германии, в тылу процветали взяточничество, спекуляция и царили пораженческие настроения, что, конечно же, не могло не шокировать проявлявшего на фронте чудеса храбрости ефрейтора.
«Здесь, – вспоминал он, – уже не пахло тем духом, который господствовал на фронте, здесь я впервые услышал то, что на фронте нам было совершенно неизвестно: похвальбу своей собственной трусости! Сколько ни ворчали, как ни крепко бранились солдаты, это ничего общего не имело с отказом от исполнения своих обязанностей, а тем более с восхвалением трусости. О нет! На фронте трус все еще считался трусом и никем другим. Труса на фронте по-прежнему клеймили всеобщим презрением, а к подлинным героям относились с поклонением.
Здесь же, в госпитале, настроение было уже прямо противоположным. Наибольшим успехом тут пользовались самые бессовестные болтуны, которые с помощью жалкого «красноречия» высмеивали мужество храброго солдата и восхваляли гнусную бесхарактерность трусов. Тон задавали несколько совершенно жалких субъектов. Один их них открыто хвастался тем, что он сам нарочно поранил себе руку у проволочных заграждений, чтобы попасть в лазарет. Несмотря на то что ранение было пустяковым, субъект этот находился в больнице уже давно, хотя все знали, что он попал сюда мошенническим путем. И что же? Этот негодяй нагло выставлял себя образцом высшего мужества и считал свой «подвиг» куда более ценным для родины, нежели геройская смерть честного солдата на фронте. Меня прямо тошнило от этих речей, но сделать ничего нельзя было: субъект этот спокойно оставался в лазарете. Больничное начальство, конечно, прекрасно знало, кто этот субъект, и тем не менее ничего не предпринимало».
Конечно, это была скорее реакция обиженного фронтовика, и ничего особенного или удивительного в тылу не происходило. Так было всегда и везде. Война продолжалась четыре года, объединивший поначалу немцев патриотизм в ходе ее заметно поубавился, и на поверхность всплыла пена. Сыграло свою роль и то, что для многих тысяч немцев соприкосновение с ужасами войны означало крушение прежних идеалов, в то время как сам Гитлер продолжал оставаться сверхпатриотом.
Не выдержав тягостной тыловой обстановки и толком не долечившись, он, к изумлению всего госпиталя, попросил отправить его на фронт. «Отныне, – заявил он высокому начальству, – моим домом является родной полк». Впрочем, была и еще одна причина его желания как можно скорее оказаться на фронте: Гитлер свято верил в победу Германии и очень боялся, что эта самая победа будет одержана без него. Его просьбу удовлетворили, и в марте 1917 года повеселевший Гитлер вернулся во Фландрию. И попал, что называется, с корабля на бал. Только кровавый. Вместе со своим полком он принял участие в ужасающем сражении за Аррас и в третьей битве под Ипре. Полк понес огромные потери, и в августе всех, кому посчастливилось выйти живым из этой мясорубки, отправили на отдых в Эльзас.
* * *
Тем временем обстановка в самой Германии накалялась с каждым днем. Революция в России и ее выход из войны усилили антивоенные и революционные настроения, и в январе 1918 года всеобщая политическая стачка охватила все индустриальные центры страны. Ее участники требовали заключения мира с Россией, амнистии политическим заключенным, немедленной отмены военной диктатуры и улучшения снабжения продовольствием. И внимательно следивший за всем происходившем в Германии из своего госпиталя Гитлер лишний раз убедился в наличии внутренних врагов и назвал забастовки рабочих ударом в спину Германии.
В марте новое правительство России приняло условия продиктованного Германией в Брест-Литовске мира, и Гитлер воспрянул духом. Теперь Верховное главнокомандование имело возможность сосредоточить свои основные силы на Западе и продолжить победоносную войну. Так оно и случилось. 21 марта 1918 года генерал Э. Людендорф начал наступление во Франции, и вскоре германская армия подходила к Парижу. Снова оказавшийся со своим полком на фронте Гитлер побывал во многих переделках, из которых очень немногие сумели выйти живыми. Он снова проявил себя и 4 августа 1918 года был награжден Железным крестом I степени «За личную отвагу и боевые заслуги». «В условиях и позиционной, и маневренной войны, – было написано в представлении к награде, – он являл собой пример хладнокровия и мужества и всегда вызывался добровольцем, чтобы в самых тяжелых ситуациях с величайшей опасностью для жизни доставить необходимые распоряжения. Когда в тяжелых боях обрывались все линии связи, важнейшие сообщения, несмотря на все препятствия, доставлялись по назначению благодаря неутомимому и мужественному поведению Гитлера».
Подобная награда в германской армии того времени была крайне редкой для ефрейтора, и Гитлер с гордостью носил выстраданный им Железный крест до конца своих дней.
Наступление развивалось успешно, временные успехи кружили солдатам голову, и никто не сомневался в окончательной победе. Но… силы германской армии были на исходе. 8 августа 1918 года британцы прорвали немецкий фронт под Амьеном, и Людендорф назвал эту дату «черным днем германской армии». Как и многие солдаты, Гитлер посчитал прорыв под Амьеном мелкой неудачей, после которой германская армия снова примется крушить врага. Но это были иллюзии, и уже в сентябре союзники начали наступление по всему фронту. Никакой паники в немецких войсках не было, они отступали в полном порядке, взрывая за собой мосты и дороги.
В середине октября 1918 года полк Гитлера попал под обстрел газовыми снарядами. «Мои глаза, – вспоминал он, – были как горячие угли, меня обступила темнота». Временно утратившего зрение героя отправили в госпиталь в Пазевальке. Но даже сейчас, когда все было уже кончено, Гитлер продолжал надеяться на победу и горел желанием вернуться на фронт.
Но повоевать ему больше не пришлось. Провал наступления во Франции вызвал сильнейшее брожение в Германии. Экономика страны разваливалась, немцы окончательно утратили веру в кайзера и генералов, рабочие бастовали, армия и флот разлагались. В стране назревал революционный взрыв, и уже 29 сентября 1918 года Э. Людендорф заявил на совещании в ставке Верховного главнокомандования, что армия начинает выходить из повиновения и единственное спасение – быстрое заключение перемирия.
Через президента США Г. Вильсона 5 октября 1918 года Германия запросила перемирия, и союзники сразу же показали, кто отныне будет командовать парадом, заявив, что вести переговоры они будут только с парламентским правительством. Вильгельм II возмутился и… поручил создание нового кабинета министров принцу Максу Баденскому, известному либералу и стороннику реформ, в правительство которого впервые вошли социал-демократы.
М. Баденский, верный своим принципам, приступил к демократизации немецкой политической системы. Но… было поздно. 3 ноября вспыхнуло восстание матросов в Киле, и всего за неделю революция охватила всю страну. Попытка кайзера и Верховного главнокомандования подавить революционные выступления вызванными с фронта частями потерпела провал и выявила полную ненадежность армии.
Сложно сказать, на что надеялся кайзер, но даже теперь, когда под ним зашатался трон, он и не думал отрекаться от престола, передавать власть социал-демократам и назначить выборы в Национальное собрание, на чем настаивал рейхсканцлер. Отчаявшийся сломить сопротивление Вильгельма II М. Баденский пошел на подлог и в опубликованной им прокламации сообщил об отречении кайзера и назначении им новым канцлером лидера СДПГ Ф. Эберта. Вильгельм II был вынужден бежать в Голландию.
Утром 9 ноября прекратили работу почти все промышленные предприятия Берлина. Заполнившие берлинские улицы рабочие и солдаты шли к центру города. 10 ноября 1918 года власть в Берлине перешла в руки Социал-демократического совета народных уполномоченных из шести человек, который опирался на поддержку рабочих и солдатских советов и в который вошли по три представителя от Социал-демократической (СДПГ) и Независимой социал-демократической (НСДПГ) партий Германии. Германской империи больше не существовало.
Что же касается любимой Гитлером Баварии, то 7 ноября 1918 года она была объявлена республикой. Временное правительство возглавил журналист и театральный критик, лидер НСДПГ Курт Эйснер. Бывший король Людвиг III освободил всех офицеров, солдат и чиновников от данной ему присяги, и регулярная армия «в силу своего убеждения безоговорочно и честно перешла на службу народному государству». Ну а сам монарх благополучно бежал за границу.
11 ноября 1918 года было подписано Компьенское перемирие. Германия в течение месяца должна была очистить от своих армий Эльзас, Лотарингию, Бельгию, Люксембург и левобережье Рейна. Она была обязана выдать победителям 5000 пушек, 25000 пулеметов, 3000 минометов, 1700 самолетов и все дирижабли, 5000 паровозов, 150000 вагонов, 5000 автомобилей, всю бронетехнику и химическое оружие. Германский флот должен был направиться для сдачи союзникам в указанные в соглашении порты. Пока это были только условия перемирия, но мало кто сомневался в том, что условия самого мира будут намного жестче.
Так прекратил существование созданный гением Бисмарка Второй Германский рейх. Начавшаяся с мятежа матросов в Киле, отказавшихся выполнить приказ о самоубийственном выходе в море для сражения с британским флотом, революция быстро распространилась по всей Германии. И, конечно, она имела свои причины. Провозглашенный в августе 1914 года «гражданский мир» мог сохраняться только до тех пор, пока существовала вера в скорую победу. Но надежды на нее улетучивались в той мере, в какой ухудшалось положение народа. Недовольство проявляли все: рабочие военных заводов и средние слои, ремесленники и мелкие торговцы, служащие, чиновники и крестьяне, у которых все большее раздражение вызывали непосильный труд, нехватка рабочей силы, низкие закупочные цены и спекуляция продуктами.
В глазах большинства немцев старый режим казался не способным ни на что, а потому защищать его не было смысла. Все чаще раздавались требования отречения кайзера. Стремление к заключению мира дополнялось надеждами на демократизацию страны. Ни о какой социалистической республике речь, конечно же, не шла. Нация удовлетворилась бы установлением мира и буржуазной демократии. Поэтому можно с известной долей истины утверждать, что немецкая революция была стихийным выступлением смертельно уставших от войны и лишений людей. Никто ее не только не готовил, но и не ожидал.
Не ожидал подобного развития событий и продолжавший лечиться Гитлер. Не ожидала столь трагического исхода и германская армия. Успешно начатое наступление вселяло в солдат надежду на победу, и даже временные, как всем тогда казалось, неудачи в сентябре не поколебали их уверенности в преимуществе германского оружия. Правители Германии до самого последнего момента скрывали от страны истинное положение дел. Ничего не знала о грядущих переменах и армия, которая находилась за границами Германии и продолжала сохранять известный порядок. И как только было объявлено о поражении в войне и подписано позорное перемирие, в стране сразу же заговорили о «ноябрьских» преступниках, которые всадили Германии нож в спину. И самой обиженной чувствовала себя армия, посчитавшая, что у нее украли победу.
Для самого Гитлера это был двойной удар, если вспомнить о том восторге и чувстве освобождения, какие принесла ему война. После долгих неудач и разочарований он наконец-то обрел цель и смысл жизни и почувствовал причастность к тому великому целому, каким для него была германская нация. И вот теперь все, во что он верил и чем жил, в одночасье было разрушено. Он снова оказался изгоем. Гитлер держался до последней минуты, и даже после того, как восстали матросы на германских военных кораблях и были учреждены Советы солдатских и рабочих депутатов, все еще продолжал на что-то надеяться.
Но увы… 10 ноября 1918 года к раненым пришел заплаканный капеллан и сообщил, что война проиграна, кайзер отрекся от престола, в Германии провозглашена республика, а новому правительству предстояло принять предложенные Антантой условия перемирия.
Гитлер был настолько потрясен, что ослеп. «Почтенный старик, – писал он позже, – весь дрожал, когда говорил нам, что дом Гогенцоллернов должен был сложить с себя корону, что отечество стало «республикой» и что теперь нам остается только молить Всевышнего, чтобы Он ниспослал благословение на все эти перемены и чтобы Он на будущие времена не оставил наш народ.