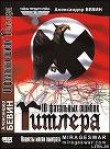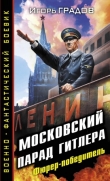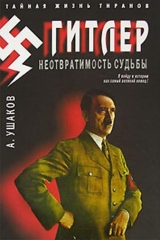
Текст книги "Гитлер. Неотвратимость судьбы"
Автор книги: Александр Ушаков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 60 страниц)
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Раз уж мы заговорили о буржуазии, самое время затронуть и другую связанную с ней весьма интересную тему: Гитлер и деньги. Мы помним, как старые соратники Гитлера неоднократно пытались выяснить, на что жил их товарищ, отказавшийся получать жалованье за свою работу в партии. Поскольку в рейхсвере он больше не числился, на какие средства мог существовать «художник» Гитлер, который после войны не продал ни одной своей картины?
Ответ прост до банальности: на подаяния, и весьма щедрые. Поначалу ему подавали жены богатых людей, а затем и сами богатые люди. Когда все это началось? Этого сегодня уже не скажет никто. Одни биографы Гитлера считают, что деньги к нему потекли уже в 1920 году после его поездки в Берлин, где Эккарт ввел его в богатые дома. Другие утверждают, что это произошло несколько позже. Но в том, что начало гитлеровскому благополучию положила жена владельца всемирно известной фирмы по производству музыкальных инструментов Карла Бехштейна Хелена, не сомневается никто.
Но и на этот счет существуют две версии. Согласно первой – Эккарт познакомил Гитлера с семейством Бехштейн после их памятного совместного полета в Берлин в марте 1920 года. Сторонники другой версии утверждают, что это произошло гораздо позже, чуть ли не в 1923 году, и ссылались на то, что Гитлер тогда очень нуждался, и имей он такую благодетельницу, как Хелена Бехштейн, вряд ли бы занимал деньги у Геринга на праздничную экскурсию в горы на Пасху. Но как бы там ни было, 3 апреля 1923 года газета «Мюнхнер Потс» с иронией и возмущением писала, что «втрескавшиеся в Гитлера бабы» занимали или даже дарили ему деньги, а также «делали взносы не только наличными».
Впрочем, все это не столь важно. Главное – Гитлер наконец-то вырвался из душной атмосферы пивных и кафе и появился в высшем свете. Оказавшись в роскошном салоне увешанной бриллиантами, словно новогодняя елка игрушками, Хелены, где было много известных и богатых людей, Гитлер растерялся. «Я, – рассказывал Адольф своему приятелю Путци Ганфштенглю, – в своем синем костюме чувствовал себя довольно неловко. Официанты все были в ливреях, а перед подачей блюд мы не пили ничего, кроме шампанского. В ванной все краны позолоченные, вы себе представляете, можно регулировать температуру воды, как тебе заблагорассудится!»
Натянуто улыбаясь, он нашел в себе силы поцеловать руку у взиравшей на него с одобрительной улыбкой Хелены, делавшей вид, что она не замечает ни стеснения своего нового знакомого, ни его диковинного одеяния. Но как только закончились общие разговоры, и гости заговорили о политике, Гитлер преобразился и явил себя в полном блеске. Эккарт только одобрительно покачивал головой, видя, что он завладел не столько умами, сколько душами слушавших его людей. Каждое произнесенное им слово било точно в цель, заставляя всех этих лощеных господ забыть о провинциальном синем костюме, несвежем воротничке и не совсем чистой речи новоявленного Савонаролы. Нет, не зря он поставил на этого ефрейтора, не знавшего страха на фронте!
В тот вечер Гитлер завладел не только общим вниманием, но и душой Хелены Бехштейн, смотревшей на него с таким восхищением, что ее муж то и дело морщился. Ничего странного в восхищении Хелены не было. Националистические идеи были близки ей самой, и очень скоро она станет одной из самых активных организаторов и членов группы общественных и финансовых покровителей Адольфа Гитлера. Она часто приезжала в Мюнхен, и Гитлер провел не один вечер в ее роскошном номере отеля «Байришерхоф». Она же ввела Гитлера в высшее общество Мюнхена, где он познакомился с состоятельными промышленниками, банкирами и высокопоставленными чиновниками Баварии и, что было для него куда важнее, с их женами.
Трудно сказать, чем на самом деле Гитлер покорил сердце Хелены, но она была от него без ума и даже собиралась… усыновить «сироту». Но вмешался муж, который в довольно строгих выражениях попросил жену вести себя более осмотрительно. Неизвестно, питала ли Хелена к Гитлеру только материнские чувства, но денег давала ему предостаточно. И не только денег.
– Наряду с регулярной финансовой поддержкой, которую мой муж оказывал НСДАП, – заявит она на судебном процессе после провала «пивного путча», – я помогала господину Гитлеру значительными пожертвованиями не только в виде денег. Например, я отдавала в его распоряжение произведения и предметы искусства, с которыми он мог поступать как ему хотелось. Это были дорогостоящие вещи…
Еще одной «подругой-мамой» Гитлера стала жена известного издателя Гуго Брукмана, который наряду с книгами по искусству охотно издавал опусы зятя Рихарда Вагнера англичанина Хьюстона Стюарта Чемберлена, считавшегося откровенным фашистом. Как и Хелена Бехштейн, Эльза, как звали жену Брукмана, была восторженной почитательницей национал-социализма и его лидера.
Впрочем, Гитлера мало волновали ее взгляды – его больше привлекала возможность как следует «подоить» эту восторженную дурочку, которая буквально смотрела ему в рот. И он умело «доил» Эльзу, чуть ли не каждый день получая от нее щедрые подачки.
Эльза оказалась не только эмансипированной, но и чрезвычайно ревнивой особой. Стоило ей только на одном из вечеров заметить, как за Гитлером увивается ее подруга, тот больше никогда ее уже не видел. Конечно, ему было наплевать на эту женщину, и тем не менее он больше ни разу не подал Эльзе повода для ревности, дабы не перекрыть таким образом ту полноводную реку, по которой к нему плыли очень хорошие деньги.
Ценил Гитлер и госпожу фон Зейдлиц, которая являлась совладелицей какой-то фабрики и отдавала для нужд партии и фюрера буквально последнее.
Не оставил он без внимания и Винифред Вагнер, супругу сына знаменитого композитора, с которой его свела все та же Хелена Бехштейн и которая стала одним из первых членов нацисткой партии и страстной поклонницей Гитлера.
С легкой руки Хелены Гитлер сделался завсегдатаем мюнхенских гостиных и салонов, и теперь ни один вечер не обходился без него. Не пригласить к себе народного трибуна считалось признаком дурного тона. Тонко чувствуя ситуацию, Гитлер всегда говорил то, что от него хотели услышать. Он тщательно готовился к каждому своему выходу в свет.
«Мы, – вспоминал известный историк Карл Александер фон Мюллер, – сидели в салоне, когда прозвенел дверной звонок. Дверь открылась, и мы увидели, как в коридоре Гитлер с почти подобострастной угодливостью поздоровался с хозяйкой дома, как он положил на столик собачью плетку, снял велюровую шляпу, затем отстегнул портупею с револьвером и повесил все это на крюк вешалки. Мы еще не знали, насколько каждая мелочь в его одежде и поведении была уже тогда рассчитана на внешний эффект».
И все же, наверное, не зря существует пословица «Сколько волка ни корми, он все в лес смотрит». Так было и с Гитлером. Появляясь в высшем свете, он постоянно наступал на горло собственной песне, прекрасно понимая, что в случае его бунта двери этого света для него могут закрыться навсегда. Но иногда он срывался, и тогда изумленные посетители гостиных и салонов видели перед собой настоящего Гитлера: бесноватого и плохо владеющего собой. Как всегда в подобных случаях, Гитлер одарил хозяйку вечера огромным букетом благоухающих роз и непринужденно поддерживал светскую болтовню. До поры до времени беседа текла довольно плавно, но стоило только хозяйке отозваться о евреях в самых дружественных тонах, как Гитлер взорвался.
«Тут, – вспоминал один из очевидцев этого неприятного инцидента, – Гитлер заговорил, а говорить он мог бесконечно. Отшвырнув стул, он вскочил и заорал таким пронзительным голосом, какого мы еще у него не слышали. От его крика в соседней комнате проснулся и заплакал ребенок. Вдруг Гитлер смолк, подошел к хозяйке, извинился перед ней, поцеловал на прощание руку и быстро вышел, не удостоив присутствующих даже взглядом».
Гитлер собирал дань со своих любвеобильных дам. Больше всего его любили женщины уже даже не бальзаковского, а зрелого возраста, которые летели к нему словно мотыльки на огонь. Гитлера, конечно, привлекало то, что он с легкостью мог теперь получать очень приличные деньги. Не надо было целыми днями корпеть над рисунками, а потом бегать и продавать их, испытывая каждый раз унизительное чувство от того, что тебе дали намного меньше.
* * *
Однако Гитлер успешно «доил» в те времена не только своих «мамок», и тому существует немало доказательств. Так, довольно известный в свое время английский депутат Морель был уверен, что через своих агентов Гитлер получал деньги из неких французских источников, о чем ему якобы стало известно от одного из французских министров. Это было вполне возможно: с помощью денег французские спецслужбы могли использовать нацистов в Рейнской области.
Имелись у фюрера щедрые спонсоры и в Судетской области, и в Италии, где его уполномоченный Курт Людке выпрашивал итальянские лиры у симпатизировавших нацистам фашистов. Хотя на самом деле отношения между ними оставляли желать лучшего. Потомки римлян смотрели на обезьянничавших по ту сторону Альп тевтонов с презрительной усмешкой. А после того как нацисты взяли у них «древнеримское приветствие» в виде выброшенной вперед правой руки, Муссолини назвал Гитлера Цезарем в тирольской шляпе.
Но больше всего денег Гитлер получал из Швейцарии, где от его имени работал некий Эмиль Гансер, с которым Гитлер познакомился в 1921 году в Берлине. Гансер служил директором концерна «Сименс унд Гальске» и в 1923 году отправился в Швейцарию, где встречался с видными лютеранскими последователями Цвингли. Судя по всему, он пугал швейцарских протестантов той самой угрозой, какую для них могла представлять «расширенная католическая Дунайская монархия, отделившаяся от протестантской Пруссии». Этого, по словам Гансера, добивалась Франция, поддерживавшая сепаратистские настроения в Южной Германии. И, если правители кантонов не хотели иметь крупные неприятности, им, по уверениям Гансера, следовало всячески поддерживать «простого рабочего и надежного республиканца Адольфа Гитлера», который не допустит никакого отделения.
Почва была подготовлена, и собирать пожертвования на дело своей партии и «протестантской Пруссии» в Швейцарию отправился сам Гитлер. В Цюрихе он проживал в роскошном отеле «Baurau Lac», где его обслуживал приставленный к нему лакей. А вечерами после обильных ужинов Гитлер пересчитывал толстые пачки денег, которые ему приносили в номер в чемоданах.
Имевший рекомендательные письма в лучшие дома, Гитлер целыми днями мотался по банкирам, фабрикантам и прочим деловым и влиятельным в мире бизнеса людям. Из этих поездок он возвращался с туго набитым мешком, в котором были и марки, и кроны, и лиры, и, конечно же, столь любимые им доллары. Никаких расписок Гитлер не давал и в конце своего путешествия утомился до того, что даже перестал пересчитывать деньги. Все деньги он отдавал Аманну, зная, что тот не только не обманет его, но и выдаст ему в нужный момент необходимую сумму на поддержание жизни. Как утверждает В. Шварцвеллер, автор известной книги «Деньги Гитлера», Гитлер совершил несколько таких поездок и из каждой привозил огромные по тем временам суммы, которые охотно давали ему самые знатные люди. Чего стоил один герцог фон Аренберг, который на своем архаичном «Бенце» возил Гитлера к его благодетелям! Ну а после того как членами нацистской партии стали герцог и герцогиня Кобургские, акции Гитлера поднялись еще выше.
Задевало ли его то, что по сути дела он стал политическим альфонсом? Думается, вряд ли. Угрызения совести он мог успокоить тем, что в конечном счете все делал на благо партии. К концу 1923 года Национал-социалистическая партия Германии насчитывала более 15 тысяч членов, и даже если все они платили членские взносы (что маловероятно), то партия все равно не могла существовать на эти крохи.
* * *
Что касается гитлеровских благодетельниц, то тут все более или менее ясно: страсть, любовь и прочая лирика. Но что обо всем этом думали их мужья, которые занимали далеко не последние места в социальной иерархии Мюнхена? Тем более что их деньги шли к тому самому человеку, который, пусть и формально, числился социалистом и по определению был обязан бороться с той самой частной собственностью, от владельцев которой и получал все свои щедрые подачки. Об этом было записано в его же собственной программе.
Говорят: что написано пером, не вырубить топором. Вырубить, может, и нельзя, а вот забыть можно. Гитлер напрочь позабыл о легкомысленных пунктах своей программы. В своих речах на званых приемах и в роскошных гостиных он даже не заикался ни о какой борьбе против частной собственности. Наоборот! Он воспевал ее и обещал сделать все для ее сохранения после прихода к власти. Один из крупнейших мюнхенских промышленников, тайный советник коммерции Герман Ауст на следствии по делу о пивном путче Гитлера свидетельствовал:
– Однажды в бюро тайного советника доктора Куло (синдика союза баварских промышленников) состоялось совещание с Гитлером, на котором кроме Куло присутствовали также доктор Наль, председатель союза баварских промышленников и я… На совещании должны были обсуждаться негласные цели Гитлера в области хозяйства. За этим совещанием последовало также небольшое совещание в Клубе господ, а затем – более многочисленное собрание в купеческом казино. Господин Гитлер выступил там с речью о своих целях. Речь его встретила большое сочувствие, оно проявилось также в том, что некоторые из присутствующих, незнакомые еще с Гитлером, но предполагавшие с моей стороны такое знакомство, вручили мне пожертвования в пользу его движения и просили передать Гитлеру. Насколько я помню, среди прошедших через мои руки пожертвований были также швейцарские франки…
Комментарии, как говорится, излишни, и вряд ли Гитлер на всех этих совещаниях проповедовал социалистические идеи. Более того, он уже тогда начинал расходиться с теми, кто искренне верил в социализм и отошел от партийной установки принимать пожертвования без каких бы то ни было условий. И то, о чем он говорил на тайных вечерях с промышленниками и банкирами, для многих членов партии навсегда оставалось тайной. Хотя догадываться они, конечно, могли. Как бы там ни было, ставленники Гитлера (особенно в штурмовых отрядах) получали часть жалованья в валюте.
Все пожертвованные на движение деньги направлялись лично Гитлеру, и о том, как они расходовались, знали только он сам и его казначей Аманн. Со временем фюрер обнаглел до того, что получение бумажных денег воспринимал как дурную шутку. Брать он их, конечно, брал, но лишь для оплаты долгов. Истинную ценность для него представляли только валюта, золото и драгоценности. Далеко не случайно он близко сошелся с неким Рихардом Франком из берлинской фирмы «Корн-Франк», которая выгодно превращала приобретенные Гитлером драгоценности и золото в доллары.
Из-за этих денег время от времени у Гитлера возникали ссоры со старыми лидерами партии. Но напрасно второй председатель партии Якоб пытался добиться хоть какой-то правды – он так ничего и не узнал.
Нельзя не сказать и о том, что чуть ли не с первого дня своего существования нацистская партия предъявляла всем своим челном весьма жесткие финансовые требования. Руководители местных отделений должны были работать по много часов бесплатно (гауляйтерам начали платить из партийных средств только с 1929 года), их рабочие поездки не оплачивались и с них требовали не только проводить митинги, но и собирать деньги для партийной казны. Членов партии и сочувствующих то и дело донимали всевозможными беспроцентными займами и взимали с них плату на митинги и сборища, на которых после выступления Гитлера собирали деньги в фонд партии. В донесениях полицейских агентов сообщалось, что суммы, взимаемые с людей даже скромного достатка, «граничили с невероятным».
Никакая партия не осмеливалась на подобное, но Гитлер и здесь пошел своим путем – такой сбор, а по сути изъятие средств, объяснял тем, что его партия является истинно народным движением. Сам он по этой причине претендовал на роль «Trommler zur Deutschheit» – «барабанщика германского духа».
Конечно, Гитлер мог весьма безбедно существовать на подачки своих «мамок», как он сам называл благодетельниц, но содержать на них движение он не мог. Инфляция и ширившееся движение требовали больших затрат, и после того как рейхсвер стал выплачивать деньги штурмовикам «крайне нерегулярно», положение Гитлера осложнилось. Ни одно политическое течение, каким бы привлекательным оно ни было, не может существовать и уж тем более победить без денег. Гитлер понял это уже на заре своей довольно туманной политической юности, когда получил первую подачку…
Что же касается немецкой буржуазии, то поначалу она не была контрреволюционной. Переход на «почву фактов» и признание Веймарской республики отнюдь не было актом трусости. Скорее оно явилось молчаливым согласием и готовностью признать великие события. Вся беда заключалась в том, что никаких великих событий со стороны революционеров так и не последовало, после чего буржуазия начала действовать так, как это и было заложено в ее природе, то есть контрреволюционно. Как только революционеры обманули ожидания нации, буржуазия быстро осознала совершенную ею ошибку и полностью подтвердила ту самую характеристику, которую дал немцам Богумил Гольтц. «Наш народ, – писал он, – имеет уравновешенный темперамент, в мыслях склонен к крайностям, легко приходит в возбуждение благодаря фантастическим представлениям и воспоминаниям о прошлом, а в результате его мучат раскаяние и угрызение совести». Некоторые историки и по сей день уверены в том, что национал-социализм есть не что иное, как нечистая совесть германской буржуазии. И особенно, по их мнению, этой нечистой совестью отличалась мюнхенская буржуазия.
Как известно, вождем революции в Баварии был еврей из Северной Германии Курт Эйснер, идеалист и мечтатель, влюбленный в душу баварцев. Многие баварцы отвечали ему взаимностью, недаром за его фобом шли сотни тысяч искренне горевавших о нем людей. Но как только политический климат изменился, вся масса политических настроений баварцев, испокон веков отличавшихся спокойным темпераментом, почти полностью направилась в другую сторону. Такой характер народа и предопределил его судьбу: он дольше всех вел германскую революцию – вплоть до советской республики, а затем дольше всех контрреволюцию – до путча Гитлера и его окончательной победы.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
До этой победы оставалось еще десять лет борьбы, и все это время Гитлер трудился в поте лица. Помогали ему и его сподвижники, среди которых появились два новых лица: Эрнст Ганфштенгль и русский немец Макс Эрвин фон Шойбнер-Рихтер.
Ганфштенгль, по прозвищу Путци, принадлежал к зажиточной семье, которая владела магазинами, торговавшими литературой и предметами искусства. Путци учился в Гарварде и намеревался закончить свое искусствоведческое образование в Мюнхенском университете. Он увлекся идеями Гитлера и вступил в его партию. Гитлеру его новый приятель тоже нравился. Помимо политики оба любили искусство, и Гитлер любил слушать, как Путци исполнял его любимого Вагнера. Не забывал он и о презренной материи и в один прекрасный вечер пожаловался Путци, что не может приобрести нового оборудования для своей газеты.
– Подумать только, – сокрушался он, – какая-то тысяча долларов – и «Фелькишер беобахтер» будет выходить каждый день!
Трудно сказать, говорил он это искренне или с прицелом на богатого приятеля. Вернее всего, с прицелом – тот и сам прекрасно знал о далеко не самом блестящем финансовом положении партии. Тем не менее только что получивший за очередную сделку полторы тысячи долларов Путци все понял как надо. «На следующий же день, – вспоминал он, – я пришел к Аманну и вручил ему эту сумму в долларовых банкнотах. И Аманн, и Гитлер были вне себя от радости. Гитлер даже воскликнул: «Какая великодушная щедрость, Ганфштенгль! Мы этого никогда не забудем!»
Однако Путци был далеко не так прост, как могло показаться на первый взгляд, и потребовал в обмен на деньги закладную на имущество партийной газеты, весьма прозрачно намекнув при этом, что не прочь занять должность главного редактора вместо часто болевшего Эккарта. И когда Гитлер назначил на это место Розенберга, Путци обиделся, но отношений с Гитлером не порвал и стал его секретарем по связям с общественностью и иностранными журналистами. Подавив досаду, он сумел подняться над личным и продолжал относиться к Гитлеру с тем же пиететом, какой испытывал к нему с первого дня их знакомства.
А вот Гитлер, судя по всему, не слишком уважал щедрого приятеля и… приударил за его женой. Путци был поражен, застав в один прекрасный вечер в салоне собственного особняка своего шефа на коленях перед изумленной такой странной выходкой Элен. Последовал неприятный разговор, и Гитлер дал обещание держать себя в рамках приличия. В отличие от многих других женщин Элен отнеслась к ухаживанию Гитлера скорее с иронией, но именно она спасла ему жизнь, когда после провала путча Гитлер намеревался застрелиться. Когда он поднесет руку с пистолетом к виску, прекрасно владевшая приемами дзюдо Элен успеет вырвать у него пистолет (о чем после начала Второй мировой войны будет очень жалеть). Если, конечно, Гитлер на самом деле хотел застрелиться…
Торжественно пообещав оставить супругу приятеля в покое, Гитлер вступит в связь с его сестрой Эрной, дамой весьма привлекательной внешности, внимания которой добивались многие мужчины из высшего мюнхенского общества. Но это будет уже после его выхода из тюрьмы.
Довольно близко Гитлер сошелся и с Максом фон Шойбнер-Рихтером, которого фон Лоссов называл «темным авантюристом». В свое время Макс служил в казачьем полку и принимал участие в подавлении революции 1905 года в России. Волею судеб он оказался в Мюнхене, изучил инженерное дело, потом вступил в феодальный баварский полк и получил германское подданство. После провала «капповского путча» Эрвин появился в русской колонии Мюнхена, где его и нашел Альфред Розенберг.
По его собственным словам, Шойбнер-Рихтер настолько поддался «гипнотической силе» Гитлера, что посчитал его «пророком новой Германии» и вместе с супругой вступил в нацистскую партию. Он оказался весьма ценным приобретением, поскольку был на дружеской ноге со многими влиятельными людьми в Германии, включая таких промышленных магнатов, как Рейш и фон Тиссен. Именно ему удалось (так, во всяком случае, гласила запись одного из направленных в Баварскую государственную канцелярию донесений) собрать для партии «невероятно крупную сумму денег». И, когда в роковой для нацистов день 9 ноября Шойбнер-Рихтер будет убит шальной пулей, Гитлер искренне скажет: «Он был для меня единственным незаменимым человеком».
Оно и понятно. Бывший кавалерист был в хороших отношениях со многими русскими эмигрантами и получал пожертвования от российских промышленников, среди которых выделялись владельцы нефтяных промыслов на Кавказе. В списке лиц, которые давали ему деньги, значились такие тузы, как Нобель, Гукасов, барон Кеппен и герцог Лейхтенбергский.
Шойбнер-Рихтер познакомил Гитлера с одним из самых влиятельных русских эмигрантов – генералом Василием Бискупским. Ярый антисемит и антикоммунист, генерал увидел в Гитлере воплощение народного вождя, способного увести массы от коммунизма. Он с превеликой радостью поддерживал все начинания Гитлера и познакомил его с состоятельными спонсорами, в частности, с владельцем нефтяного концерна «Шелл» Генри Детердингом. Впрочем, Бискупский не только восхищался Гитлером, но и преследовал собственные цели, намереваясь покончить с его помощью с большевиками в России.
Генерал представил Гитлера претенденту на российский трон великому князю Кириллу Владимировичу, сыну великой герцогини Мекленбургской. Его жена, великая герцогиня Виктория, была не только движущей силой борьбы мужа за трон, но и ярой национал-социалисткой. Она часто ездила за границу собирать пожертвования на «святое дело» реставрации российской монархии. Не забывала она и о нуждах нацистов и, как поговаривали, одно время опекала Гитлера больше, чем мужа, даря ему дорогие ювелирные изделия. И как знать, не обсуждали ли уже тогда русские эмигранты с фюрером планы свержения большевизма и восстановления монархии. Ведь это сегодня кажется фантастикой, а тогда люди хватались за любую соломинку. Разве мечты самого Гитлера не казались тогда, в 1923 году, бредом сумасшедшего? А ведь этот бред оказался самой что ни на есть реальностью…
* * *
Как и многие другие черносотенцы, Шойбнер-Рихтер был отъявленным антисемитом и мечтал о свержении жидовского режима в России и крушении мирового еврейского заговора, о котором шла речь в сфабрикованных царской охранкой знаменитых «Протоколах сионистских мудрецов», в те годы получивших широкое распространение в Германии. В них авторы доказывали существование «мирового заговора евреев», направленного на ниспровержение христианской цивилизации и создание мирового еврейского государства, во что уже давно верил сам фюрер.
– В удивительном сотрудничестве, – говорил он на одном из собраний, – демократия и марксизм сумели разжечь между немцами и русскими совершенно безрассудную, непонятную вражду, хотя первоначально оба эти народа относились друг к другу благожелательно. Кто был заинтересован в таком подстрекательстве и науськивании? Евреи! Кто возглавляет всю английскую прессу мировых лавочников? – патетически вопрошал Гитлер и сам же отвечал: – Еврей Нортклиф… Надо было разрушить Германию, последнее социальное государство в мире, и евреи натравили на Германию двадцать шесть государств. Это было делом прессы, находящейся в исключительном владении одного и того же вездесущего народа, одной и той же расы, которая фактически является смертельным врагом всех национальных государств. В мировой войне победил Иуда!
Не раз Гитлер вещал со страниц своей газеты о том, что еврейские финансисты во Франции – самые верные союзники большевиков, а сами евреи только и мечтают о собственной революции через нарушение чистоты других рас. «Каждый еврей, – писал он, – какие дьяволы! – в своей сфере действует прежде всего для этой последней великой цели, действует именно политически».
По сей день среди некоторых немецких историков бытует мнение, что якобы изначально «благодушный» немецкий антисемитизм попал под окрашенное кровью влияние мрачного российского юдофобства, которое и сделало его столь нетерпимым. Из этого можно сделать вывод, что и сам Гитлер, и его ненавидевшее евреев лютой ненавистью окружение до поры до времени относились к ним с некоторым благодушием, которое им якобы испортили русские черносотенцы.
Но так ли это было на самом деле? Да, евреи издавна жили в западноевропейских странах и редко вступали в конфликты с местным населением. Однако в XII веке ситуация изменилась, и, начиная с эпохи крестовых походов, они пережили ряд самых настоящих катастроф. Только в одной испанской Севилье в 1391 году было убито около 30 тысяч евреев, а по всей стране тысячи людей были брошены в тюрьмы, подвергнуты пыткам и преданы костру.
Изгнанные из Англии, Франции, Германии, Италии и с Балканского полуострова евреи в период 1350-1450 годов бежали преимущественно в славянские владения, где не только нашли убежище, но со временем достигли известного благосостояния.
Только после буржуазных революций XVII-XVIII веков евреи стали возвращаться в Западную Европу, и, прежде всего, в наиболее близкие к Польше Германию и Австрию. Появление евреев в Германии, где старые средневековые предрассудки вспыхнули снова, привело к ряду погромов, спровоцированных торговой конкуренцией. Во многих немецких городах ненависть горожан к евреям обернулась насилием – правительство даже вынуждено было защищать евреев силой.
Одновременно нарастал антисемитизм в Австрии, проявившийся как в экономическом бойкоте и погромах, так и в лишении евреев прав. И говорить о том, что еврейские погромы были характерны только для России с ее «черной сотней», по крайней мере, некорректно. Особенно если вспомнить, что все наиболее острые конфликты между основным населением и евреями вспыхивали, как правило, на экономической почве, а еврейские погромы в ней начались за четверть века до создания первой «черносотенной» организации. Другое дело, что еврейские погромы в России в 1905-1906 годах по размаху и жестокости превзошли все предшествующие им. Но отнюдь не из-за того, что иудаизм воспринимался как явление в высшей степени враждебное христианству – в основе неприязни к евреям лежали причины, порожденные торговой конкуренцией.
«Мелкая буржуазия, – писал в 1912 году виднейший еврейский политический и научный деятель Д.С. Пасманик, – играла главную роль в эти ужасные дни… Здесь, очевидно, действовал антисемитизм на экономической почве… Она (мелкая буржуазия. – А.У.) имела в виду одно: уничтожить ненавистного конкурента… В некоторых местах стимулом служило обвинение евреев в революционности, а в большинстве случаев – простое желание воспользоваться чужим добром… Крестьянство участвовало в погромах исключительно в целях обогащения за счет еврейского добра…»
В годы гонения на евреев в Западной Европе погибло 380 тысяч человек (40% тогдашнего мирового еврейства), тогда как за время погромов в России было убито всего 1000 человек, причем, по некоторым данным, в схватках с еврейской «самообороной» погибло больше самих погромщиков. Так что вряд ли можно считать духовными отцами немецкого антисемитизма русских черносотенцев.
Что же касается самой Германии, то антисемитизм появился в ней еще в конце XIX века. Особенно отличалась в этом отношении Христианско-социальная партия, созданная придворным проповедником А. Штеккером. Вскоре возникли новые политические организации в Берлине, Померании, Бранденбурге, Саксонии и Гессене. Они умело использовали страх сельского и мелкобуржуазного городского населения перед наступлением на их интересы крупной промышленности и латифундий юнкерства. Антисемитизм давал этим слоям возможность политически высказать свой протест. Антисемитские лозунги находили широкий отклик у школьных учителей, среди студенчества, в ремесленных и торговых гильдиях и в Союзе сельских хозяев. Недалеко ушло от них и само правительство, которое на словах провозглашало принцип гражданского равенства, а на деле отлучало евреев от административно-государственных должностей, прежде всего в дипломатической и военной сферах. Существовал в Германии и бытовой антисемитизм, который сильнее всего проявлялся во время кризисов. Так что в Германии к тому времени и без Гитлера с его окружением было предостаточно тех, кто ненавидел евреев. Стоило только тому же Эссеру заявить на тысячном митинге о том, что еврейский торговец обувью X. незаконно получил в Мюнхене квартиру в семь комнат, и описать оборванным пролетариям роскошный образ его жизни, как он доводил слушателей до белого каления. А таких оборванных в те самые трудные для Германии годы хватало. Так что почва для антисемитской пропаганды была более чем благодатная, и дело было не в черносотенцах, которых в Мюнхене тогда действительно хватало.