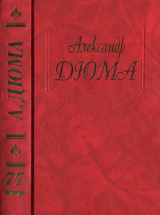
Текст книги "Две недели на Синае. Жиль Блас в Калифорнии"
Автор книги: Александр Дюма
Жанры:
Зарубежная классика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 43 страниц)
Однако, – продолжал Бешара, чьи мысли, обычно веселые, приобрели, причем с той легкостью, какая присуща его народу, грустный оттенок темы, о которой у нас на время зашла речь, – не все кости лежат здесь; иногда в пяти или шести льё в стороне от дороги, среди пустыни, находят скелеты хаджина и наездника; дело в том, что в мае или в июне, то есть в самое жаркое время года, у дромадеров случаются внезапные приступы бешенства. Тогда они отделяются от каравана, пускаются в галоп и мчатся прямо вперед: пытаться остановить их с помощью поводьев бесполезно, и потому лучшее решение в таких случаях – позволить им мчаться до тех пор, пока вы не начнете терять из виду караван, ибо порой они останавливаются сами и послушно возвращаются, чтобы занять свое место в веренице; однако в противном случае, если верблюд продолжает нестись вперед и появляется опасность потерять из виду своих спутников, которых потом уже невозможно будет отыскать, вам придется проткнуть ему горло копьем или прострелить ему голову выстрелом из пистолета, а затем не мешкая догнать караван, поскольку шакалы и гиены подстерегают не только упавших без сил дромадеров, но и заблудившихся путников. Вот потому я и говорю тебе, что порой неподалеку от останков верблюда находят скелет человека.
Я слушал длинную речь Бешары, устремив взгляд на дорогу и по обилию устилавших ее костей убеждался в правдивости его мрачного рассказа; среди этих останков попадались столь старые, что они уже почти обратились в прах и смешались с песком; другие, поновее, были крепкими и блестящими, как слоновая кость; наконец, встречались и такие, на которых местами еще уцелели обрывки иссохшей плоти, свидетельствовавшие о том, что смерть тех, кому принадлежали эти кости, наступила совсем недавно. Признаться, при мысли о том, что, если я сверну себе шею, упав с дромадера (а это было вполне возможно), или если меня задушит самум (такое тоже случается), или если я умру от болезни (еще одно довольно естестественное предположение), при мысли о том, повторяю, что меня бросят на дороге, что той же ночью мне нанесут визит гиены и шакалы и что, наконец, неделю спустя мои кости будут показывать путникам, направляющимся в Мекку, никаких радужных картин в моем воображении не возникало. Это, вполне естественно, навело меня на воспоминания о Париже, о моей комнате, пусть маленькой, но такой теплой зимой и такой прохладной летом; о моих друзьях, которые продолжали в этот час жить своей привычной парижской жизнью, заполненной работой, спектаклями и балами, и которых я покинул, чтобы слушать, забравшись на дромадера, фантастические россказни какого-то араба. Я спрашивал себя, какое помутнение рассудка привело меня сюда, что я намерен здесь делать и какую цель преследую; к счастью, в ту минуту, когда у меня возникли все эти вопросы, я поднял голову и обратил взгляд на этот безбрежный океан, на эти песчаные волны, на этот красноватый пылающий горизонт; я посмотрел на этот караван, на этих длинношеих дромадеров, на этих арабов в живописных одеждах, на всю эту странную и первобытную природу, описание которой можно найти лишь в Библии и которая словно только что вышла из рук Господа, и подумал, что в конечном счете ради всего этого стоит расстаться с парижской грязью и пересечь море, даже рискуя оставить среди скелетов, рассеянных в пустыне, еще один.
Этот внезапный ход столь различных мыслей разорвал связь сознания и тела и тем самым избавил последнее от той мучительной неловкости, которая так мучила его в день нашего отъезда. Я в непринужденной позе восседал на своем дромадере, словно в этих краях мне и довелось появиться на свет, и Бешара, с самолюбием учителя наблюдавший за моими успехами в верховой езде, осыпал меня похвалами. Что же касается других арабов, не столь красноречивых, как их товарищ, то они ограничивались тем, что вытягивали вперед руку со сжатым кулаком и, оттопырив большой палец, говорили мне: «Таиб! Таиб!», что на арабском языке означает высшую степень одобрения и соответствует нашему «превосходно». Впрочем, наши проводники, хотя и сохраняя тот невозмутимый вид, под которым скрывалось их неизменное любопытство, ни на минуту не выпускали нас из виду; любое наше движение, любое изменение в выражении лица, любой самый незаметный знак, которым мы обменивались и который не был понятен никому, кроме нас, привлекали их внимание, и они быстрым шепотом, жестом или взглядом делились друг с другом своими наблюдениями; в этом занятии они проявляли замечательную сноровку; увидев человека, они тотчас улавливают его приметы, а уловив их, навсегда удерживают в памяти; говорят, что араб, вернувшись в свое племя, дает настолько точное описание путешественника, которого он сопровождал или даже просто встретил в пути, что, если много лет спустя его слушателям случайно доведется встретить этого человека, они тотчас узнают его, хотя никогда прежде он не попадался им на глаза.
Мы продолжали свой путь: Бешара – напевая, я – грезя, как вдруг в одну из тех минут, когда солнце, начав прятаться за грядой Мукаттама, дало мне возможность поднять голову, я различил на горизонте черную точку: то было дерево пустыни, то был верстовой столб, делящий дорогу из Каира в Суэц пополам.
Дерево это – смоковница, одинокая, как островок в море, и тщетно взгляд ищет ей пару. Кто посадил ее здесь, ровно посередине пути между двумя этими городами, словно указывая караванам, что пора делать привал? Этого никто не знает. Наши арабы, их отцы, их предки и пращуры их предков всегда видели его здесь, и, по их словам, сам Магомет, отдыхая в этом месте и не найдя тени, бросил там зернышко, наказав ему стать деревом. Смоковница укрывает небольшую невзрачную постройку: это гробница, где покоится прах достойного мусульманина, о святости которого наши арабы помнят, хотя имя его они забыли.
Едва заметив смоковницу, проводник, ехавший впереди, пустил своего дромадера в галоп, и наши верблюды помчались вслед за ним с такой скоростью, что могли бы посрамить лучших скаковых лошадей. Впрочем, этот аллюр, более плавный, чем рысь, понравился мне куда больше, и потому я столь усердно погонял своего хад– жина, молодого и сильного, что достиг желанного дерева вторым. В то же мгновение, не дожидаясь, пока мой дромадер опустится на колени, я схватился левой рукой за седельную шишку и рухнул на песок.
Полупрохлада, доставляемая тенью смоковницы, была для нас наслаждением, постичь которое можно, лишь испытав его. Чтобы наше счастье стало полным, мы решили выпить немного воды, ибо наши кожаные фляжки были опорожнены еще во время полуденного привала и языки у нас буквально присохли к нёбу. Арабы отвязали один из бурдюков и принесли его мне; сквозь шкуру бурдюка я ощутил, что вода внутри него имеет ту же температуру, что и окружающий воздух; тем не менее я поднес горловину бурдюка ко рту и втянул в себя изрядный глоток воды; но, как ни быстро она вошла в меня, изверг я ее обратно еще быстрее: никогда в жизни мне не приходилось глотать ничего подобного. За один день вода стала прогорклой, испорченной, протухшей. При виде моей чудовищной гримасы ко мне подбежал Бешара; я передал ему бурдюк, не произнося ни слова, настолько велико было мое желание исторгнуть из себя эту отвратительную жидкость до последней капли. Бешара был знатоком воды и опытным дегустатором; он чуял колодец или водоем раньше, чем верблюды, и потому все остальные арабы, не доверяя моему пресыщенному вкусу, молча ждали приговора, который должен был вынести их товарищ. Вначале он понюхал бурдюк, затем качнул головой сверху вниз и выпятил нижнюю губу, давая знать, что у него есть что сказать по этому поводу; наконец, он сделал глоток и стал перекатывать воду во рту, а потом выплюнул ее, полностью и безоговорочно подтвердив мою правоту. Вода испортилась по трем совпавшим причинам: из-за тряски, из-за жары и из-за того, что бурдюки были новые. Как только мы узнали, что наша участь решена, пить нам захотелось в десять раз сильнее; в ответ на наши жалобы Бешара заявил, что на следующий день вечером мы найдем превосходную воду в Суэце: было от чего сойти с ума!
Однако на этом неприятности не кончились: мы полагали, что уже добрались до места нашей лагерной стоянки, но Талеб распорядился иначе. После получасового отдыха нам пришлось вновь сесть на верблюдов, которые, едва почувствовав нас в седле, тотчас поднялись, тем самым давая нам понять, что они, не столь наивные, как мы, не отнеслись к этому привалу всерьез. Что же касается арабов, то они так еще ничего не пили и не ели: это было непостижимо!
После двух часов пути, в течение которых нам удалось, благодаря крупной рыси наших верблюдов, проделать не менее пяти французских льё, Талеб издал звук, напоминавший кудахтанье и, должно быть, служивший условным сигналом между ним и дромадерами, поскольку те сразу же остановились и опустились на колени. Мы спешились, страшно утомленные долгой дорогой и чрезвычайно раздосадованные тем, что у нас по-прежнему нет питьевой воды. Арабы явно разделяли наше дурное настроение: они были молчаливы и задумчивы, один только Бешара сохранял некоторую веселость.
Тем не менее уже через минуту палатка была поставлена, лагерь разбит, а ковры разостланы. Несмотря на крайнюю усталость, я разложил на горячем песке, под последними лучами заходящего солнца, намокшую у меня за поясом рисовальную бумагу и отправился прилечь, моля Бога повторить для нас чудо Агари, как бы ни были мы недостойны этого.
Тем временем на глазах у меня Абдалла засучил свои широкие рукава и с важностью заправского повара стал готовить нам ужин, состоявший из хлеба и небезызвестного рагу, причем все это он разбавил и сдобрил водой из наших бурдюков. Арабы помогали ему, выполняя всевозможные мелкие поручения: кинжалами кололи на мелкие щепки дрова, раздували своим дыханием огонь, перебирали рис и бросали лепешки на раскаленные угли.
Неподалеку от них Мухаммед и Бешара занимались обеззараживанием воды, с высоты переливая ее из сосуда в сосуд, чтобы она очистилась на воздухе. Но тут мне вспомнилось, что очистительным средством для воды могут служить раскаленные докрасна угли, и я предложил свою помощь нашим химикам; они, видя, что я намерен употребить неизвестный им метод, никоим образом не стали проявлять самолюбия и предоставили мне возможность действовать. На это ушла часть углей из костра Абдаллы; затем мы отфильтровали воду через полотно, и Бешара, наш признанный дегустатор, повторил испытание. На этот раз ответ был утешительный: вода годилась для питья. Эта новость сорвала Мейера с ковра, где он пытался заснуть без ужина, опасаясь, что еда лишь усилит у него жажду. В палатке зажгли свечи; Абдалла принес нам в деревянной миске рис; мы сели в круг, скрестив по-турецки ноги, и попытались проглотить несколько ложек пилава и попробовать хлеб; однако мы еще не поднялись на уровень кухни Абдаллы и потому велели ему поскорее унести его пилав и лепешки и подать нам финики и кофе.
В эту минуту к нам приблизился Мухаммед, по приторному выражению лица которого можно было понять, что он хочет о чем-то попросить нас. Догадавшись о его намерении, я повернулся к нему, попытавшись перед этим проглотить, не пробуя, полстакана нашей отфильтрованной воды.
– Ну, Мухаммед, – спросил я, – в чем дело?
– Дело в том, – ответил Мухаммед, – что арабы грустят.
– А почему они грустят?
– Потому что они голодны, – ответил Мухаммед.
– Да ради Бога, если они голодны, пусть едят.
– Они только этого и хотели бы, но у них нечего есть.
– Как это нечего? Разве они не взяли с собой провизию? Мы же об этом условились.
– Да, но им пришло в голову, что, раз от Каира до Суэца всего два дня пути, они смогут, затянув пояса, обойтись без еды.
– А выходит, они без нее обойтись не могут, так?
– Да нет, могут, но они грустят.
– Полагаю, что так и должно быть. Значит, они ничего не ели со вчерашнего дня?
– Нет, они съели по два или по три боба, когда кормили верблюдов.
– Ну что ж! Скажи Абдалле, пусть поскорее приготовит им ужин.
– В этом нет надобности. Если вы согласитесь отдать им остатки риса и лепешек, они этим вполне удовлетворятся.
– Как? Тем, что осталось от троих, накормить пятнадцать человек?
– О! – сказал Мухаммед. – Если бы они вовремя позавтракали, им хватило бы этого на три трапезы.
Господин Тейлор не смог удержаться и с улыбкой произнес:
– Возьмите и ешьте, друзья, и пусть Иисус сотворит для вас чудо умножения хлебов.
Мухаммед вернулся к проводникам, делавшим вид, будто они не слушают наш разговор, и жестом дал им знать, что их просьба удовлетворена. В ту же минуту лица арабов повеселели, и все они приготовились принять участие в роскошном пиршестве, дарованном им с такой щедростью.
Образовалось два круга. Первый круг, внутренний, состоял из Талеба, Бешары, Арабаллы, Мухаммеда и Абдаллы, то есть тех, кто обладал определенным общественным положением: Талеб – как вождь, Бешара – как рассказчик, Арабалла – как воин, Мухаммед – как переводчик и Абдалла – как повар. Второй круг, внешний, составляли остальные двенадцать арабов, которые, занимая менее высокую ступень общественной лестницы, должны были есть в последнюю очередь и тянуть руку к миске из-за спины своих высокопоставленных товарищей. Все происходило удивительно слаженно: Мухаммед подал знак, взяв кончиками пальцев щепотку риса и поднеся ее ко рту; Талеб последовал его примеру, и весь малый круг повторил действия вождя; затем настала очередь рядовых арабов, которые с изумительной ловкостью выуживали свои порции и доносили их до рта, не уронив ни зернышка риса. Эти действия продолжались с той же добросовестностью и с той же аккуратностью до тех пор, пока миска не опустела, что произошло без всяких задержек. Вслед за тем поднялся Бешара: выразив нам благодарность от имени присутствующих, он попросил нас назвать свои имена, чтобы он и его товарищи хранили их в сердцах в память о нашей щедрости; мы выполнили эту просьбу, добавив по два финика на каждого из собравшихся, с тем чтобы они не только сберегли в сердцах наши имена, но и передали их своим потомкам.
Однако наши арабы, взяв на себя это обязательство, проявили добрую волю в большей степени, чем предусмотрительность. Наши три имени, столь непохожие по звучанию и содержащие обилие согласных, были неудобны для восточной гортани, и потому, несмотря на свои многократные попытки, арабы так коверкали их, что в подобном произношении имена эти рисковали не только тем, что их не передадут грядущим поколениям исмаильтян, но и тем, что их не узнают наши лучшие друзья. К тому же подобные филологические упражнения оказались слишком утомительны для этих детей природы, способных стоически переносить физическую усталость, но, как и неаполитанские лаццарони, испытывающих отвращение к умственному труду. Так что после десяти минут тщетных усилий Бешара поднялся и, снова приблизившись к нам, попросил от имени своих товарищей, неспособных произнести наши назарянские имена, позволить наречь нас арабскими именами, которые мы должны будем сохранить до конца путешествия, чтобы арабы могли обращаться к нам, а мы – отвечать им; не видя в этом никакой беды, мы охотно ответили согласием на их просьбу. После чего нам немедленно поменяли имена. Господин Тейлор в силу своего положения и несколько большего, чем наш, возраста был назван Ибрагим-беем, то есть вождем Авраамом; Мейер, который по худобе, цвету кожи и чертам лица несколько напоминал внешне одного араба из нашего конвоя, удостоился имени Хасан, а я, принимая во внимание мою скороспелую готовность говорить по-арабски, уверенную посадку на дромадере и навязчивое стремление что-то записывать или зарисовывать, получил имя Исмаил, к которому, в довершение почестей, было добавлено слово эфенди, то есть «ученый».
Когда, к общему удовольствию, с этим вопросом было покончено, Бешара скрестил руки на груди, желая нам спокойной ночи и моля Магомета избавить нас от визита Салема.
Падкий на все, что могло придать красочности нашему путешествию, я поинтересовался у Мухаммеда, кто такой Салем. Он ответил мне, что это арабский вор, известный в этих краях своей отвагой и ловкостью и совершивший в том самом месте, где мы устроили привал, одну из самых удивительных своих проделок. Сказанного оказалось достаточно, чтобы возбудить наше любопытство; при всей нашей усталости, желание спать у нас было еще не настолько сильным, чтобы мы не могли послушать рассказ Бешары. Так что мы сели в круг вместе с арабами, раздали табак, разожгли чубуки, и, прибегая к помощи Мухаммеда, Бешара начал свое повествование, которое звучало наполовину по-французски, наполовину по-арабски и осталось бы непонятным ни на том, ни на другом языке, если бы для товарищей он не дополнял свои слова жестами, а наш переводчик не разъяснял бы нам самые темные места в его рассказе.
Так вот, Салем был простым арабом из племени кочевников, еще в детстве проявившим незаурядные способности к воровству; эту склонность всячески поощряли его родители, тотчас осознавшие, какие выгоды она сулит в будущем, если направлять ее должным образом. И потому юный Салем, никоим образом не посягая на собственность своего племени и дружественных племен, еще в ранней молодости употреблял свои зарождающиеся таланты против тех, с кем его племя враждовало. Гибкий, как змея, ловкий, как пантера, легкий, как газель, он заползал в шатер так, что при этом не вздрагивало полотно и не скрипел песок; он в один прыжок преодолевал бурный поток в пятнадцать футов шириной и обгонял бегущего рысью дромадера.
По мере того как он взрослел, его способности развивались; однако, вместо того чтобы в одиночку совершать по ночам набеги на какой-нибудь затерянный в пустыне шатер или грабить беспечного путника, он собрал вокруг себя юношей из своего племени, которые уже давно привыкли ему во всем повиноваться и теперь не колеблясь признали его своим предводителем, и с этим сильным подкреплением пускался в самые крупные предприятия. Именно в эту пору его хитрость и коварство развились с необычайной силой и он стал действовать в больших масштабах, хотя временами не отказывался и от тех одиночных и дерзких налетов, которые его прославили; так, например, по его приказу распространяли ложный слух о приближении каравана с богатым грузом, и, когда воины соседних племен выступали в поход, чтобы преградить путь этому каравану, сам он тем временем устремлялся к их шатрам, где оставались только старики и дети, и похищал там скот и продовольствие; в другой раз, когда из Суэца в Каир или из Каира в Суэц действительно шел какой-нибудь богатый караван, он посылал араба сообщить подстерегавшим этот караван племенам, что на их лагерь совершено нападение, после чего воины тотчас возвращались к своим шатрам, тогда как он, хозяин и царь пустыни, преспокойно грабил караван и сколько угодно обирал купцов и паломников. В конце концов слух об этих дерзких и частых грабежах дошел до суэцкого бея. Суэц – это складочное место на пути из Индии, это ворота Аравии. Он уже и так утратил половину былых богатств, когда был открыт морской путь вокруг мыса Доброй Надежды, и караваны с товарами приходили теперь сюда крайне редко; так что суэцкого бея серьезно беспокоили набеги Салема, из-за которых караваны должны были еще чаще обходить Суэц стороной, и он отдал грозный приказ схватить разбойника. Целый год прошел в поисках, оказавшихся тщетными, но вовсе не потому, что Салем скрывался: напротив, каждый день приходило известие о каком-нибудь новом его преступлении, но он с таким проворством и с такой дерзостью ускользал от преследователей, что бей в конце концов пришел в невероятную ярость и решил сам отправиться на поиски разбойника, поклявшись не возвращаться в Суэц до тех пор, пока ему не удастся схватить Салема.
Бей разбил лагерь на дороге из Суэца в Каир, там, где сейчас устроили привал мы, и его шатер был установлен на том самом месте, где теперь стояла наша палатка; затем, после того как раскинули его шатер, вокруг поставили самые надежные войска, в караул назначили самых бдительных часовых и на всякий случай оседлали его лучшего скакуна, бей отстегнул саблю, снял парадный машлах, лег на ковре, положил кошелек под голову, помолился Магомету и уснул, исполненный веры в Аллаха и его пророка.
На рассвете следующего дня бей проснулся; ночь прошла тихо. Никакая тревога на нарушила покой в лагере; каждый солдат был на своем посту, каждая вещь находилась на своем месте, за исключением сабли, машлаха и кошелька бея – они исчезли.
Бей дважды хлопнул в ладоши, и вошел раб, пользовавшийся его особым доверием; однако при виде своего господина он тотчас отступил назад, настолько велико было его удивление: ведь бей на глазах у него за час до восхода солнца выехал верхом из лагеря и еще не возвращался.
Слова раба вызвали у бея новые опасения: а не разделил ли конь участь сабли, машлаха и кошелька? Раб кинулся к конскому загону и стал узнавать, где любимый скакун бея. В ответ на его вопросы конюх заявил, что бей трижды хлопнул в ладоши, подав тем самым условленный сигнал, после чего ему подвели коня, он сел на него, унесся в пустыню и все еще не возвращался.
На какое-то мгновение бея охватило желание отрубить голову часовому, рабу и конюху, но затем он рассудил, что это не вернет ему ни сабли, ни машлаха, ни кошелька, ни коня, и к тому же, раз уж он допустил, что обманули его самого, то часовой, раб и конюх, по природе своей стоящие ниже его, тем более могли тоже оказаться обманутыми.
Бей размышлял три дня и три ночи, пытаясь понять, каким образом произошла эта кража; затем, видя, что напрасно теряет время, он решил обратиться к самому вору, поскольку это было самым надежным средством получить достоверные сведения, и велел провозгласить во всех окрестных племенах, что если Салем пожелает рассказать ему через посредника или лично об обстоятельствах кражи, дерзость которой выдает его как ее виновника, то бей не только не причинит ему никакого зла, но еще и предоставит тысячу пиастров (это примерно триста франков нашими деньгами) на дорожные расходы; он дал слово мусульманина – а на Востоке слово свято, – что, предоставив эти сведения, Салем будет волен уйти туда, куда ему заблагорассудится.
Салем не заставил себя долго ждать. В тот же вечер к шатру бея явился одетый в простую синюю полотняную рубаху араб лет двадцати пяти—двадцати шести, небольшого роста, хрупкого телосложения, с живыми глазами и дерзким видом, заявивший, что он готов сообщить его милости желаемые сведения. Бей принял его, как и обещал, то есть как человек, у которого слово не расходится с делом, и вновь посулил дать ему тысячу пиастров, если будет признано, что он сказал всю правду; Салем ответил, что его привело сюда не подлое стремление к выгоде, а желание откликнуться на учтивое приглашение столь большого начальника; однако, стремясь передать подробности той сцены как можно точнее, он просит, чтобы обстановка места происшествия была полностью воссоздана и чтобы часовому было приказано пропускать его, а конюху – подчиняться ему, как они это делали в ночь кражи. Бей счел просьбу вполне справедливой и потому повесил на столб, поддерживающий шатер, другую саблю, бросил на диван другой машлах, положил под ковер другой кошелек, приказал оседлать другого коня и лег, как это было в ту ночь, когда Салем нанес ему свой первый визит; однако на этот раз он глядел в оба, чтобы не упустить ничего из того, что будет происходить. Все встали по своим местам, и в присутствии всего войска начался повтор спектакля.
Салем отошел от шатра шагов на пятьдесят; там он снял, чтобы ничто не стесняло ему движений, рубаху и веревку, которой она была подпоясана, и спрятал их в песке; затем он лег ничком и пополз, как змея, причем так, что его смуглое тело, наполовину погруженное в песок, почти не было видно. Чтобы придать происходящему большую достоверность, он время от времени поднимал голову, словно опасаясь, что его увидели или услышали, а затем, окинув все кругом быстрым взглядом и удостоверившись, что причин для беспокойства нет, продолжал медленно, но бесшумно и уверенно ползти вперед. Достигнув шатра, разбойник просунул голову под полог, и паша, не видевший, как он двигался, внезапно заметил два неподвижных и горящих, как у рыси, глаза, которые были устремлены прямо на него. Вначале он испугался, поскольку не был готов к такому вторжению, но затем, подумав, что это всего лишь игра, продолжил лежать неподвижно, как если бы спал. Осмотр шатра длился лишь мгновение, не сопровождаясь ни единым звуком; потом голова разбойника скрылась, и на несколько минут вновь воцарились спокойствие и тишина: слышно было лишь, как скрипит песок под ногами часового. Внезапно что-то темное преградило путь свету, лившемуся из оставленного в верхней части шатра отверстия, которое окружало опорный столб и пропускало внутрь ночную прохладу; какой-то человек соскользнул, словно тень, по столбу и оказался у изголовья бея; затем этот человек встал на колено, и, в то время как он, опершись на левую руку, прислушивался к дыханию того, кто притворялся спящим, в его правой руке поблескивал короткий кривой кинжал. Бей почувствовал, как на лбу у него выступил холодный пот, ибо его собственная жизнь находилась сейчас в руках того, за чью голову он обещал награду в тысячу золотых цехинов. Тем не менее он продолжал храбро играть свою роль в этой странной комедии; дыхание его не участилось, сердце билось по-прежнему ровно – он ничем не выдал своего страха. В это мгновение, когда все будто замерло, бею показалось, что под его изголовье скользнула чья-то рука; однако движение это было настолько неощутимым, что он, хотя и бодрствовал, даже не заметил бы его, если бы не был настороже. Салем тотчас бесшумно поднялся, не спуская глаз со спящего; при этом в его левой руке, остававшейся пустой, когда он наклонялся, был теперь кошелек.
Затем он взял кинжал и кошелек в зубы, пятясь, отошел к дивану и, по-прежнему неотрывно глядя на бея, взял машлах, не спеша надел его, протянул руку к столбу и снял с него саблю, подвесил ее к поясу, обмотал вокруг головы и пояса две кашемировые шали, служившие бею тюрбаном и кушаком, смело вышел из шатра, прошествовал мимо часового, почтительно ему поклонившегося, и трижды ударил в ладоши, чтобы ему привели коня; предупрежденный конюх повиновался этому приказу, который, как уже было сказано, всегда служил у бея условным сигналом. Салем легко вскочил на скакуна и подъехал к шатру, у двери которого стоял наполовину нагой бей, наблюдая за тем, как разбойник завершает повторение своего дерзкого предприятия.
– Суэцкий бей, – сказал, обращаясь к нему, Салем, – вот так я поступил четыре дня тому назад, чтобы похитить у тебя саблю, машлах, кашемировые шали, кошелек и коня. Теперь я освобождаю тебя от обязательства заплатить тысячу пиастров, которые ты мне обещал, ибо сабля, машлах, кашемировые шали, кошелек и конь, взятые мною у тебя сегодня, стоят около пятидесяти тысяч.
С этими словами он пустил лошадь бея в галоп и исчез, как тень, в ночной мгле и в далях пустыни.
Бей велел предложить ему должность кашифа своей стражи, но Салем ответил, что он предпочитает быть властелином пустыни, а не рабом в Суэце.
– Вот, – продолжал Бешара, – что произошло между суэцким беем и вором Салемом. Берегите же свои сабли, машлахи, кашемировые шали и кошельки, ибо мы находимся сейчас в тех самых местах, где случилась история, которую я вам только что рассказал.
Затем он пожелал нам доброй ночи и удалился, сопровождаемый веселым смехом своих товарищей, которые всегда радовались, если какой-нибудь турок оказывался обманут арабом.
Ночь прошла совершенно спокойно, и наутро мы обнаружили все принадлежавшие нам вещи на своих местах. Вероятно, пока что Салем занимался своим ремеслом в какой-то другой местности.
ХIII. КРАСНОЕ МОРЕ
Наш караван тронулся в путь еще до восхода солнца. С первыми его лучами мы увидели стада газелей, испуганно бросавшихся прочь при нашем приближении. Нет ничего более странного, чем несоответствие между этими грациозными животными и местами их обитания, ведь кажется, что газели созданы для цветущих садов и бархатистых лужаек. Они являют собой очевидное отклонение о суровости и угрюмости, присущей природе этих краев. У меня достало любопытства на минуту съехать с дороги, чтобы взглянуть на следы, которые они оставляют в пустыне. Легкие копыта газелей едва давят на песок, и чудится, будто они мчатся по поверхности земли, подхваченные ветром, горячие и стремительные порывы которого время от времени долетали до нас с юга.
Затем я вернулся на дорогу, тянувшуюся среди костей. На рассвете она сияла на фоне желтого песка, словно серебряная нить. Солнце, еще только поднимавшееся, палило уже нещадно. Арабы призвали нас не подставлять его обжигающим лучам даже малейшие участки наших тел. Однако, несмотря на их советы и принятые нами меры предосторожности, полностью оградить себя от косых утренних и вечерних лучей оказалось невозможно, и мы получили несколько солнечных ожогов, немедленно оказывавших на нас такое же действие, как лечебное прижигание: на обожженном кожном покрове вздувались пузыри, которые через несколько часов опадали; у меня же на протяжении всего путешествия по пустыне каждый вечер на месте прежнего носа появлялся новый.
Через три часа пути на горизонте появилась какая-то белая точка. Вскоре, подъехав ближе, мы разглядели квадратную башню, а вокруг нее нечто похожее на огромную извивающуюся змею, кольца которой едва можно было отследить взглядом. Башня эта, стоявшая в трех льё от Суэца, была домом шейха. Именно в этом доме ненадолго останавливаются караваны на пути в Мекку, чтобы отделить путешественников, направляющихся всего лишь в Суэц. Паломники продолжают свой путь на восток, путешественники же отклоняются к югу и вскоре достигают первого залива Красного моря, тогда как паломникам предстоит еще десять или двенадцать дней пути, прежде чем перед ними откроется второй залив, вдоль берега которого они будут двигаться, пока не достигнут священного города. Что же касается колец змеи, обвивших дом шейха, то их составляли бесчисленные погонщики ослов, пришедшие сюда набрать воды для нужд города: в самом Суэце, стоящем на берегу Красного моря, вода во всех колодцах и источниках горько-соленая. Как только нас об этом известили, надежда выпить свежую воду придала нам новые силы. Мы пустили дромадеров в галоп и менее чем за час преодолели три или четыре льё, отделявшие нас от вожделенного источника. Содержатель караван-сарая наполнил за умеренную плату наши бурдюки, а мы напились прямо из колодца. Вода была слегка солоноватой, но нас слишком измучила жажда, чтобы мы обращали внимание на подобные мелочи.








