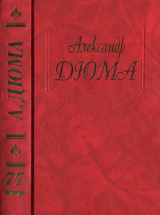
Текст книги "Две недели на Синае. Жиль Блас в Калифорнии"
Автор книги: Александр Дюма
Жанры:
Зарубежная классика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 43 страниц)
Угадав его намерение, Бейбарс устремился вслед за ним и, прежде чем тот успел добежать до реки, догнал его и мечом нанес ему в бок второй удар; однако Туран– шах продолжил бежать, а затем бросился в Нил и поплыл к галерам. Христиане следили за этой жуткой борьбой, бессознательно, по доброте душевной, подбадривая беглеца своими криками, и султан уже думал, что он спасен, но в это время Бейбарс и шестеро мамлюков сняли с себя одежду и бросились за ним вплавь, зажав в зубах кинжалы. Туран-шах, хотя и ослабевший от двух ран, прилагал невероятные усилия, чтобы ускользнуть от преследователей, но вдали от берега течение становилось все быстрее, а одежда сковывала его движения. Убийцы настигли его и, несмотря на его крики и мольбы, стали безжалостно наносить ему удары кинжалами, а затем выволокли его тело на берег, и один из эмиров, по имени Фарис ад-Дин Актай, рассек ему грудь, извлек из нее окровавленное сердце и показал его мамлюкам.
– Вот, – произнес он, – сердце изменника, пусть же его растерзают собаки и склюют птицы!
И он отбросил сердце далеко прочь, чтобы это проклятие исполнилось; никому в голову не пришло подобрать его, и, несомненно, хищные звери сделали то, что задумали люди.
После этого предводители мамлюков, числом около тридцати, поспешно сели в лодку и направились к галерам пленников. Фарис ад-Дин Актай в сопровождении двух или трех своих сообщников поднялся на корабль Людовика и, показав королю свою залитую кровью руку, спросил его:
– Король франков, что ты пожалуешь мне за то, что я избавил тебя от врага, намеревавшегося предать тебя и, забрав у тебя Дамьетту, лишить тебя жизни?
Но Людовик ничего не ответил, то ли потому, что он не понял сказанного убийцей, то ли потому, что он, будучи королем, не хотел, чтобы его слова восприняли как одобрение убийства другого государя. И тогда эмир, приняв это молчание за свидетельство презрения к нему, извлек кинжал, которым он только что рассек грудь Туран-шаха, и приставил его к сердцу короля.
– Король франков, – промолвил он, – разве ты не знаешь, что я властен над твоей жизнью?
Король скрестил руки на груди и презрительно улыбнулся. Гнев, вспыхнувший как пламя, исказил лицо убийцы.
– Король франков, – крикнул он изменившимся от ярости голосом, – посвяти меня в рыцари, или ты погиб!
– Прими христианство, – ответил ему король, – и я посвящу тебя в рыцари.
То ли на самом деле Актай не питал дурных намерений по отношению к своему пленнику, то ли на него подействовало спокойствие короля, но, ничего не сказав, он медленно вложил кинжал в ножны и удалился с корабля.
Тем временем на галере Жуанвиля творилась сумятица; туда с криками и угрозами поднялись другие эмиры, держа в руках обнаженные мечи, а на плече – боевые топоры. Жуанвиль спросил у мессира Бодуэна д’Ибелина, понимавшего язык сарацин, что нужно этим душегубам. Рыцарь ответил, что, если верить их словам, они пришли отрубить головы пленным. Жуанвиль обернулся и увидел, что все его люди сообща исповедуются у монаха– тринитария: это подтверждало справедливость сказанного мессиром Бодуэном; но так как сам сенешель не помнил за собой грехов, он опустился на колени рядом с одним из мамлюков и, подставив шею, осенил себя крестным знамением, исполненный решимости встретить свою участь; он лишь произнес:
– Так умерла святая Агнесса.
Но пока сенешаль стоял на коленях, мессир Ги д’Ибелин, коннетабль Кипра, стоявший в такой же позе и тоже ожидавший смерти, спросил его, не соблаговолит ли он принять у него исповедь. Жуанвиль согласился и, когда исповедь была закончена, дал коннетаблю отпущение грехов, какое имел право ему дать, но, как признался потом славный сенешаль, из всего услышанного он, встав на ноги, не запомнил ни слова. В это время появился Актай и приказал мамлюкам не пускать в ход все их сабли, топоры и кинжалы. Мамлюки повиновались, а затем, после того как христиане, теснясь, словно стадо баранов, все вместе отступили к корме галеры, они собрались на ее носу и стали держать совет; приняв какое-то решение, они сели в лодку и направились к кораблю, на котором находился король.
На этот раз мамлюки повели себя совершенно иначе; в молчании поднявшись на палубу, они с почтительным видом предстали перед Людовиком и обратились к нему со словами, что все в этом мире происходит лишь по суду Божьему и, когда Господь замысливает какое-либо событие, он все к нему предуготовляет; стало быть, христианам следует забыть то, что произошло сейчас у них на глазах; что сделано, то сделано, и мамлюки требуют от короля лишь исполнения договора, заключенного с султаном. Король ответил, что он готов сдержать свое слово; однако мамлюки рассудили, что король дал клятву Туран-шаху, а не его преемнику и потому эти обещания следует повторить. Король согласился с этим требованием, и обе стороны назначили доверенных лиц, чтобы составить условия нового соглашения.
Было договорено, что клятв, которые должны принести мамлюки, будет три, и звучать им следует так.
Первая: если мамлюки не сдержат своих обещаний королю, то пусть они будут опозорены и обесчещены, как тот мусульманин, который за свои грехи был приговорен совершить с непокрытой головой паломничество в Мекку.
Вторая: если мамлюки не сдержат своих обещаний, то пусть они будут опозорены и обесчещены, как тот мусульманин, который, разведясь с женой, взял ее снова, прежде чем он увидел ее лежащей в постели с другим мужчиной.
Третья: если мамлюки не сдержат своих обещаний, то пусть они будут опозорены и обесчещены, как тот мусульманин, который ест свинину.
Эмиры принесли требуемые клятвы; затем, в свою очередь, они представили в письменном виде те, какие должен был произнести король; их было две, и составили их вероотступники. Вот эти клятвы.
Первая: если король не сдержит своих обещаний, то он по собственной воле отрешится от близости с Богом, с его достопочтенной матерью, с двенадцатью апостолами и со всеми прочими святыми мужами и женами, обретающимися в раю.
Вторая: если король не сдержит своих обещаний, то он будет слыть клятвопреступником, как христианин, который отрекся от своего Бога, своего крещения и своей веры и, в знак презрения к Богу, плюет на крест и попирает его ногами.
Людовик ответил посланникам эмиров, что он готов произнести первую клятву, но никакая земная сила не заставит его дать вторую, ибо она есть богохульство.
Услышав этот ответ, мамлюки пришли в сильное волнение и в один голос стали кричать, что они поклялись во всем, чего пожелал король, в то время как сам он отказывается дать клятву, хотя обещал сделать это. И тогда один из послов заявил, что ему прекрасно известно, откуда исходят препятствия и сомнения: дело тут не в короле, а в патриархе Иерусалимском, его советнике.
Эмиры тотчас снова сели в лодку и в третий раз направились к кораблю Людовика. Они застали короля по-прежнему непреклонным и спокойным, несмотря на все их угрозы; затем, видя, что он непоколебим в своем решении, и полагая, что его стойкость, как сказал посол, укрепляет своими советами патриарх Иерусалимский, мамлюки схватили этого священника и, невзирая на то, что это был красивый и почтенный старик восьмидесяти шести лет, его привязали к столбу, а затем на глазах у короля так сильно стянули ему руки веревкой, что они распухли и из них брызнула кровь. Но мученичество других не могло повлиять на того, кто готов был претерпеть его сам, и, хотя патриарх, сломленный болью, кричал ему: «Клянитесь, сир, клянитесь без боязни, я беру этот грех на свою душу!» – король ответил, что лучше умереть как добрый христианин, чем жить, прогневив Бога и Богородицу. Наконец, видя, что старик потерял сознание, а Людовик по-прежнему не желает клясться, мусульмане отвязали патриарха и заявили, что они удовольствуются словом короля, но он определенно самый гордый христианин, какого когда-либо видели на Востоке.
В тот же вечер Людовик отправил к королеве гонца, приказав ей немедленно отправиться в Экс, ибо через день Дамьетта будет сдана. Когда Маргарита получила его послание, она еще не оправилась от родов и была прикована к постели; однако она тотчас поднялась, предпочитая скорее поставить под угрозу свою жизнь, чем хоть на миг увидеть себя, к своему ужасу, во власти неверных; и когда на следующий день король прибыл в шатер, который он велел поставить на небольшом удалении от городских стен, его супруга и сын уже находились в открытом море, а следовательно, в безопасности.
Дамьетта опустела; в ней остались только больные, которым предстояло пробыть заложниками до тех пор, пока королю, платившему наличными двести тысяч ливров, то есть половину условленной суммы, не пришлют из Экса остаток выкупа. На рассвете в город вошли сарацины, сопровождаемые мессиром Жоффруа де Саржи– ном, который отдал ключи от города эмирам; затем приступили к выплате двухсот тысяч ливров.
Процедура велась с помощью гирь и весов; за один раз взвешивали десять тысяч ливров. Взвешивание продолжалось с утра субботы до трех часов пополудни воскресенья, и, чтобы все происходило честно, при этом неотлучно находился король. После того как были взвешены последние десять тысяч ливров, король вернулся в свой шатер и занялся подготовкой к отъезду. Он уже собирался покинуть берег, когда мессир Филипп де Монфор, которому было поручено передать деньги сарацинам, признался ему, что он обманул их на одно взвешивание; и тогда, несмотря на уговоры своих слуг, с ужасом взиравших на то, как король вновь отдает себя в руки неверных, он вернулся в шатер, велел снова открыть сундук и послал сарацинам десять тысяч ливров.
На следующий день Людовик, свято исполнивший свои обещания и как король, и как христианин, покинул всего лишь с тремя галерами и пятью сотнями рыцарей землю Египта, куда он привел тысячу сто кораблей, девять с половиной тысяч рыцарей и тридцать тысяч пехотинцев.
Восемнадцать лет спустя арабский поэт по имени Исмаил, узнав, что Людовик готовит второй крестовый поход в Африку, сложил такие стихи:
О франк! Ужель забыл ты, что Каиру родной сестрой приходится Тунисская твердыня? Об участи, что ждет тебя, подумай! Могилу там найдешь взамен жилища Фахр ад-Дина бен Лукмана, и вместо евнуха Сахиба два смертных ангела, Мункар с Накиром, придут спросить тебя, кто Бог твой, кто пророк.
Людовик отправился в Тунис, и 25 августа 1270 года предсказание поэта сбылось.
* * *
Дом Фахр ад-Дина бен Лукмана, служивший тюрьмой Людовику Святому, стоит и по сей день под сенью вековых пальм, величественно возвышаясь на левом берегу Нила; три огромных окна, где вместо стекол причудливо переплетаются кружевные решетки, расположены над полукруглой дверью, наличник которой украшен узором из чередующихся красных и белых камней; к левой части дома примыкает небольшая низкая пристройка, имеющая лишь один проем, причем таких ничтожных размеров, что его даже нельзя назвать окном; это скромная часовенка, где молился святой король; эмир велел построить ее, уступив религиозной щепетильности своего узника, чтобы Людовик мог произносить свои молитвы там, куда было запрещено входить мусульманам. Мы на минуту задержались перед этой святыней, а затем наши гребцы беззаботно затянули те же песни, что и накануне, и джерма полетела по волнам, подгоняемая одновременно веслами и течением. Даже быстро спустившаяся ночь не заставила нас остановиться; проснувшись, мы заметили, что русло реки стало намного шире, а сквозь завесу листвы, окаймляющей Нил, проглядывают белые стены Дамьетты. Этот город, расположенный на два льё выше того места, где стояла древняя Дамьетта, своим обликом напоминает итальянские города: дома в нем большие и красивые, а у тех, что выходят прямо на набережную, все террасы окружены зелеными решетчатыми загородками, которые выглядят необычайно привлекательно.
Как только мы вышли от французского вице-консула, нас окружили Талеб, Бешара и все наши верные арабы. Они пришли получить наши распоряжения, чтобы сопроводить нас через Эль-Ариш и пустыню в Иерусалим; однако недавний опыт путешествия по воде чрезвычайно очаровал нас, а так как этот способ передвижения выглядел в наших глазах намного предпочтительнее того, какой предлагали нам арабы, и к нашему мнению безоговорочно присоединились г-н Линан и вице-консул, то в итоге решено было добираться морем до Яффы.
Мы расстались с нашими арабами как со старыми и верными друзьями и с чуть щемящим сердцем в последний раз взглянули на дромадеров, которые, опустившись на колени, застыв в неподвижности и обратив на нас свои большие, как у газелей, глаза, казалось, выражали свое несогласие с тем, что мы говорили о жесткости их аллюра. Тем не менее вскоре они доказали нам, что не забыли ни одного из своих развлечений: поднявшись, как это принято в пустыне, в два приема, они унесли своих всадников, двигаясь мелкой рысью, способной выбить из седла даже кирасира.
Приготовления к нашему короткому морскому путешествию вскоре были завершены; джерма, которую мы зафрахтовали, имела в длину примерно двадцать футов; управляли ею три турецких моряка, то есть три степенные личности, занятые главным образом курением длинных чубуков с превосходным табаком из Латакии.
Чтобы пересечь Богаз (устье Нила), используя утренний бриз, мы вышли из Дамьетты в шесть часов.
В ту минуту, когда джерму уже отталкивали от берега, к барону Тейлору подошел какой-то турок и попросил взять его с собой до Яффы. Когда мы ответили согласием на эту просьбу, радость турка была безгранична. Он поднялся на лодку и тотчас же принялся набивать чубук табаком наших матросов; затем он присоединился к остальным, и скоро в воздух поднялся такой столб дыма, что те, кто наблюдал за нами с берега, вполне могли предположить, не видя никого у снастей, что перед ними какой-то новый пароход.
Берега Нила возле его устья покрыты рисовыми полями и радуют взор своей зеленью; по мере того, как вы продвигаетесь вперед, деревья встречаются все реже; однако рельеф берегов не меняется, и вплоть до самого моря они тянутся с едва заметным уклоном; в каких-то местах ширина реки составляет три четверти льё, в других она ограничивается четвертью льё, а в устье, если судить на глаз, может доходить до полутора льё.
Течение здесь быстрое, а дно усеяно камнями, выступающими из воды и создающими большие трудности для судов. Капитан джермы, беззаботно растянувшись на ее носу, отдавал приказы двум матросам; дважды он бросал нас на буруны, и следует отдать ему должное: опасность, которой мы подвергались, по-видимому ничуть его не волновала. В девять часов мы уже были в открытом море и скользили по его ровной глади, подгоняемые легким ветерком, который дул с берега.
То был прощальный привет империи фараонов, последний вздох таинственного Египта, который вскоре стал виднеться над морем лишь как тонкая полоска зелени, похожая на морского змея и с приходом ночи растаявшая в пурпурно-золотистом небе. Мы неотрывно смотрели на эту сверкающую точку до тех пор, пока спустившаяся ночная мгла не сделала все горизонты похожими. Лишь тогда мы перестали в них всматриваться, но глаз не смыкали, возбужденные ожиданием, которое лишало нас сна: на рассвете нам предстояло приветствовать Святую Землю.
Жиль Блас
в Калифорнии
ПРЕДИСЛОВИЕ
Монморанси, 20 июля 1851 года.
Дорогой издатель!
Я уверен, что Вам предстоит сильно удивиться, когда, обратившись к концу этого письма, Вы увидите там подпись человека, который сочиняет больше всех на свете книг, но писем пишет меньше, чем кто-либо другой.
Все разъяснится, когда Вы увидите, что к письму прилагается объемистая рукопись, носящая название «Год на берегах Сакраменто и Сан-Хоакина».
Но как это может быть, дорогой друг, скажите мне Вы, ведь неделю назад мы встречались с вами в Париже, а разве можно успеть за неделю съездить в Калифорнию, пробыть там год и вернуться назад?
Почитайте, дорогой мой, и Вам все станет понятно.
Вы знаете меня: нет на свете человека, в большей степени, чем я, любящего путешествовать и в то же самое время более меня склонного к домоседству. Я выезжаю из Парижа, чтобы проделать три или четыре тысячи льё, или же остаюсь в своей комнате, чтобы написать сто или сто пятьдесят томов.
Так вот, невероятнейшим образом 11 июля сего года я принял решение провести два-три дня в Ангене. Однако не думайте, что я собирался там развлечься: ни в коей мере! Боже сохрани, чтобы мне в голову вообще могла прийти такая причуда! Нет, просто мне предстояло описать в «Моих мемуарах» одну сцену, произошедшую в Ангене двадцать два года тому назад, и, опасаясь наделать ошибок, я хотел вновь взглянуть на те места, где с тех пор мне не доводилось бывать.
Мне было прекрасно известно, что в Ангене, так же как в Пьерфоне и в Отёе, открыли источник минеральной воды, но я совершенно ничего не знал о тех изменениях, какие повлекло за собой это открытие, и о том, что Анген попросту становится крупным городом вроде Женевы, Цюриха или Люцерна, в ожидании того времени, когда он станет морским портом вроде Аньера.
Итак, я поехал в Анген поездом, отправлявшимся без четверти одиннадцать вечера. В одиннадцать я уже был на станции и стал спрашивать, как добраться оттуда до Ангена.
Представьте себе, дорогой мой, парижанина или прожившего в Париже двадцать пять лет провинциала, что почти одно и то же, который спрашивает на станции в Ангене дорогу до Ангена!
Так что служащий, к которому я обратился, решил, вероятно, что я над ним насмехаюсь, хотя, уверяю вас, это никоим образом не входило в мои намерения; и потому он, не сдвинувшись с места и проявляя ту хорошо известную вежливость, какую проявляют по отношению к публике лица, которые от нее же и зависят, удостоил меня таким ответом:
– Дойдите до моста и поверните направо.
Я поблагодарил его и пошел к мосту.
Дойдя до моста, я взглянул направо; и что же я там увидел? Город, о существовании которого я и не подозревал.
Анген представлялся мне совсем иным.
Огромный пруд, весь заросший тростником и болотными травами и заполненный утками, лысухами, нырками, водяными курочками и зимородками, а кроме того, два или три дома на дороге – таким для меня был мой Анген, Анген моих воспоминаний, Анген, где я охотился двадцать два года тому назад.
Так что я принял это скопление домов за лже-Анген и стал искать настоящий.
«Дойдите до моста и поверните направо».
Направо уходила небольшая дорога, непритязательная по виду и предназначенная для пешеходов. Именно такая дорога должна была привести меня в мой Анген.
И я пошел по этой дороге.
Она привела меня к полю, со всех сторон закрытому изгородями.
В моем представлении Анген еще не поднялся до уровня города, но и не опустился до уровня травы. Анген не был ни Вавилоном, сожженным Александром Македонским, ни Карфагеном, разрушенным Сципионом. По Ангену не прошелся плуг, никто не сеял соль в оставленные им борозды, и никому не приходилось снимать страшных проклятий, тяготеющих над проклятым местом. Стало быть, я находился не там, где был Анген.
Я вернулся назад, то есть воспользовался превосходным средством для сбившихся с дороги путешественников и потерявших мысль ораторов. Вернувшись назад, я обнаружил, опять-таки справа, нечто вроде дощатого моста, который привел меня – я хотел было сказать, в тень, но вовремя спохватился – в сумрак большой аллеи, засаженной деревьями, сквозь листву которых, по левую сторону, в отсветах облачного неба виднелась, как мне показалось, дрожащая темная поверхность пруда.
(Я упорно называю водоем Ангена прудом: мне не было известно, что, уменьшившись наполовину, он превратился в озеро.)
Теперь я смело продолжил путь. Раз стала видна вода, Анген должен быть где-то близко.
Приближение к цели моего путешествие доставляло мне тем большее удовольствие, что с неба начали падать капли довольно частого дождя, а я был в легких туфлях и нанковых брюках.
Я ускорил шаг и шел еще около четверти часа. Это длилось чересчур долго, даже принимая во внимание смутность моих воспоминаний: мне было непонятно это полное отсутствие домов, однако меня успокаивало то, что слева постоянно виднелась вода. Так что я не отчаивался и продолжал идти вперед.
Наконец в листве показался просвет. Я поспешил к нему и тотчас разобрался в топографии моего маршрута, прежде достаточно запутанной.
Сам того не подозревая, я обошел озеро кругом от его южной оконечности до северной.
На другом конце водоема горело два или три огонька, указывая мне на расположение домов, которые я до того безуспешно искал, а справа и слева от меня, столь же неожиданно, как театральные декорации, появляющиеся по свистку машиниста сцены, вдруг поднялись готические замки, швейцарские шале, итальянские виллы, английские коттеджи, а на озере вместо уток, нырков, лысух, водяных курочек и зимородков поверхность воды бороздили во всех направлениях тысячи белых точек, в которых, приглядевшись, я через несколько секунд распознал лебедей.
Помните того парижанина, который заключил пари, что он сможет пройти босиком по льду большого бассейна Тюильри, но, дойдя до середины, остановился со словами: «Честно говоря, слишком холодно, лучше уж я проиграю пари» и повернул назад?
Я чуть было не последовал его примеру, но, то ли по глупости, то ли из упрямства, продолжил свой путь.
Ну а кроме того, на память мне пришли все те колкости, какие были написаны по поводу того, что у меня не получилось совершить путешествие вокруг Средиземного моря в 1834 году. Я подумал, что их написали бы куда больше, если бы стало известно, что мне не удалось обойти вокруг Ангенского озера в 1851 году, и, как уже было сказано, вновь двинулся вперед.
Я шел по кольцевой дороге, охватывающей всю эту новоявленную Венецию, и, следовательно, не мог заблудиться. Мне следовало вернуться к отправной точке, а чтобы вернуться к отправной точке, я непременно должен был пройти мимо домов, стоящих на проезжей дороге и составляющих в моих глазах единственный, неповторимый, подлинный Анген.
Наконец, после еще четверти часа ходьбы, я оказался в столь желанном для меня Ангене.
И снова мне показалось, что я ошибся, настолько все это мало напоминало мой Анген образца 1827 года; но в итоге, обратившись к кучеру проезжавшего мимо фиакра, я узнал, что достиг конечной цели своего путешествия.
Я стоял перед гостиницей «Тальма».
Черт побери! Именно это мне и было нужно, ведь я так любил и так восхищался этим великим актером.
Так что я постучался в гостиницу «Тальма», где было закрыто все – от подвального окна до чердачной мансарды.
Но это не имело особого значения, поскольку у меня появилось время пофилософствовать.
Стало быть, неверно, что забвение – понятие безоговорочное! Вот нашелся же человек, вспомнивший Тальма и отдавший свое заведение под покровительство этого великого святого.
По правде сказать, я предпочел бы увидеть воздвигнутый на одной из наших площадей памятник этому великому актеру, на протяжении трех десятилетий составлявшему славу французской сцены, а не гостиницу, построенную в деревне. Но не так уж это важно! Что поделаешь? Все же лучше через четверть века увидеть его имя начертанным на фасаде гостиницы, чем не увидеть его начертанным нигде.
Известно ли Вам, друг мой, где стоит памятник Гаррику? В Вестминстере, напротив памятника королю Георгу IV.
И это справедливо, поскольку, на самом деле, первый был королем в большей степени, чем второй.
Итак, я проведу ночь в гостинице «Тальма».
Между тем, поскольку мне не открывали, я снова постучал в дверь.
Открылся небольшой ставень, в окне показалась рука, а потом из него высунулась голова.
То была взлохмаченная голова мужчины, явно пребывавшего в дурном настроении.
Такой бывает голова у кучера перегруженного дилижанса или у кондуктора переполненного омнибуса.
Короче говоря, голова грубияна.
– Чего вы хотите? – спросила голова.
– Мне нужна комната, постель и ужин.
– Свободных мест нет, – ответила голова.
После этого голова исчезла, а рука потянула ставень, который с грохотом захлопнулся, тогда как позади него голова продолжала ворчать:
– Полдвенадцатого! Нашел же время требовать ужин и ночлег!
– Полдвенадцатого! – повторил я.
Лично мне казалось, что это самое время для того, чтобы поужинать и лечь спать. И если гостиница «Тальма» переполнена, то, возможно, мне удастся найти место в какой-нибудь другой гостинице.
И я решительно отправился на поиски ужина, комнаты и постели.
Из громадного здания напротив доносились звуки музыкальных инструментов и лился яркий свет. Я подошел к нему и прочитал начертанную золотыми буквами надпись: «Гостиница четырех павильонов».
«О, – сказал я себе, – было бы чертовски странно, если бы в этих четырех павильонах, в этой великолепной гостинице не нашлось для меня комнаты!»
Я вошел внутрь: первый этаж был великолепно освещен, но все остальное тонуло в полной темноте.
Тщетно я искал, к кому бы обратиться: дела здесь обстояли еще хуже, чем в замке Спящей Красавицы, где все были погружены в сон. В гостинице «Четыре павильона» не было ни души – ни спящей, ни бодрствующей.
Там были лишь те, кто танцевал, и музыканты, которые им аккомпанировали.
Я отважился дойти до коридора, ведущего в танцевальный зал, и там мне встретился некто, по виду напоминавший гостиничного слугу.
– Любезный, – спросил я его, – можно ли получить ужин, комнату и постель?
– Где? – спросил у меня слуга.
– Да здесь, черт побери!
– Здесь?
– Разумеется: разве я не в гостинице «Четыре павильона»?
– Да, конечно, сударь.
– Так что, у вас нет номеров?
– Ну почему же; они будут, сударь, больше полутора сотен.
– И когда же?
– Когда это закончится.
– А это когда-нибудь закончится?
– А вот насчет этого, сударь, сказать ничего нельзя. Но если сударь желает потанцевать ...
Выражение «Если сударь желает потанцевать», прозвучавшее в гостинице «Четыре павильона», показалось мне почти такой же наглостью, как фраза «Свободных мест нет», услышанная мною в гостинице «Тальма».
Так что я удалился в поисках другого пристанища.
Но единственным пристанищем, на какое у меня еще могла сохраняться некоторая надежда, была гостиница «Анген». Мне указал на нее продавец в еще открытой винной лавке. Я пошел и постучал в дверь гостиницы, но ее хозяин даже не потрудился ответить мне.
– О, – произнес виноторговец, покачав головой, – у папаши Бертрана привычка не отвечать, когда у него в гостинице нет больше мест.
– Как! – воскликнул я. – Он вообще не отвечает?
– А зачем, – промолвил виноторговец, – если мест все равно нет?
Это показалось мне настолько логичным, что у меня не нашлось ни единого слова для возражений.
Я бессильно уронил руки и опустил голову на грудь.
– Надо же, – прошептал я, – вот уж никогда бы не подумал ... В Ангене нет мест!..
Но затем, подняв голову, я спросил:
– А в Монморанси места есть?
– О, с избытком!
– А гостиницу «Белая лошадь» по-прежнему содержит папаша Ледюк?
– Нет, его сын.
«Ну что ж, – подумал я, – отец был трактирщиком старого закала, и если сын обучался у отца, что вполне вероятно, то он должен уметь вставать в любой час ночи и находить свободные номера, даже если их нет».
И под тем же самым дождем, из моросящего ставшего проливным, я направился в Монморанси.
По эту сторону железнодорожного полотна все осталось прежним и пребывало в том состоянии, какое было известно мне прежде. Это была обычная дорога, по которой я шел двадцать лет назад: она тянулась вдоль стены, пересекала поля, расширялась под сенью купы ореховых деревьев и, наконец, огибала город, усыпанная теми малоприятными острыми камешками, какие, видимо, поставляют муниципалитету прокатчицы ослов, чтобы лишить путешественников возможности ходить здесь пешком.
Я узнал крутой подъем, узнал одиноко стоящий крытый рынок, узнал гостиницу «Белая лошадь».
Городские часы пробили четверть второго ночи. Но это не имело значения: я отважился постучать.
Что мне скажут здесь, если за два часа до этого в гостинице «Тальма» со мной обошлись почти как с бродягой?
Я услышал шум, увидел, как зажегся свет, и уловил звук шаркающих шагов по лестнице.
На этот раз меня не спросили, чего я хочу, а просто открыли мне дверь.
Сделала это полуодетая горничная, веселая, приветливая и улыбающаяся, хотя она явно была оторвана мною от первого сна.
Звали ее Маргарита. Да, друг мой, есть имена, которые навсегда запечатлеваются в сердце.
– Ах, сударь, – воскликнула она, – в каком же вы виде! Ну же, входите! Вы ничем не рискуете, если войдете, обсушитесь и полностью переоденетесь.
– Я охотно войду и обсушусь. Но вот что касается того, чтобы полностью переодеться ...
И я показал ей сверток, который я таскал под мышкой с тех пор, как вышел из поезда, и в котором находились две пары носков, рубашка, руководство по хронологии и томик «Революции» Мишле.
– О, – сказала она, – это пустяки; все, чего вам недостает, вы найдете в доме у господина Ледюка.
О святое гостеприимство! Великим, божественным его делает вовсе не то, что оно предлагается бесплатно, а то, что оно предлагается дружеским голосом и с улыбкой на лице.
О святое гостеприимство! Определенно, ты обитаешь в Монморанси! И Руссо, который далеко не всегда был рассудительным, прекрасно знал, что он делает, когда пришел просить его в замке Ла-Шевретт. Мне неизвестно, как приняла тебя худосочная маркиза д’Эпине, о возвышенный создатель «Эмиля», но наверняка она, знакомая с тобой, встретила тебя не лучше, чем приняла меня незнакомая со мной Маргарита.
Вслед за Маргаритой спустился г-н Ледюк, который, разумеется, узнал меня.
С этой минуты гостеприимство приобрело гигантские масштабы. Мне предоставили лучшую в гостинице комнату, комнату мадемуазель Рашель. Ледюк решил обслуживать меня за ужином, а Маргарита пожелала нагреть мне постель грелкой.
Что же касается меня, то я имею привычку принимать в подобных обстоятельствах все, что мне предлагают.
Как Вы понимаете, дорогой друг, мне пришлось рассказать свою историю г-ну Ледюку. Как могло случиться, что в четверть второго ночи, придя пешком, с маленьким свертком под мышкой и промокнув до костей, я постучал в дверь «Белой лошади» в Монморанси? Неужели в Париже вспыхнула революция против писателей, своего рода 31 мая, и я как изгнанник, подобно Барбару и Луве, явился просить убежища?
К счастью, ничего подобного на самом деле не произошло. Я успокоил г-на Ледюка и заявил ему, что приехал сюда всего лишь для того, чтобы провести день или два в Ангене, но, не найдя там ни ужина, ни комнаты, ни постели, был вынужден продолжить путь до Монморанси.
Господин Ледюк испустил вздох, в котором самым красноречивым образом прозвучало «Ти циоцие[23]» Цезаря.








