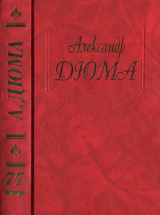
Текст книги "Две недели на Синае. Жиль Блас в Калифорнии"
Автор книги: Александр Дюма
Жанры:
Зарубежная классика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 43 страниц)
Но даже если он ошибался в отношении товарищей убитого оленя, то берега ручья были подходящим местом и для всякой другой дичи.
Алуна указал мне в качестве моего поста углубление в скале, а сам поднялся на сто шагов выше.
Я забился в эту впадину, вставил шомпол в ствол ружья, чтобы проверить, на месте ли заряд, и, увидев, что все в порядке, принялся ждать.
XII. НАША ПЕРВАЯ НОЧНАЯ ОХОТА В ПРЕРИЯХ
Существует одна особенность, которую могут заметить сидящие в засаде охотники: ночь, воспринимаемая человеком как дарованный природе всеобщий отдых, ибо сам он, как правило, посвящает ее сну, является временем почти таким же оживленным, как и день, особенно в теплых широтах. Однако ночная жизнь совсем иная. Та часть животного царства, которая предается ей, ощущает ее тревожной, таинственной и полной опасностей. Кажется, что лишь те, кто способен видеть во мраке, чувствуют себя спокойно, да и то, насколько таинственным будет полет филина, орлана, неясыти, совы и летучих мышей, настолько поступь волка, лисы и мелких хищников, охотящихся по ночам, будет крадущейся и осторожной; только шакал с его вечным пронзительным воем, похоже, чувствует себя спокойно в темноте.
Впрочем, городской житель, перенесенный прямо в прерии или лесную чащу, не расслышит всех этих звуков, а если и расслышит, то не сумеет понять, что является их причиной. Однако мало-помалу, испытывая потребность распознавать эти звуки, охотник начинает разбираться в них, отличая одни от других, и, даже не видя зверя, может соотнести их с тем, от кого они исходят.
Оставшись один, я, хотя и зная, что Тийе находится в палатке, а Алуна притаился в ста шагах надо мной, испытывал чувство одиночества. Пока один человек опирается на другого, пока он чувствует, что может оказать помощь и получить ее сам, пока у него есть два глаза, чтобы смотреть вперед, два – чтобы смотреть назад, и четыре руки, чтобы защищаться, природа не кажется ему столь всесильной, столь страшной, столь враждебной, как в те моменты, когда ему приходится прибегать лишь к своему собственному разуму, чтобы предугадать опасность, лишь к своим собственным органам чувств, чтобы ее увидеть, и лишь к своим собственным силам, чтобы бороться с ней. В таких случаях исчезает уверенность в себе, уменьшается восхищение собственными способностями; дело доходит до того, что человек начинает завидовать инстинктам и прозорливости животных; ему хотелось бы иметь уши, как у зайца, чтобы лучше слышать, глаза рыси, чтобы лучше видеть, легкую поступь тигра, чтобы двигаться бесшумно.
Затем, поскольку человек – животное в высшей степени восприимчивое к обучению, он мало-помалу приобретает все эти качества настолько, насколько ему дано ими обладать; и тогда ночь, в которой с этого времени для него нет больше тайн, но сохраняется часть опасностей, служит ему охраной от них, научив его, как с ними бороться.
По прошествии двух недель, проведенных в прериях, где мною руководил Алуна, а главное, подталкиваемый к этому своими страхами и надеждами охотника, я научился различать звук змеи, скользящей в траве, белки, прыгающей с ветки на ветку, косули, идущей на водопой к источнику и цокающей краем копытца по кромке камня.
Но в эту первую ночь все для меня было неясным и часы проходили в постоянной тревоге. Мне казалось, что я опять, как тогда ночью в Сьерра-Неваде, вижу устремленные на меня пылающие глаза волка или шевелящуюся в нескольких шагах от меня бесформенную громаду медведя.
Однако всего этого в действительности не было: мы находились в местности, куда те и другие животные отваживаются заходить лишь крайне редко, особенно летом.
Тем не менее я слышал вокруг себя какие-то громкие звуки, но ничего при этом не видел. Дважды или трижды я слышал, как внезапно совершают скачки какие-то крупные животные, то ли из прихоти, то ли из страха прыгавшие в десяти, пятнадцати или двадцати шагах от меня; но все это происходило где-то сбоку или позади меня, и, следовательно, этот шум доносился оттуда, куда не мог проникнуть мой взгляд.
Внезапно посреди тишины ясно послышался отрывистый выстрел из ружья Алуны. Почти тотчас же со всех сторон стали доноситься какие-то звуки, и я услышал что-то вроде галопа лошади, с каждым мгновением раздававшегося все ближе. На глазах у меня по другую сторону ручья пронеслось животное, показавшееся мне огромным и в которое я наугад, исключительно для очистки совести, дважды выстрелил из ружья.
Потом я застыл в неподвижности, словно сам испугавшись выстрела из ружья, которое было у меня в руках.
Но почти тотчас же послышалось легкое посвистывание, и я понял, что Алуна призывает меня присоединиться к нему.
Пройдя по берегу ручья, я увидел Алуну, производившего над ланью те же действия, какие накануне он на глазах у меня производил над оленем.
Лань была поражена в то же самое место, что и олень, и мне показалось, что она продолжала жить с этой раной не дольше, чем он.
Алуна поинтересовался у меня, в кого я стрелял, и, когда я рассказал ему о гигантском призраке, который мне привиделся, он по сделанному мною описанию предположил, что я дважды выстрелил в лося.
Надеяться на какие-нибудь другие успехи этой ночью уже не приходилось, ибо два наших ружейных выстрела поставили на ноги всех животных в прерии, и было ясно, что, раз уж они почуяли опасность, впредь у них достанет осторожности не приближаться к нам. Соорудив из ветвей нечто вроде носилок, мы положили на них убитую лань; один из нас взялся за ее левую заднюю ногу, другой – за правую, и мы поволокли ее к палатке одновременно с носилками, чтобы не повредить ее шкуру, из которой изготавливают превосходные седла.
Тийе стоял возле палатки, ожидая нас.
Он не спал ни секунды, беспрерывно отпугивая шакалов, собравшихся сюда чуть ли не из всех уголков прерии, чтобы идти в атаку на нашу дичь. Некоторые из них накинулись на кишки оленя, брошенные нами в двадцати шагах от палатки и ставшие добычей этих хищников, о чем можно было судить по радостным крикам тех, кому досталась эта удачная находка и кто, казалось, насмехался над унылым визгом своих голодных товарищей.
Охота оказалась удачной, и ее итоги были достаточны для того, чтобы мы могли совершить поездку в Сан– Франциско. У нас имелись олень, лань, четыре зайца и две хохлатые куропатки. И потому было решено, что мы с Тийе немедленно отправимся в Сан-Франциско, чтобы выручить деньги за добытую нами дичь.
Что же касается Алуны, то он останется охранять палатку и в наше отсутствие постарается подстрелить как можно больше оленей и косуль.
Нам с трудом удалось погрузить туши оленя и лани на спину лошади; в качестве украшений туда были добавлены зайцы, белки, кролики и куропатки; как только начало светать, мы тронулись в путь по дороге к заливу Сан-Франциско. Если не терять времени, то в город можно было добраться к четырем часам пополудни.
Было крайне просто, возвращаясь в Сан-Франциско, следовать по дороге, по которой мы двигались накануне. Наше передвижение по прерии оставило в ней след, подобно тому, как по утрам в клевере остаются следы бродивших по нему накануне охотника и его собаки.
Перед отъездом я посоветовал Алуне сходить на то место, где я стрелял в лося, и посмотреть, не осталось ли там следов крови. Несмотря на неожиданность появления животного, я стрелял в него с такого близкого расстояния, что, как мне казалось, промахнуться было невозможно.
Утро было восхитительно свежим; еще никогда мы с Тийе не чувствовали себя так легко и радостно. В независимой жизни охотника есть определенного рода гордость и удовлетворение, сравнимые с самой свободой.
Около пяти часов утра мы устроили привал, чтобы перекусить. У нас был с собой полый хлеб, в который вместо вынутого из него мякиша мы положили остатки оленьей печени; кроме того, у нас были фляжки, полные воды и водки. Этого было вполне достаточно, чтобы устроить царскую трапезу.
Пока мы завтракали у подножия каменного дуба, а наша тяжело груженная лошадь поедала почки землянич– ничного дерева, которыми она очень любила лакомиться, в небе показалось около дюжины грифов, выполнявших странные маневры.
Каждую минуту их стая увеличивалась, и вскоре вместо двенадцати их стало двадцать или двадцать пять.
Траектория их полета наводила на мысль, что они следуют за движущимся по прерии человеком или зверем, который время от времени вынужден останавливаться. В такие мгновения они зависали в воздухе, взлетали, снижались, некоторые из них опускались прямо до земли, а потом, словно испугавшись чего-то, взмывали вверх.
Не вызывало сомнения, что в прерии, примерно в четверти льё от нас, происходит нечто необычное.
Я взял ружье и, сориентировавшись, чтобы не потеряться, по дубовой роще, посреди которой, словно гигантская колокольня, высилась огромная сосна, углубился в прерию.
Опасности, что я собьюсь с пути, не существовало. Достаточно было лишь поднять глаза к небу, и дорогу мне указывал полет грифов.
Полет стаи становился все более и более беспокойным; со всех сторон горизонта во весь дух слетались все новые птицы той же породы: нечто сказочное таилось в мощи их быстрого, как стрела, полета, устремившись в который, птица, казалось, уже не должна была совершать более никаких движений. Затем, присоединившись к стае, каждый гриф явно проникался общим любопытством и принимал личное участие в уже происходящей или готовой начаться драме, чтобы она собой ни представляла.
Поскольку вслед за тем, как грифы сбились в стаю, их полет стал уже не таким быстрым и они долго кружили на одном месте, то поднимаясь, то опускаясь, я стал явно догонять их.
Внезапно их поступательное движение вовсе приостановилось: они замерли в воздухе, испуская пронзительные крики, хлопая крыльями и неистово суетясь.
В это время я находился уже не более чем в ста шагах от того места, куда они каждую минуту готовы были опуститься.
Это была самая чаща прерии; привстав на цыпочки, я с трудом доставал головой до верхушек трав, но, как уже было сказано, стая грифов указывала мне дорогу, и я продолжал свой путь.
С другой стороны, я заметил Тийе: забравшись на дерево, он издали обращался ко мне со словами, которые я не мог расслышать, и подавал мне знаки, которые я не понимал.
Оттуда, где Тийе находился, ему, вероятно, была видна происходящая сцена, и он пытался направить меня к ней своими криками и жестами.
Поскольку мне оставалось пройти всего полсотни шагов, чтобы добраться до места событий, я шел вперед, взведя курок ружья, и был готов выстрелить в любую минуту.
Когда я прошел еще шагов двадцать, мне показалось, что стали слышны какие-то стоны, затем раздался шум, сопровождавший отчаянную борьбу; при этом грифы взмывали в воздух, кружились и снижались, издавая яростные крики.
Можно было подумать, что какой-то вор неожиданно захватил у них добычу, на которую они имели право рассчитывать и на которую смотрели уже как на свою.
Услышав этот шум и эти стоны, раздававшиеся, по-видимому, совсем близко, я усилил меры предосторожности, но по-прежнему шел вперед, хотя и догадывался, что от участников этой схватки, кто бы они ни были, меня отделяет лишь несколько футов.
Я осторожно обошел последнее препятствие и ползком, как уж, добрался до края травяных зарослей.
В десяти шагах от меня лежало животное, породу которого я с первого взгляда не смог определить: оно еще сотрясалось в последних судорогах и служило своего рода баррикадой человеку, лишь кончик ружья и верхняя часть головы которого были мне видны.
Устремив взгляд в ту сторону, откуда я готовился выйти, этот человек, казалось, ждал лишь моего появления, чтобы открыть огонь.
Ружье, голову, горящие глаза – все это я разом узнал с первого взгляда и, мгновенно выпрямившись, воскликнул:
– Эй, папаша Алуна! Без глупостей! Это же я, черт возьми!
– Я так и думал, – ответил Алуна, опуская ружье, – что ж, тем лучше, вы мне поможете. Но сначала выстрелите-ка в сторону всех этих крикунов, иначе они не дадут нам ни минуты покоя.
И он указал мне на грифов, бесновавшихся у нас над головой.
Я выстрелил в самую гущу стаи; один гриф стал падать, переворачиваясь в воздухе. Тотчас же остальные взмыли вверх, чтобы оказаться вне пределов досягаемости; тем не менее они явно держались таким образом, чтобы не терять нас из вида.
Я попросил Алуну объяснить, как могло случиться, что мы с ним столкнулись.
Все оказалось крайне просто: последовав моему совету, он на рассвете осматривал место, где я стрелял в лося; как я и предполагал, лось был ранен, что легко определялось по следам крови, которые он оставлял на пути своего бегства.
Алуна тотчас же пошел по этим следам.
Обладая богатым охотничьим опытом, он быстро понял, что животное не просто ранено, а ранено в двух местах: в шею и в заднюю ногу.
В шею – потому что ветки на высоте шести футов были испачканы кровью.
В заднюю ногу – потому что там, где лось пересекал песчаный участок, Алуна обнаружил на песке следы лишь трех ног; четвертая, на которую лось не опирался, волочилась по земле, оставляя на ней неровную борозду, сплошь забрызганную каплями крови.
Сделав вывод, что с такими ранами животное не могло уйти далеко, Алуна пустился в погоню.
Пройдя около льё, он обнаружил место, где трава была смята и обильно пропитана кровью; обессилев от ран, лось был вынужден остановиться там на какое-то время. И лишь с приближением Алуны он поднялся и возобновил свой бег. Именно тогда грифы, имеющие привычку преследовать в прериях раненое животное, стали сопровождать лося до тех пор, пока он не рухнул. Именно их полет, непонятный мне, менее сведующему в тайнах охоты, чем Алуна, и направлял меня к старому охотнику, направлявшему себя самостоятельно. К несчастью для грифов, в ту минуту, когда лось, уже не имевший сил идти дальше, был близок к тому, чтобы рухнуть, а они готовились наброситься на него и разорвать его живьем, появился Алуна и, чтобы не тратить напрасно заряд пороха, перерезал раненому животному подколенное сухожилие.
В этом и состояла причина тех стонов и того шума, которые я слышал, не понимая, чем они вызваны.
Наша охотничья добыча увеличилась еще на один трофей, весивший столько же, сколько весили все остальные вместе взятые.
XIII. ЗМЕИНАЯ ТРАВА
Невозможно было обременить нашу несчастную лошадь этим дополнительным грузом: она и так несла на себе все, что могла унести.
Еще издали мы заметили повозку, двигавшуюся из Санта-Розы в Соному. Она принадлежала одному из местных ранчеро. Мы столковались с ним; за два пиастра он разрешил нам положить лося в повозку и сам помог нам его туда перенести.
Вечером этот человек возвращался в Санта-Розу: он взялся привести обратно нашу лошадь, груз которой сразу по прибытии в Соному перетащат на вельбот, и Алуна заберет лошадь прямо на дороге, где он будет поджидать ее, занимаясь охотой.
Мы с Тийе продолжили путь и в час дня были в Сономе.
Наш вельбот стоял на берегу. С помощью нескольких местных жителей мы перенесли на борт свои охотничьи трофеи.
Ветер дул с северо-востока и, следовательно, должен был помочь нам пересечь залив: мы распустили парус и уже через три часа оказались в Сан-Франциско.
Было четыре часа пополудни. Я помчался в главную мясную лавку, а Тийе остался сторожить дичь, прикрытую травой и листьями.
Лавку эту держал американец.
Я рассказал ему, что привело меня в его лавку и какой мы привезли груз. В обычное время олень стоит в Сан– Франциско от семидесяти до восьмидесяти пиастров; косуля – от тридцати до тридцати пяти; заяц – от шести до восьми; хохлатая куропатка – один пиастр, а белка – пятьдесят су.
Для лося цена не была установлена. Думается, это был первый лось, привезенный в мясную лавку в Сан-Франциско.
Мы сделали приблизительный расчет и взамен более чем полутора тысяч фунтов мяса получили триста пиастров.
В тот же вечер мы отправились обратно и, изо всех сил работая веслами, уже к часу ночи добрались до Сономы. Там мы легли на дно нашей лодки и проспали до пяти утра.
Затем мы тотчас двинулись в путь, чтобы присоединиться к Алуне, однако на этот раз отклонились чуть вправо, чтобы идти по западному склону невысокой холмистой гряды, где трава была не такой высокой, как в прерии, и где, соответственно, было легче охотиться.
Семь или восемь косуль убежали от нас, но двух нам удалось подстрелить.
Операции, которым подвергал убитых животных Алуна, что в таких жарких краях, как Калифорния, было важнее, чем где-либо еще, были внимательно нами изучены.
Так что мы выбрали дубы с достаточно густой листвой, чтобы сохранить косуль свежими, и подвесили их к высоким ветвям, куда не могли добраться шакалы.
В одиннадцать часов мы были уже на обратном пути в лагерь.
По прибытии на место мы обнаружили там косулю и оленя, подвешенных к ветвям дуба. Так что Алуна тоже не терял времени напрасно.
Поскольку жара начала приближаться к своему пику, мы подумали, что Алуна отдыхает после обеда, и на цыпочках подошли к нему. Он и в самом деле спал глубоким сном.
Но рядом с ним, зарывшись в его пончо, спал кто-то еще, заставивший нас страшно испугаться за старого охотника.
То была гремучая змея, привлеченная туда теплом и мягкостью шерсти.
Алуна спал на правом боку. Если во сне он перевернется на левый бок и придавит змею к земле, она неминуемо его укусит.
Мы с Тийе застыли у входа в палатку, прерывисто дыша, устремив взгляд на существо, наделенное смертельным ядом, и не зная, что нам следует предпринять.
При малейшем шуме Алуна мог шевельнуться, а любое движение означало для него смерть.
В конце концов мы решили избавить нашего товарища от его ужасного соседа по отдыху, поскольку складывалось впечатление, что змея спит, причем так же крепко, как и он.
Уже упоминалось, в каком положении находился Алуна: он спал, лежа на правом боку и завернувшись в пончо.
Змея проскользнула к нему; ее хвост и нижняя часть тела были скрыты в складках плаща, кусок верхней части тела, свившийся в кольцо, напоминал скрученный толстый канат, а голову она просунула прямо под шею спящего.
Описав круг, Тийе встал возле изголовья Алуны, всунул ствол своего ружья в середину кольца, свитого гадиной, и приготовился резким движением отбросить ее подальше.
Тем временем я вытащил охотничий ножа, всегда находившийся у меня за поясом, и приготовился разрубить змею надвое.
Я подал Тийе знак, что у меня все готово. Тотчас же ружье, словно пружина, приподняло змею и отбросило ее на полотно палатки.
Не ожидая, что змея отлетит так далеко, я не дотянулся до нее ножом, когда она упала на землю.
Змея поднялась на хвосте, издавая свист, и, признаться, когда я увидел, что ее тусклый глаз воспламенился, словно рубин, а ее мертвенно-бледная пасть распахнулась, кровь застыла у меня в жилах.
Однако эта возня разбудила Алуну. С первого взгляда он, несомненно, не сообразил, почему Тийе держит в руках ружье, а я – нож, но, увидев змею, понял все.
– Ах ты, земляной червяк! – с непередаваемым презрением воскликнул он.
И, вытянув руку, он схватил змею за хвост, два или три раза со свистом покрутил ею в воздухе, как это делает пращник со своей пращой, и размозжил ей голову о кол нашей палатки.
Затем он с величайшей брезгливостью отбросил ее шагов на двадцать, подошел к ручью, вымыл руки, вытер их дубовыми листьями и, вернувшись к нам, спросил:
– Ну как, продажа прошла успешно?
Мы с Тийе были бледны как смерть.
Тийе протянул ему сумку. Алуна принялся пересчитывать пиастры, затем разделил их на три равные части и с явным удовольствием положил свои сто пиастров в кожаный кошелек, висевший у него на поясе.
Признаться, только в эту минуту и я, и Тийе оценили его по достоинству.
Впрочем, мы не взяли в расчет, что дело тут еще и в привычке; возможно, в начале своей наполненной приключениями жизни он был столь же боязлив, как и мы; возможно, увидев в первый раз гремучую змею, он испугался даже больше, чем мы; но потом пришла привычка, а привычка приучает ко всему, даже к виду смерти.
И в самом деле, во время своих странствий по направлению к востоку, во время своих походов в глубь этой еще и по сей день неизведанной страны, протянувшейся между двумя караванными путями, один из которых ведет от озера Пирамиды к Сен-Луис-Миссури, а другой – от Монтерея в Санта-Фе; на этих бескрайних просторах, где реки, не имеющие устьев, теряются в песках и образуют в конце своего течения лагуны и болота, насыщенные солью, заполненные смолой и исхоженные дикими животными и такими же дикими людьми, Алуна привык к любым опасностям.
Что же касается гремучих змей, то вот каким образом Алуна свел с ними знакомство.
Однажды вечером, находясь на левом берегу реки Колорадо, на землях индейцев-навахо, он вывел на дорогу двух миссионеров и одного англичанина, сбившихся с пути, а затем, питая неприязнь к проторенным дорогам, пустил свою лошадь в галоп и направился в прерии; подъехав к берегу ручья, он счел это место подходящим для ночлега, спешился, разнуздал лошадь, постелил бизонью шкуру, положил седло так, как домашняя хозяйка кладет подушку, и, имея целью поджарить несколько ломтиков мяса лани, а также отпугивать диких зверей, пока будет длиться его сон, разжег костер, позаботившись перед этим вырвать траву вокруг места будущего очага, чтобы огонь не распространился по прерии. Когда костер разгорелся и куски мяса уже жарились на углях, Алуну охватило опасение, что у него не хватит дров на ночь; а поскольку на другом берегу ручья росла большая сосна, он раскрыл свой мексиканский нож, чтобы срезать с нее несколько веток, и, разбежавшись, перепрыгнул через ручей.
Однако там он ступил ногой на что-то живое, поскользнулся и упал навзничь.
Тотчас же он увидел, как над травой поднялась голова гремучей змеи, и в то же мгновение острая боль в колене дала ему знать, что змея его укусила.
Первым его чувством стала ярость. Алуна бросился на гадину и своим мексиканским ножом разрубил ее на три или четыре части.
Но сам он был ранен и, по всей вероятности, смертельно.
Никакого смысла идти заготавливать дрова, чтобы поддерживать костер, уже не было: прежде, чем огонь погаснет, Алуна будет мертв.
Он вернулся удрученный, сумрачный и, сотворив молитву, сочтенную им последней в его жизни, сел у костра, ибо ему уже казалось, что по всему его телу разливается холод.
Итак, он готовился к своим последним минутам, и нога его уже онемела, раздулась, опухла и посинела, как вдруг ему вспомнилось – и Алуна не сомневался, что это воспоминание пришло ему на ум лишь благодаря сотворенной молитве, – как вдруг, повторяю, ему вспомнилось, что, вырывая траву вокруг костра, он выдернул несколько стеблей травы, которую индейцы называют змеиной.
Алуна сделал усилие и, едва передвигаясь, направился туда, где он видел эту траву.
И в самом деле, там нашлось два или три стебля, которые он вырвал с корнем.
Алуна тотчас обмыл и обтер свой нож, все еще липкий и окровавленный, и, разжевывая при этом, чтобы не терять времени, корни, все остальное накрошил и заварил в серебряной чашке, только что полученной им от англичанина как плату за услугу, которую он ему оказал, выведя его на дорогу.
Затем, поскольку ему десятки раз приходилось слышать от дикарей, что нужно делать в таких случаях, он приложил разжеванную траву к двойной ранке на ноге: это была первая припарка.
Тем временем корни заваривались в серебряной чашке, настой становился темно-зеленым и сильно пахнул щелочью. Проглотить этот настой в таком виде было невозможно, но Алуна развел его водой и, преодолевая отвращение, выпил всю чашку.
И сделал он это вовремя. Стоило ему проглотить питье, как у него началось головокружение: земля под ним закачалась, мертвенно-бледное небо закружилось над головой, а взошедшая луна напоминала огромную отрубленную голову, истекающую кровью.
Он испустил долгий вздох, полагая его последним своим вздохом, и замертво упал на бизонью шкуру.
На следующий день, на рассвете, Алуну разбудила его лошадь: не понимая, почему хозяин так долго спит, она принялась лизать ему лицо. Сам он, проснувшись, не помнил ничего из того, что произошло накануне. Он ощущал общее онемение, приглушенную боль, сильную усталость; нечто похожее на частичное омертвение завладело всей нижней частью его тела.
И тогда ему вспомнилось, что с ним произошло.
Испытывая сильнейшую тревогу, Алуна подтянул ближе поврежденную ногу, закатал штаны и, подняв компресс из разжеванной травы, которую он привязал к колену с помощью своего носового платка, взглянул на рану.
Рана была багровой, но опухоль на ноге стала едва заметна.
И тогда, повторяя вчерашнюю операцию, он снова принялся жевать спасительные корни; однако на этот раз, несмотря на щелочной запах настоя, несмотря на присущий ему привкус скипидара, Алуна превозмог себя и проглотил это питье.
Затем он заменил старую припарку на новую.
После чего, не имея сил добраться до тени, он, вместо того чтобы по-прежнему лежать на бизоньей шкуре, накрылся ею.
В таком положении, истекая потом, словно в парильне, он пролежал до трех часов пополудни. В три часа он почувствовал в себе достаточно сил, чтобы дойти до ручья, промыл в нем ногу и выпил несколько пригоршней свежей воды.
И хотя голова у него все еще была тяжелой, а пульс бился учащенно, Алуна чувствовал себя намного лучше. Он подозвал лошадь, пришедшую на его голос, оседлал ее, свернул бизонью шкуру в валик, похожий на скатку кавалериста, запасся змеиной травой и, с невероятным трудом сев в седло, направил лошадь в сторону деревни индейцев-навахо, находившейся на расстоянии пяти или шести льё.
Он давно подружился с этим племенем, и потому его радушно там приняли. Один старый индеец занялся его лечением. Но так как Алуна уже выздоравливал, то лечение длилось недолго.
С тех пор Алуна расценивал укус гремучей змеи как самое обыкновенное происшествие; правда, он всегда носил при себе в небольшом кожаном мешочке целебные травы и корни, обновляя их запас каждый раз, когда представлялся такой случай.
XIV. АЛУНА
Нередко, с какой-то особой грустью поднимая голову, Алуна говорил:
– Это было в то время, когда я сошел с ума!
Мы так никогда и не поняли, о каком безумии он хотел сказать. Лично я считал и буду так считать, пока не получу убедительных доводов против своего мнения, что для Алуны слова «В то время, когда я сошел с ума» означали просто-напросто: «В то время, когда я был влюблен».
По другим обрывкам разговоров, вырванным из наших долгих вечерних бесед, мне стало более или менее понятно, как я сейчас сказал, что Алуна был влюблен и, потеряв любимую женщину, впал в своего рода хандру, которая привела его к порогу безумия. Как он потерял эту женщину? Это так и осталось для меня неясно, поскольку Алуна ничего определенного на эту тему не говорил, и я могу лишь строить предположения.
Короче, в то время, когда Алуна сошел с ума, он жил вблизи гор Уинд-Ривер, на берегах реки Арканзас, и задумал построить себе хижину. Почему же эта хижина, начатая с такой любовью, так и не была закончена? Почему она осталась недостроенной и едва защищенной плохо пригнанными ставнями и дверью с простой щеколдой? Не потому ли, что однажды Алуна понял, что ему придется одному жить в доме, который он начал строить для двоих, и с тех пор для него уже не было важно, останется ли дом открыт или заперт, ибо исчезло единственное сокровище, достойное, по его представлениям, замков и запоров?
Как-то раз он после долгого отсутствия вернулся ночью домой и обнаружил, что дверь, которая должна была быть закрытой, отперта, а груда маиса, сложенная им в одном из углов хижины и доходившая до самого потолка, заметно уменьшилась. Ему не так уж важны были эти запасы маиса, которые обычно превышали его потребности и которыми он всегда делился со своими соседями, стоило кому из них его об этом попросить; однако Алуна крайне не любил, когда кто-то без предупреждения касался его добра, и в краже видел не только кражу, но еще и своего рода презрение вора к тому, кого он обворовывал.
Так что кража привела Алуну в дурное расположение духа.
Вор оставил дверь открытой; стало быть, он не церемонился и рассчитывал вернуться.
Алуна лег в постель, положил рядом с собой топор, служивший ему для плотницких работ, и, оставив на поясе свой мексиканский нож, стал ждать вора.
Однако для Алуны, как и для всех людей, ведущих деятельную жизнь, сон, пусть даже очень короткий, был настоятельной потребностью.
И потому, несмотря на все усилия, какие предпринимал Алуна, чтобы остаться бодрствовать, он задремал.
Среди ночи он проснулся. Ему показалось, что кто-то беззастенчиво роется в куче маиса и сухие листья шуршат под нажимом, который никто и не собирался утаивать.
Несомненно, вор даже не дал себе труда подойти к кровати и, полагая, что Алуна по-прежнему отсутствует, без всякого опасения копался в маисе.
Это показалось Алуне наглостью, и он крикнул по-испански:
– Кто здесь?
Шум прекратился, но никто не отозвался.
Алуна приподнялся на кровати и, видя, что вор хранит молчание, повторил вопрос, но уже на языке индейцев; однако, заданный и на этом языке, вопрос остался без ответа.
Такое молчание только настораживало: вошедший в хижину человек, кем бы он ни был, несомненно хотел выйти из нее так же, как вошел, то есть оставшись неузнанным. Казалось даже, что он ступает медленным и приглушенным шагом, словно опасаясь, что его услышат, хотя время от времени дыхание, с которым он явно не мог совладать, выдавало его присутствие.
Алуне даже казалось, что эти шаги, вместо того чтобы направиться к двери, приближаются к кровати.
Вскоре никаких сомнений в этом не осталось: вор намеревался захватить его врасплох и приближался к нише, служившей ему альковом.
Алуна приготовился к схватке.
Поскольку эта схватка явно должна была стать рукопашной, он взял в левую руку нож, в правую – топор и стал ждать.
Через минуту он скорее почувствовал, чем увидел, что противник находится всего лишь в двух шагах от него.
Он вытянул руку и наткнулся на грубую мохнатую шкуру.
Сомнений не оставалось: вор был медведем.
Алуна живо попятился, но позади него была стена, не позволявшая ему отступать дальше, поэтому поневоле приходилось принимать бой.
Алуна был не из тех, кто идет на попятную; к тому же, как он сам говорил, это было то время, когда он сошел с ума и к любым опасностям относился с безразличием, ибо для него было предпочтительно разом покончить с оставшимися ему годами жизни.
Он поднял топор и со всего размаха и наугад ударил им сверху вниз, не зная, на что натолкнется его оружие, и полагаясь в этом отношении лишь на случай или на Провидение.








