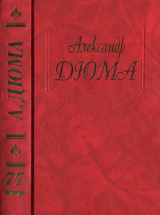
Текст книги "Две недели на Синае. Жиль Блас в Калифорнии"
Автор книги: Александр Дюма
Жанры:
Зарубежная классика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 43 страниц)
Так что мы видели теперь целые толпы женщин, закутанных в черные или белые покрывала, обутых в желтые башмаки и с лицами, закрытыми лоскутом ткани длиной в полтора фута и шириной во все лицо; эта своеобразная борода, напоминающая маску домино и заостренная, как и она, книзу, свешивается на лицо начиная от глаз и прикрепляется к покрывалу, спускающемуся на лоб, с помощью золотой цепочки, нитки жемчуга или снизки ракушек – в зависимости от благосостояния или прихоти той, что ее носит. Эти женщины, которые никогда не ходят пешком, передвигаются верхом на ослах, в сопровождении евнуха, идущего впереди с палкой в руке. Мы видели целые эскадроны таких наездниц, насчитывавшие шестьдесят, восемьдесят, а то и сто женщин; иногда за ними следовал сам владелец гарема, что казалось нам верхом тщеславия с его стороны, принимая во внимание религиозную подоплеку, на которую намекало это шествие.
II. БАНИ
На следующий день я отправился в бани прямо к их открытию. После мечетей это самые красивые сооружения в городах Востока. Те, куда меня привели, представляли собой большое здание простой архитектуры, украшенное искусным орнаментом; при входе туда попадаешь в просторную прихожую, по обе стороны которой расположены комнаты, где оставляют верхнюю одежду. В глубине прихожей, напротив входа, находится плотно закрытая дверь; перешагнув ее порог, вы оказываетесь в помещении, где воздух даже горячее, чем на улице. Попав туда, вы еще имеете время ретироваться, но стоит вам вступить в один из примыкающих к этому помещению кабинетов, как вы себе уже не принадлежите. Вами завладевают два служителя, и вы становитесь собственностью заведения.
Именно это, к моему глубокому изумлению, и произошло со мной: не успел я войти, как меня схватили два дюжих банщика; в одно мгновение я оказался совершенно голым, затем один из них повязал мне вокруг бедер льняной платок, а второй тем временем пристегнул к моим ногам гигантские деревянные башмаки на подставках, сразу же сделавшие меня выше на целый фут. Эта необычная обувь не только тотчас лишила меня всякой возможности обратиться в бегство, но к тому же, приподнятый на такую высоту, я уже не мог бы сохранять равновесие, если бы два моих банщика не поддержали меня под руки. Я попался, отступать было некуда, и мне пришлось подчиниться.
Мы прошли в другую комнату, но, при всей своей полной покорности, я ощутил удушье, настолько насыщенным там был пар и настолько невыносимой казалась жара. Подумав, что мои провожатые ошиблись и завели меня прямо в печь, я попытался вырваться, но мое сопротивление было предусмотрено; к тому же я не располагал ни подходящим одеянием, ни выгодной позицией, чтобы вести борьбу, и потому, признаться, был побежден.
Правда, уже через мгновение я с удивлением ощутил, что, по мере того как по телу моему струится пот, дыхание у меня возвращается, а легкие расширяются. Мы прошли таким образом через четыре или пять комнат, температура в которых раз за разом повышалась так быстро, что я уже начал было думать, будто пять тысячелетий назад человек ошибся в выборе своей стихии и истинное его предназначение состоит в том, чтобы быть сваренным или зажаренным. Наконец мы очутились в парильне; пар там был настолько густым, что сначала я ничего не мог разглядеть даже в двух шагах от себя, а жара настолько нестерпимой, что я почувствовал приближение обморока. Закрыв глаза, я отдался на милость своих провожатых, которые протащили меня еще несколько шагов, а затем, сняв с моего пояса платок и отстегнув мои деревянные башмаки, положили, наполовину бездыханного, на возвышение посреди комнаты, походившее на мраморный стол в анатомическом театре.
Однако спустя несколько минут я и на этот раз начал привыкать к подобной адской температуре; воспользовавшись тем, что все мои телесные способности стали постепенно восстанавливаться, я незаметно осмотрелся по сторонам. Как и все прочие органы чувств, мои глаза свыклись с обволакивавшей меня атмосферой, и потому, несмотря на завесу пара, мне удалось довольно отчетливо рассмотреть окружающие предметы. Мои палачи, казалось, на какое-то время забыли обо мне: я видел, что они чем-то заняты в другом конце комнаты, и решил воспользоваться короткой передышкой, которую им было угодно мне предоставить.
Так что я мало-помалу огляделся и в конце концов осознал положение, в каком мне довелось оказаться: я находился в центре большого квадратного зала, стены которого были на высоту человеческого роста покрыты разноцветным мрамором; из открытых кранов, испуская пар, беспрерывно лилась на плиты пола горячая вода, откуда она стекала в стоявшие по углам зала четыре бассейна, похожие на котлы, и было видно, как там на ее поверхности покачиваются бритые головы людей, блаженство которых выдавалось нелепейшим выражением их лиц. Я так увлекся этим зрелищем, что не обратил должного внимания на возвращение двух моих банщиков. Они подошли ко мне, держа в руках: один – большую деревянную миску с мыльным раствором, другой – пучок тонкого лубяного волокна.
Внезапно мне показалось, что в голову, в глаза, в нос и в рот мне вонзились тысячи игл: это злодей-банщик плеснул мне в лицо своей мыльной жидкостью и, пока его напарник держал меня за плечи, принялся яростно тереть мне лицо, голову и грудь. Боль была столь невыносимой, что ко мне вернулась вся моя энергия; мне показалось нелепым безропотно позволять так истязать себя: я оттолкнул одного банщика ногой, другого повалил ударом кулака, а затем, рассудив, что единственное спасение от моей беды – это с головой погрузиться в воду, кинулся к тому из четырех бассейнов, который показался мне самым густонаселенным, и храбро бросился в него: вода там оказалась кипятком. Я закричал так, как кричит охваченный огнем человек, и, цепляясь за своих соседей, которые никак не могли понять причин моего беспокойства, вскарабкался на край ванны почти столь же стремительно, как и погрузился в нее. Но каким бы коротким ни было омовение, оно возымело свое действие: я весь, с головы до ног, стал красным как рак.
На мгновение я замер, решив, что мной овладело какое-то страшное сновидение. На глазах у меня люди заживо варились в своего рода пряном наваре и, казалось, получали величайшее наслаждение от этой пытки. Это перевернуло все мои представления о наслаждении и страдании, ибо то, что заставляло страдать меня, явно доставляло наслаждение другим; так что я принял решение впредь не полагаться на собственные суждения и не доверяться собственным чувствам, а просто позволить делать с собой все что угодно; в итоге, когда оба палача подошли ко мне, я уже полностью смирился со своей участью и покорно последовал за ними к одному из четырех бассейнов. Подведя меня к его ступеням, они подали мне знак спускаться; я без всякого сопротивления подчинился и очутился в воде, температура которой, как мне показалось, была от 35 до 40 градусов, то есть, на мой взгляд, вполне умеренной.
Из этого бассейна я перешел в другой, где вода была горячее, но все же терпимой. В нем, как и в первом, я оставался около трех минут. Затем банщики отвели меня в третий – здесь вода была на десять-двенадцать градусов выше, чем в предыдущем; и наконец, из этого третьего они перевели меня в четвертый, где мне предстояло пройти через муки адского грешника. Как ни тверда была моя решимость выдержать все испытания, я приблизился к нему с величайшей неохотой. Подойдя к спуску в бассейн, я прежде всего попробовал воду краешком пятки: вода по-прежнему показалась мне горячей, но не в такой степени, как это было в первый раз. Я отважился опустить в бассейн сначала одну ногу, затем другую и в конце концов погрузился в него целиком, как нельзя более удивляясь, что вода в нем не казалась мне теперь обжигающей. Дело в том, что на этот раз я подступал к ней постепенно, и все предыдущие бассейны подготовили меня к такому испытанию. Через несколько секунд я уже не думал о том, насколько она горяча, а между тем могу поручиться, что ее температура была от 60 до 65 градусов; правда, когда я вылез из бассейна, цвет кожи у меня стал еще темнее: из пунцового я сделался малиновым.
Два моих мучителя вновь завладели мною, опять повязали мне вокруг бедер пояс, затем обмотали мою голову платком наподобие тюрбана и провели меня в обратном порядке через залы, где мы уже побывали прежде, и каждый раз, когда температура воздуха понижалась, они не забывали надеть на меня очередной пояс и очередной тюрбан. Наконец я оказался в первой комнате, где оставалась моя одежда. Там уже были приготовлены мягкий ковер и подушка; меня снова лишили пояса и тюрбана, облачили в просторный шерстяной халат и, уложив, как ребенка, оставили в одиночестве.
Меня охватило бесконечное блаженство: я чувствовал себя совершенно счастливым, но столь ослабевшим, что, когда через полчаса дверь в мою комнату открыли, меня нашли точно в таком же положении, в каком оставили.
Новый персонаж, появившийся на сцене, был статным и мускулистым молодым арабом: с видом человека, у которого есть ко мне дело, он направился к моему ложу. Я следил за тем, как он приближается ко мне, с некоторым страхом, вполне естественным для того, кто только что прошел через такие испытания, но был настолько слаб, что мне даже не пришло в голову подняться. Сначала араб потянул меня за кисть левой руки, заставив захрустеть все ее суставы; потом принялся за правую, обойдясь с ней точно так же. После рук настал черед ступней и коленей; наконец, последним ловким движением он распластал меня, как голубя на рашпере, и, нанеся мне удар, каким приканчивают приговоренного к смерти, заставил захрустеть весь мой позвоночник. На этот раз я издал настоящий крик ужаса, решив, что у меня сломан позвоночный столб. Что же касается моего массажиста, то он, довольный достигнутым результатом, от первого упражнения перешел ко второму и принялся с необычайным проворством разминать мне руки, ноги и ляжки; это продолжалось примерно четверть часа, после чего он покинул меня. Теперь я ослабел еще больше, чем прежде, к тому же у меня болели все суставы. Я хотел было подтянуть поближе ковер, чтобы укрыться им, но у меня не хватило на это сил.
Слуга принес мне кофе, чубук и курильницы; заметив мою наготу, он набросил на меня шерстяное одеяло и ушел, оставив упиваться благовониями и табаком. В этой полудреме я провел еще полчаса, погруженный в неясные грезы сладостного опьянения, испытывая неведомое мне ощущение блаженства и полнейшее безразличие ко всему на свете. Из этого блаженного состояния меня вывел цирюльник, который принялся меня брить, затем расчесал мне бороду и усы и, наконец, предложил выщипать волосы на всем моем теле; поскольку я не имел ни малейшей склонности к такого рода процедуре, это предложение осталось без ответа.
Цирюльника сменил мальчик лет четырнадцатипятнадцати, явившийся якобы за тем, чтобы потереть мне пятки пемзой. Совершенно не догадываясь о его дальнейших намерениях, я вверил ему свои ноги; однако, при виде того, что по завершении операции мальчик все еще стоит, словно ожидая чего-то, я поинтересовался у него, что ему нужно: он ответил мне арабской фразой, из которой я не понял ни слова. В знак своего непонимания я отрицательно покачал головой, и тогда он дополнил свое высказывание столь выразительным жестом, что ошибиться в его предложении было невозможно. Я ответил ему другим жестом, от которого он отлетел шагов на десять.
Услышав шум, произведенный его падением, вернулся массажист: знаком я показал ему, что хочу уйти; он принес мое платье и помог мне одеться, поскольку я чувствовал себя еще столь обессилившим и разбитым, что едва мог держаться на ногах. После этого он проводил меня в комнату, выходившую в прихожую, где лежала моя верхняя одежда; затем я заплатил за баню, пребывание в которой длилось у меня три часа: за банщиков, цирюльника, массажиста, за трубку, кофе и благовония, за сделанное мне предложение и за пинок, данный мною в ответ на него, – полтора пиастра, то есть одиннадцать су нашими деньгами. Это было удивительно!
У дверей я обнаружил ослов с погонщиками, и на этот раз меня не пришлось долго упрашивать. Я сел в седло и спокойно поехал шагом. Хотя было уже около десятиодиннадцати часов утра, мне показалось, что воздух на улице чрезвычайно свеж. Это объяснялось контрастом с воздухом в бане, и тут мне стало понятно, почему турк так фанатично предаются этому развлечению, лично мне показавшемуся столь невыносимым.
Вернувшись в консульство, я узнал, что в отсутствие своего отца, находившегося в Дельте, Ибрагим-паша примет нас в тот же день. Аудиенция была назначена на полдень. У меня еще оставалось два часа, и я воспользовался этим, чтобы лечь в постель.
В назначенный час явился офицер принца, чтобы встать во главе кортежа, состоявшего из г-на де Мимо, барона Тейлора, капитана Белланже, Мейера и меня. По бокам кортежа шли два кава с а, обязанность которых заключалась в том, чтобы ударами палок отгонять любопытных, мешавших шествию нашего посольства.
Совсем недавно паша провел важные преобразования, ограничивающие и регулирующие государственные расходы. Примерно полгода назад он упразднил прежний военный мундир и ввел новый, названный низам-и– д ж е д и д. На пути нашего кортежа встретилось несколько отрядов пехотных войск, облаченных в этот мундир, который включает красный тарбуш, красную куртку, красные штаны и красные туфли. Эта униформа была добросовестно введена, и египетские полки являют теперь собой достаточно приемлемое по набору цветов зрелище. Правда, в противоположность этому лица солдат отличаются полнейшим разнообразием оттенков: от белой матовой кожи черкесов до эбеновой кожи сынов Нубии; но, несмотря на все усилия паши, эту помеху ему устранить пока не удалось.
О другой, не менее серьезной помехе я уже упоминал. Эти полки, которые под грохот барабанов, исполняющих французские марши, продвигаются по грязным улицам Александрии, неспособны не только шагать в ногу, но даже просто соблюдать строй, невзирая на все попытки замыкающих шествие сержантов поддерживать в рядах порядок. Это объясняется тем, что каждые несколько минут красные бабуши солдат увязают в грязи и их обладателям приходится останавливаться, чтобы они там не остались. Такой часто повторяющийся маневр, никоим образом не предусмотренный в школе пехотинцев, вносит беспорядок в ряды египетского ополчения, которое из-за этого можно на первый взгляд принять за местную национальную гвардию. Впасть в подобную ошибку тем более простительно, что в этом жарком климате, где всякий груз превращается в тяжелое бремя, каждый солдат несет свое ружье как угодно, самым удобным для себя образом.
Наконец, наш кортеж преодолел все препятствия и прибыл ко дворцу. Во дворе мы увидели полк из точно таких же солдат: они ожидали нас, стоя под ружьем. Мы проследовали между двумя шеренгами, поднялись по лестнице и прошли через анфиладу огромных белых залов без всякой меблировки, в центре каждого из которых бил фонтан. В предпоследнем зале г-н Тейлор остановился, чтобы разложить подарки, предназначенные принцу Ибрагиму. Они включали полковничьи доспехи кирасиров и карабинеров, охотничьи ружья и боевые пистолеты. Когда все это было разложено, мы вошли в приемный зал.
Он ничем не отличался от предыдущих залов, в нем тоже не было никакой мебели, за исключением огромного дивана, опоясывающего все помещение. В самом темном углу зала на диван была брошена львиная шкура, и на этой шкуре на корточках сидел Ибрагим, скрестив ноги и держа в левой руке четки, а правой перебирая пальцы на ноге.
Господин Тейлор поклонился и сел справа от принца, г-н де Мимо – слева от него, а остальные участники кортежа расположились как им было угодно. В начале приема никто не произнес ни слова. Как только гости расселись, Ибрагим подал знак принести зажженные трубки, и все закурили. В течение нескольких минут, пока длилась эта процедура, у нас была возможность не торопясь разглядеть принца Ибрагима. На голове у него был греческий колпак, он носил военный мундир нового образца и выглядел лет на сорок. Что до остального, то он был невысок, коренаст, крепок, краснолиц, имел живые, блестящие глаза, а усы и борода у него были такого же цвета, как львиная шкура, на которой он сидел.
Когда трубки были выкурены, принесли кофе. Трубка и кофе, поданные вместе, означают высочайшие почести. На обычных приемах чаще всего подают либо одно, либо другое. Выпив кофе, Ибрагим медленно поднялся, направился к двери и в сопровождении шедших следом за ним г-на Тейлора и других гостей вошел в зал с подарками. Он рассматривал их один за другим, выказывая явное удовольствие; доспехи карабинеров, украшенные золотым солнцем, по-видимому особенно ему понравились. Однако, когда осмотр подарков закончился, принц явно продолжал искать глазами что-то еще и, не обнаружив то, что он искал, сказал несколько слов своему переводчику, который обратился к г-ну Тейлору.
– Его высочество, – произнес он, – спрашивает, не пришла ли вам в голову мысль привезти ему шампанское?
– Да, – промолвил принц, сопровождая последнее французское слово выразительным кивком, – да, шампанское, шампанское!
Господин Тейлор ответил, что мы предугадали желание его высочества и что несколько ящиков с бутылками шампанского уже, должно быть, доставлены во дворец.
С этой минуты Ибрагим стал с нами еще любезнее; он вернулся в приемный зал, долго говорил о Франции, которую, по его словам, он, будучи внуком француженки, считал своей второй родиной. Затем в зал вошли рабы с горящими курильницами, поднесли их к нам и в качестве заключительного знака уважения надушили благовониями наши бороды и лица. Когда эта церемония была завершена, г-н Тейлор поднялся и простился с принцем, поочередно поднося правую руку ко лбу, ко рту и к груди, что на образном и поэтичном языке Востока означает: «Мои мысли, мои слова и мое сердце принадлежат тебе!»
Затем посольство вернулась в консульство, следуя в том же порядке, в каком оно из него вышло.
Вечером г-н де Мимо предложил нам отправиться в театр. В Александрии имелся любительский театр; там играли два водевиля Скриба.
III. ДАМАНХУР
Между тем, не желая, чтобы мы теряли в Александрии, где ему нужно было ждать возвращения паши, драгоценное время, г-н Тейлор послал Мейера и меня вперед зарисовывать мечети того города из «Тысячи и одной ночи», который арабы называют эль-Маср, а французы – Каир. Утром 2 мая мы верхом на ослах выехали из Александрии, сопровождаемые двумя погонщиками и нашим слугой Мухаммедом, который шел пешком.
Мухаммед был юный нубиец, выносливый, расторопный и сообразительный, немного изъяснявшийся по– французски и носивший свой национальный костюм; этот костюм, чрезвычайно простой и вместе с тем необычайно живописный, состоял из белых штанов и длинной синей рубахи, широкие приподнятые рукава которой были подтянуты при помощи шелковых шнуров, скрещивавшихся посредине спины. Голова у него была покрыта тарбушем и обмотана белым тюрбаном, на плечи накинут черный плащ абайя, а пояс перетянут кушаком, на котором висел кинжал с рукояткой из слоновой кости; его выразительное лицо с тонкими чертами обрамляли длинные вьющиеся волосы; усы свисали по обе стороны безупречно очерченного рта, а борода, редкая на щеках, сгущалась к подбородку и заканчивалась клинышком.
Помимо двух погонщиков и нубийца, в наш конвой входили в качестве подкрепления также два к а в а с а – своего рода стражники из городского ополчения, которых губернатор Александрии приставил к нам, чтобы облегчить начало нашего путешествия; они носили особое форменное платье, какое некогда было у мамлюков, и им было поручено добиваться для нас помощи и покровительства со стороны турецких властей. Нам и в самом деле очень скоро понадобились их услуги.
В течение нескольких часов мы двигались по дороге, ведущей из Александрии в Даманхур, как вдруг на пути у нас оказался канал Махмудия, представлявший собой, вполне возможно, не что иное, как древнюю Фоссу, по которой воды Нила шли из Схедии в Александрию; переход через него охранялся турецкими солдатами, которым мы предъявили наши текерифы, то есть паспорта. Начальник склонил голову перед украшавшими их иероглифами и объявил нам, что мы вправе продолжать свой путь, но только пешком и без свиты. Мы попросили объяснить причину столь странного решения и снова показали свои паспорта; на это второе их представление начальник, вновь согнувшись в поклоне, ответил, что наши документы в полном порядке: в центре, как и полагается, изображены план и фасад храма Соломона, по углам – печать Салах ад-Дина, печать Сулеймана, сабля и рука справедливости Магомета, но ничего не говорится о нашем слуге, ослах и погонщиках. Тогда мы призвали на помощь кавасов, но у них не оказалось никакого мнения относительно этого спорного вопроса. Однако они дали нам совет – предложить дюжину пиастров начальнику караула. Поскольку египетский пиастр стоит не более семи-восьми французских су, мы не усмотрели никаких затруднений в том, чтобы последовать этому совету; к тому же мы не замедлили убедиться, что он был наилучшим из возможных.
Ворота к каналу открылись, и мы сами, наши ослы и слуги торжественно прошествовали через них; что же касается кавасов, то они дальше с нами не пошли, ибо их обязанности ограничивались тем, чтобы открыть перед нами ворота канала: как они с этим справились, мы видели. Тем не менее мы дали им б а к ш и ш – то, что во Франции называется чаевыми, у немцев – Trinkgeld, а в Испании – propina и служит золотым ключом к воротам всех стран.
Мы следовали вдоль берега канала и после двух часов пути по однообразной равнинной местности остановились у ворот дома, который принадлежал греку по имени Туитза, принявшему нас в своем небольшом квадратном дворике и позволившему нам перекусить там в тени, но при условии, что провизией на обед мы обеспечим себя сами и он примет участие в нашей трапезе. Гостеприимство грека напомнило мне Сицилию, где путешественники кормят трактирщиков.
Покончив с едой, мы распрощались с хозяином и снова тронулись в путь. Дорога из Александрии в Даман– хур примечательна лишь отсутствием всякой растительности; мы продвигались по морю песка, в котором наши ослы и наши провожатые увязали по колено. Время от времени очередной обжигающий порыв ветра, насыщенный пылью, ослеплял нам глаза, и по тому, как на мгновение у нас сдавливало грудь, можно было догадаться, что мы только что вдохнули раскаленный воздух пустыни. Изредка мы замечали, как то слева, то справа, на небольших возвышенностях, при разливе реки обращающихся в острова, мелькают круглые деревни из кирпичных или глинобитных домов конической формы, в стенах которых пробиты небольшие квадратные отверстия, предназначенные для того, чтобы пропускать внутрь ровно столько дневного света, сколько необходимо, а жаркого воздуха – как можно меньше.
Наконец, по краям дороги нам стали попадаться то реже, то чаще, хотя и довольно близко одна от другой, одинокие могилы отшельников, или дервишей, покрытые тенью пальм, этих благочестивых спутниц гробниц; под пальмами стремительно кружили с пронзительными криками стаи ястребов.
Было около трех часов, когда вдали показался Даман– хур – первый по-настоящему арабский город, который мы намеревались посетить, ибо Александрия, с ее вненациональным населением являет собой лишь смешение различных народов, от взаимного соприкосновения которых их характер и самобытность мало-помалу стираются.
Даманхур предстал перед нами в мираже, словно остров, окруженный водой и подернутый пеленой; по мере того как мы приближались к городу, привидевшееся нам озеро постепенно исчезало и предметы обретали свои подлинные очертания; наши тени стали длиннее в последних лучах заходящего солнца, а пальмы грациозно покачивали на свежем вечернем ветру своими зелеными султанами, когда мы спешились перед воротами города, изящные минареты которого высились над стенами мечетей, раскрашенных попеременно красными и белыми полосами.
Перед тем как пройти через ворота, мы на минуту остановились, чтобы рассмотреть этот непривычный для нас пейзаж.
Прозрачное чистое небо тех тончайших тонов, какие неспособна передать ни одна кисть; пруды, которые в самом деле подходят с одной стороны к городу и отражают в своих стоячих водах его крепостные стены; длинные вереницы верблюдов, подгоняемые крестьянами– арабами и медленно вступающие в город, – все это вносило в дивную картину, представшую нашим глазам, приметы жизни, покоя и благополучия, особенно заметные после того преддверия пустыни, которое мы только что пересекли.
В Даманхуре имеется всего лишь один постоялый двор, хотя численность населения города составляет восемь тысяч душ. Проведя нас по улицам, отличавшимся каким-то диковатым своеобразием, Мухаммед привел нас к этому благословенному караван-сараю, который мы заранее, в соответствии с описаниями из «Тысячи и одной ночи», представляли себе как нечто совершенно сказочное. К несчастью, нам так и не удалось сравнить поэтический вымысел и действительность; караван-сарай был так переполнен постояльцами, что в нем не смогла бы найти пристанище даже мышь, и, несмотря на все наши доводы и посулы, мы были вынуждены уйти ни с чем. Хотя нам уже довелось испытать немало разочарований в этом путешествии, в голову мне пришло воспоминание об арабском гостеприимстве, так часто восхваляемом путешественниками и воспеваемом поэтами, и я попросил Мухаммеда попытать счастья у хозяев самых благоустроенных домов, какие встретились нам по дороге, но все наши просьбы оказались тщетными; весьма пристыженные полученным отказом, мы были вынуждены вернуться к нашим спутникам, которые, будучи предусмотрительнее нас и не желая напрасно расходовать силы, ждали нас у городских ворот. Выбора у нас не оставалось; я огляделся вокруг, чтобы подыскать удобное место для лагерной стоянки, и, увидев рощу финиковых пальм, велел расстелить ковры под их кронами, а затем первым подал пример покорности велениям Провидения, затянув потуже брючный ремень и улегшись спиной к негостеприимному городу, отринувшему нас от своего лона.
Однако судьба распорядилась так, что прямо в поле моего зрения, в противоположной от города стороне, оказался прелестный арабский дом, белые стены которого отчетливо выделялись на нежно-зеленом фоне зарослей мимозы. Я не смог удержаться от желания предпринять последнюю попытку и отрядил Мухаммеда для переговоров с хозяином этого оазиса. К несчастью, он был в городе, а в его отстутствие слуги не осмелились принять в доме посторонних.
Полчаса спустя я увидел, как из Даманхура выехал и направился в нашу сторону богато одетый всадник на великолепном белом коне, сопровождаемый многочисленной свитой; я предположил, что это и есть хозяин дома, и велел нашему маленькому каравану принять как можно более жалкий вид и выстроиться на обочине дороги, где должен был проехать всадник. Когда он оказался в десяти шагах от нас, мы приветствовали его; он ответил на наше приветствие и, по нашей одежде распознав в нас европейских путешественников, поинтересовался, какая причина удерживает нас за городскими стенами в столь поздний час. Мы поведали ему о своих злоключениях, пустив в ход обороты речи, более всего способные его растрогать. Хотя в переводе наш рассказ наверняка лишился своей занимательности, он, тем не менее, произвел замечательное действие: хозяин предложил нам следовать за ним и переночевать в окруженном зелеными мимозами белом доме, вот уже целый час являвшемся предметом наших желаний.
Вначале нас провели в просторную комнату, вдоль стен которой тянулся широкий диван, устланный циновками. Мы положили поверх них свои ковры, но, несмотря на такую предосторожность, диванные подушки мягче не стали. Едва мы закончили приготовления к ночному сну, как вошли трое слуг, каждый из которых нес фарфоровое блюдо, накрытое высокой серебряной крышкой искусной работы: на одном было нечто вроде рагу из баранины, на другом – рис, на третьем – овощи; слуги поставили эти угощения прямо на пол. Мы с Мейером сели на корточки друг против друга. Невольник принес нам чашу для ополаскивания рук, и мы начали знакомиться с восточной кухней, беря еду руками, что, несмотря на испытываемый нами голод, несколько лишало нашу трапезу очарования. Что же касается напитков, то ими послужила самая обычная вода, поданная в узкогорлом кувшине с серебряной пробкой. После ужина тот же невольник снова принес все необходимое, чтобы мы могли ополоснуть руки и рот; затем нам подали кофе и чубуки и предоставили на наш выбор возможность бодрствовать или спать.
Какое-то время мы еще поглядывали друг на друга сквозь табачный дым из наших трубок, а затем, возблагодарив хозяина дома за его гостеприимство, закрыли глаза, препоручив его милости Пророка.
Наутро я проснулся с рассветом, тотчас встал с дивана и вышел из дома. Я обошел весь город в поисках самой лучшей точки обзора, а затем, набросав общий вид и сделав две или три зарисовки мечетей, бегом вернулся к нашему каравану, чтобы распорядиться насчет отъезда. Прежде чем покинуть дом, я хотел поблагодарить хозяина, но наш благонравный мусульманин находился в это время в гареме, и, стало быть, никакой возможности увидеть его не было; тогда я решил узнать, как его зовут, чтобы сообщить его имя последующим поколениям: он звался Рустам-эфенди. Я дал бакшиш слугам, мы сели на ослов и, отъехав шагов на пятьсот от Даманхура, вновь оказались посреди пустыни.
Часов шесть или семь мы двигались среди песков, а затем, наконец, достигли невысокого горного хребта и с его вершины совершенно неожиданно увидели Нил.
Безводные равнины сменились восхитительными пейзажами: вместо нескольких одиноких пальм, затерявшихся на раскаленном горизонте, появились рощи деревьев, усыпанных плодами, и поля, засаженные маисом.
Египет – это глубокая долина реки, берега которой являют собой огромный сад, с двух сторон подтачиваемый пустыней; среди этих зарослей мимозы и далий, над этими полями маиса и риса порхали неведомые птицы со звонкими голосами и с оперением цвета рубинов и изумрудов. Огромные стада буйволов и овец, сопровождаемые худыми и нагими пастухами, шли вниз вдоль течения Нила, по которому нам предстояло подниматься вверх. Два огромных волка, несомненно привлеченные запахом скота, вышли из купы деревьев в пятидесяти шагах впереди нас и остановились посередине дороги, словно преграждая нам путь, но сразу же обратились в бегство, как только наши погонщики стали бросать в них камни. Ночь быстро опускалась, и дорога, то и дело пересекаемая оросительными каналами, становилась все труднее; порой она оказывалась раскисшей до такой степени, что наши ослы увязали в грязи по колено и внезапно останавливались. Хотя мы никак не были расположены идти пешком по такой трясине, нам приходилось спешиваться; вскоре нам пришлось преодолевать настоящие бурные потоки, мы промокли по самую грудь, и эти омовения, хотя и более освежающие, чем александрийские бани, были куда менее приятными. Взошла луна и, слабо освещая нам путь, придала новые краски этому дивному пейзажу. Несмотря на трудности дороги, мы не могли остаться равнодушными к окружающим нас красотам: на вершинах холмов, отделяющих долину от пустыни, грациозно раскачивались пальмы, отчетливо выделявшиеся на фоне ночного неба, и на каждом шагу нам встречались мечети, стоявшие на самом берегу Нила, в тени окружающих их густолиственных смоковниц, которые склоняли к песку свои длинные ветви. К сожалению, каждые несколько минут нас вырывал из этого восторженного состояния какой-нибудь канал, куда нам нужно было спускаться, или какая-нибудь трясина, где мы вполне могли увязнуть; так что, когда на горизонте появилась Розетта, мы уже настолько основательно промокли, что в башмаки у нас, как у Панурга, вода просочилась через ворот рубашки.








