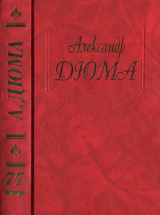
Текст книги "Две недели на Синае. Жиль Блас в Калифорнии"
Автор книги: Александр Дюма
Жанры:
Зарубежная классика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 43 страниц)
Annotation
Две недели на Синае
ПРЕДИСЛОВИЕ
I. АЛЕКСАНДРИЯ
II. БАНИ
III. ДАМАНХУР
IV. ПЛАВАНИЕ ПО НИЛУ
V. КАИР
VI. КАИР (продолжение)
VII МУРАД. ПИРАМИДЫ
VIII. СУЛЕЙМАН ЭЛЬ-ХАЛЕБИ
IX. ВИЗИТЫ К ПОЛКОВНИКУ СЕЛЬВУ И КЛОТ-БЕЮ
X. ГОРОД ХАЛИФОВ
XI. АРАБЫ И ДРОМАДЕРЫ
XII. ПУСТЫНЯ
ХIII. КРАСНОЕ МОРЕ
XIV. ДОЛИНА БЛУЖДАНИЯ
XV. СИНАЙСКИЙ МОНАСТЫРЬ
XVI. ГОРА ХОРИВ
XVII. ХАМСИН
XVIII. ГУБЕРНАТОР СУЭЦА
XIX. ДАМЬЕТТА
XX. МАНСУРА
XXI. ДОМ ФАХР АД-ДИНА БЕН ЛУКМАНА
Жиль Блас
ПРЕДИСЛОВИЕ
I. ОТЪЕЗД[24]
II. ИЗ ГАВРА В ВАЛЬПАРАИСО
III. ИЗ ВАЛЬПАРАИСО В САН-ФРАНЦИСКО
IV. САН-ФРАНЦИСКО
V. КАПИТАН САТТЕР
VI. Я СТАНОВЛЮСЬ РАССЫЛЬНЫМ
VII. ПРИИСКИ
VIII. СЬЕРРА
IX. АМЕРИКАНЦЫ
X. ПОЖАР В САН-ФРАНЦИСКО
XI. ОХОТА
XII. НАША ПЕРВАЯ НОЧНАЯ ОХОТА В ПРЕРИЯХ
XIII. ЗМЕИНАЯ ТРАВА
XIV. АЛУНА
XV. САКРАМЕНТО
XVI. ОХОТА НА МЕДВЕДЯ
ХVII. ЛА МАРИПОСА
XVIII. Я СТАНОВЛЮСЬ СЛУГОЙ В РЕСТОРАНЕ,
XIX. ПОЖАР
XX. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
КОММЕНТАРИИ
notes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Две недели на Синае
ПРЕДИСЛОВИЕ
Среди тысяч путешественников, написавших миллионы томов, я всегда находил лишь двух, чьи рассказы по-настоящему красочны и подлинно занимательны: и это при том, что родились они с разницей в две тысячи четыреста лет.
Одного из них звали Геродот, другого – Левальян.
Признательное потомство отплатило им тем, что обоих объявило лжецами.
Но не стоит думать, что это мнение основывается на каких– либо доказательствах, полученных в результате более добросовестных, чем у них, изысканий в тех самых местах, какие они некогда объездили; или оно вытекает из сделанных ими ошибок, обнаруженных кем-то, кто прошел по их следам; или оно обязано своим появлением исправлению ошибочных теорий, выдвинутых ими относительно течения рек или местоположения человеческих племен.
Нет, такое утверждение зиждется всего-навсего на том, что оба тома Геродота и четыре тома Левальяна читаются с таким же интересом, как пастораль Лонга или роман Вальтера Скотта.
Ну а поскольку наряду с шестью или восемью занимательными томами на подобные сюжеты написаны тысячи скучных томов и правда всегда на стороне большинства, пусть даже самого незначительного, то из этого следует, что столь подавляющее большинство не могло ошибиться.
И вот этим большинством было решено, что путешествия Геродота и Левальяна – это романы, а не путешествия.
Правда, те, кто странствовал по берегам Каспийского моря или поднимался по Нилу, поглядывая в томик Геродота, и те, кто посещал страну больших намаква или спускался по Слоновой реке, не выпуская из рук томика Левальяна, признали, что в отношении топографии два эти путешественника приводят лишь исключительно достоверные сведения, и были настолько удивлены этим, что пожелали поделиться своим удивлением с современниками, восстановив в глазах Академии наук и Географического общества репутацию этих бедных великих мужей.
Но нет! Все решено раз и навсегда. Привычка усвоена, общественное мнение установилось, и, несмотря на отзывы Мальт– Брёна и Дюмона д’Юрвиля, Геродот и Левальян так и остаются в статусе романистов.
Да и правда, зачем Геродот вздумал включать в свою книгу истории о Семирамиде, Гигесе и Камбисе? Для чего Левальян терял время попусту, рассказывая нам об охоте на львов вместе со Слабером, о своей любовной истории с Нариной, о прогулках с Кеес, своей обезьяной, и Клаасом, своим готтентотом?
Ведь такое нелепо для первого и бессмысленно для второго!
Однако это не мешает мне, вероятно из духа противоречия, воспринимать путешествия исключительно на манер Геродота или по образцу Левальяна.
Я смиренно прошу за это прощения у капитана Кука и г-на де Бугенвиля, которые, несомненно, являются чрезвычайно правдивыми путешественниками, но с которыми я вожу дружбу куда меньше, чем с Геродотом и Левальяном.
Таким образом, мои читатели предупреждены, и я не намерен учинять читающей публике никаких подвохов.
Долины, горы, реки, моря сотворены Господом.
Города, тракты, железные дороги сотворены людьми.
Я чересчур презираю людские творения, чтобы стараться хоть что-то исказить, описывая их.
Я чересчур восхищаюсь Божьим творением, чтобы иметь смелость поднять на него руку.
Так что тракты, железные дороги, города, моря, реки, горы и долины будут описаны у нас с величайшей точностью, но истории, рассказанные проводниками, и происшествия, случившиеся со мной по пути, – это другое дело; это мое достояние, это моя собственность, это мое. И если мне угодно вывести на сцену царицу, вскормленную голубями, подарить пастуху кольцо, которое превратит его в царя, позволить самуму и хамсину поглотить завоевателя и его войско, то это мое право и я им пользуюсь. Если мне понадобится рассказать истории об охотах, пусть даже столь же фантастических, как во «Фрайшютце»; о любовных похождениях, пусть даже столь же невероятных, как у Фобласа, и о путешествиях, пусть даже столь же немыслимых, как у Астольфо, то это моя привилегия, и я ее отстаиваю.
Как видно, я не только не стараюсь, чтобы меня числили среди правдивых путешественников, но и буду весьма удручен, если мне окажут подобную честь.
Итак, по этому вопросу мы договорились, лошади уже впряжены в почтовую карету, пароход дымит, корабль готов сняться с якоря.
Однако заранее предупреждаю путешественника, что я повезу его последовательно в Бельгию, на берега Рейна, в Швейцарию, в Савойю, на Корсику, в Италию, на Сицилию, в Египет, Сирию, Грецию, в Константинополь, в Малую Азию, Африку и Испанию.
Те, кто любит меня, за мной!
Алекс. Дюма.
I. АЛЕКСАНДРИЯ
Двадцать второго апреля 1830 года, около шести часов вечера, наш обед на борту брига «Улан», на котором г-н Тейлор, г-н Мейер и я плыли в Египет, был прерван криками: «Земля! Земля!» Мы тотчас поднялись на палубу и при свете последних лучей заходящего солнца приветствовали древнюю землю Птолемеев.
Александрия – это песчаное взморье, это огромная золотая лента, протянувшаяся на одном уровне с поверхностью воды; у левого конца этой ленты, словно рог полумесяца, вдается в море Канопский, или Абукирский мыс: его можно называть по-разному, в зависимости от того, что вы желаете вспомнить – поражение Антония или победу Мюрата. Ближе к городу высятся колонна Помпея и игла Клеопатры – единственные руины, оставшиеся от Александрии македонского царя. Между двумя этими памятниками, рядом с пальмовой рощей, стоит дворец вице-короля – невзрачное и бедное здание, построенное итальянскими архитекторами. И наконец, по другую сторону порта, на фоне неба, вырисовывается Квадратная башня, построенная арабами: это у ее подножия высадилась на берег французская армия под началом Бонапарта. Что же касается самой Александрии, этой древней владычицы Нижнего Египта, то она, наверное стыдясь своего рабства, прячется за барханами пустыни, напоминая скалистый остров посреди песчаного моря.
Все это одно за другим, словно по волшебству, поднималось из воды, по мере того как наше судно приближалось к берегу; однако мы не обменялись ни словом, настолько голова у нас была переполнена мыслями, а сердце – радостью. Нужно быть художником, долгое время грезить о подобном путешествии, зайти, как это сделали мы, в порты Палермо и Мальты – эти две промежуточные станции на пути к Востоку, и затем, наконец, на исходе чудесного дня, при безмятежном море, под радостные крики матросов, увидеть, как на горизонте, словно озаренном отблесками пожара, появляется перед тобой, голая и выжженная солнцем, древняя земля Египта, таинственная прародительница мира, которому она завещала как загадку неразрешимую тайну своей цивилизации; нужно увидеть все это глазами, пресытившимися Парижем, чтобы осознать то, что испытали мы при виде этого берега, не похожего ни на один знакомый нам пейзаж.
Мы пришли в себя лишь потому, что нам показалось, будто пора заняться подготовкой к высадке, но капитан Белланже остановил нас, посмеиваясь над нашей торопливостью. Темнота, столь быстро опускающаяся с неба в восточных странах, начала приглушать блеск сверкающего горизонта, и с последними отблесками света мы увидели, как пенятся серебряными брызгами волны, разбиваясь о гряду рифов, почти полностью закрывающую вход в порт. Было бы крайне неосмотрительно пытаться войти туда с рейда, даже с лоцманом-турком, а кроме того, было более чем вероятно, что, не разделяя нашего нетерпения, ни один из этих морских проводников не отважится ночью подняться на борт «Улана».
Так что следовало набраться терпения и дожидаться утра. Не знаю, что делали мои спутники, но что касается меня, то я ни на минуту не сомкнул глаз. Два или три раза в течение ночи я поднимался на палубу, надеясь все же что-нибудь разглядеть при свете звезд, но на берегу не видно было ни огонька, и из города до нас не доносилось ни звука; казалось, что мы находились в сотне льё от какой бы то ни было суши.
Наконец, наступил рассвет. Желтоватая дымка затянула все побережье, угадывавшееся лишь по длинной линии тумана более тусклого оттенка. Тем не менее мы двинулись по направлению к порту, и мало-помалу завеса, покрывавшая эту таинственную Исиду, становилась, не поднимаясь, все менее плотной, и, словно через тончайшую шелковую ткань, все более и более прозрачную, мы постепенно вновь увидели вчерашний пейзаж.
Наше судно находилось уже в нескольких сотнях метров от прибрежных бурунов, когда, наконец, появился лоцман. Он приплыл на лодке с четырьмя гребцами, на носу которой были нарисованы два больших глаза: их взгляд был устремлен в море, словно для того, чтобы разглядеть там самые потаенные подводные камни.
Это был первый турок, увиденный мною, ведь нельзя было считать настоящими турками ни продавцов фиников, попадавшихся мне на глаза на парижских бульварах, ни посланников Высокой Порты, с которыми мне доводилось время от времени сталкиваться в театре. И потому за приближением этого достойного мусульманина я наблюдал с простодушным любопытством путешественника, которому наскучили увиденные им страны и люди и который, преодолев восемьсот льё, чтобы взглянуть на новых людей и на новые страны, тотчас же проявляет интерес ко всему живописному, что ему встречается, и в восторге хлопает в ладоши, оттого что он нашел, наконец, то необычайное и незнакомое, за чем он ехал из таких далеких краев.
К тому же лоцман оказался достойным потомком Пророка: у него были яркие просторные одежды, длинная борода и неторопливые, продуманные жесты; лоцмана сопровождали невольники, которым полагалось набивать ему трубку и нести его табак. Подплыв к нашему судну, турок степенно поднялся по трапу, приветствовал, скрестив руки на груди, капитана, распознанного им по мундиру, а затем направился к румпелю и занял место, которое уступил ему наш рулевой. Поскольку я пошел вслед за ним и не спускал с него глаз, то мне удалось увидеть, как несколько минут спустя его лицо исказила гримаса, как если бы в горле у него оказался посторонний предмет, который он не мог ни извергнуть из себя, ни проглотить; наконец ценой неимоверных усилий ему удалось произнести: «Направо!» Слово это вылетело у него вовремя: еще секунда – и он задохнулся бы. После небольшой паузы последовал новый приступ – на этот раз, чтобы произнести: «Налево!» Впрочем, это были единственные французские слова, которые он выучил; как видно, его филологическое образование ограничивалось строгой необходимостью. Однако, каким бы бедным ни был его запас слов, их оказалось достаточно, чтобы привести наше судно к превосходной якорной стоянке. Барон Тейлор, капитан Белланже, Мейер и я кинулись к шлюпке, а из шлюпки выпрыгнули на берег. Невозможно описать, что я испытал, ступив на сушу; впрочем, у меня не оказалось времени разбираться в своих чувствах: неожиданное происшествие вывело меня из этого восторженного состояния.
Подобно тому, как на площадях Парижа кучера фиакров, кабриолетов и фаэтонов поджидают седоков, здесь прямо в порту погонщики ослов подстерегают приезжих. Они стоят повсюду, куда может ступить нога человека: у Квадратной башни, у колонны Помпея, у иглы Клеопатры. Но, к чести этих египтян, следует признать, что в отношении услужливости и настойчивости они превосходят наших кучеров из Со, Пантена и Сен-Дени. Прежде чем я успел разобраться в обстановке, меня схватили, подняли, посадили верхом на осла, сорвали с него, пересадили на другого, опрокинули на песок – и все это среди криков и столь быстрого обмена ударами, что я не имел времени оказать хотя бы малейшее сопротивление. Воспользовавшись минутной передышкой, которую обеспечило мне сражение, развернувшееся из-за моей персоны, я огляделся и увидел, что Мейер находится в еще более критическом положении, чем я: он был пленен бесповоротно, и, несмотря на крики бедняги, осел, подгоняемый погонщиком, уносил его галопом. Я кинулся ему на помощь и сумел вырвать его из рук неверного; мы тотчас же бросились в первую попавшуюся улочку, пытаясь спастись от этой восьмой казни египетской, о которой нас не предупреждал Моисей, но погонщики, для большей скорости вскочившие верхом на ослов, быстро настигли нас, обладая преимуществом кавалерии перед пехотой. Не знаю, чем бы все кончилось на этот раз, если бы проходившие мимо добрые мусульмане, по нашей одежде распознавшие в нас французов, не сжалились над нами и, не сказав нам ни слова и ни единым жестом не предупредив нас о своих добрых намерениях, не пришли бы нам на помощь, отогнав услужливых погонщиков ударами плетей из жил гиппопотама. Совершив к нашему удовольствию этот милосердный поступок, они продолжили свой путь, не дожидаясь от нас проявлений благодарности.
Мы вошли в город, но, не пройдя и ста шагов, осознали, как неосмотрительно было с нашей стороны отказаться от верховых животных: ослы служат здесь местными кабриолетами и обойтись без них посреди этой грязи почти невозможно. Дело в том, что из-за жары здешние улицы приходится поливать пять или шесть раз в день; это распоряжение полиции выполняют феллахи, которые прохаживаются, держа под левой и правой мышкой по бурдюку, и поочередно сжимают их так, что из них брызжет вода; это попеременное извержение жидкости они сопровождают двумя арабскими фразами, произносимыми однообразным тоном и означающими: «Поберегись справа!», «Поберегись слева!» Благодаря такому переносному поливальному устройству, придающему этим славным людям вид наших волынщиков, вода и песок образуют нечто вроде древнеримского строительного раствора, из которого с честью могут выбраться лишь ослы, лошади и верблюды; что касается христиан, то они спасаются благодаря своим сапогам; арабы же оставляют там свои бабуши.
Однако наши злоключения только начинались; выйдя из узкой грязной улицы, на которую нас занесло, мы оказались в центре зловонного базара; это был один из тех источников смрада, куда раз или два в год наведывается чума, чтобы почерпнуть там гнилостную заразу, которую она разносит затем по всему городу; базар являл собой такое скопление тюков, ослов, торговцев и верблюдов, что в течение нескольких минут нас толкали, ругали, прижимали к стенам лавок и, как ни старались мы побыстрее выбраться оттуда, нам не удавалось сделать ни шага. Мы уже хотели было вернуться, как вдруг увидели кади, который, словно в «Тысяче и одной ночи», во главе своих кавасов совершал обход базара. Едва заметив, что в общем проходе образовался затор, он направился туда и с замечательной невозмутимостью принялся вместе со своими помощниками наносить палочные удары по спинам животных и головам людей. Средство оказалось действенным: проход открылся; кади прошел первым, мы последовали за ним; движение позади нас восстановилось, подобно тому как река возобновляет свой бег. Через сто шагов кади свернул направо, чтобы разогнать очередную толпу, а мы – налево, чтобы идти к консулу.
Около получаса мы шли по узким и беспорядочным извилистым улицам, где все дома имеют выступающие свесы кровли, которые с каждым этажом, начиная от нижних окон и вплоть до самого конька, все больше вторгаются в пространство над улицей; в итоге наверху оно настолько сужено, что солнечный свет туда почти не проникает. По пути нам встретилось несколько мечетей, ничем, как правило, не примечательных; во всем городе только две или три из них украшены маданами[1], но довольно невысокими и всего с одной галереей. У дверей мечетей, порог которых никогда не переступит ни один гяур, сидели истинные правоверные: они курили или играли в м а н к а л у[2]; наконец, затратив примерно час на дорогу из порта, то есть пройдя около четверти льё, мы добрались до дома консула.
Господин де Мимо встретил нас чрезвычайно приветливо. Этот видный литератор и неутомимый археолог был ревностным защитником не только прав нашей нации, но и ее достоинства, и потому любой француз мог быть уверен, что он обретет в этом доме гостеприимство как путешественник и покровительство как соотечественник. Консул принял нас в большой комнате, где некогда останавливались Бонапарт, Клебер, Мюрат, Жюно и другие храбрейшие и известнейшие генералы Египетской экспедиции. Приехав сюда, почти все они переняли восточный образ жизни и пристрастились кофе и чубуку, то есть самым обычным здешним развлечениям. Они курили, сидя на широких диванах, расставленных вдоль стен комнаты, и нам показали на полу, в нескольких местах, следы от пепла, падавшего с их длинных трубок. Я привожу эту подробность, чтобы показать, насколько даже самые незначительные обстоятельства нашего пребывания в Египте остались в памяти его жителей.
После оживленной беседы, какая обычно завязывается между соотечественниками, оказавшимися за тысячу льё от родины, и в ходе которой г-н Тейлор изложил цель своего путешествия и порученную ему миссию к паше, мы попросили позвать проводников с ослами; на этот раз мы совершенно излечились от желания прогуливаться пешком и направились к воротам Махмудия, ведущим к развалинам древней Александрии. Теперь, застраховавшись от грязи и мирно расположившись в седле, мы могли предаться наблюдениям, которые здесь, в Египте, любопытнее, чем где бы то ни было еще на свете. Для нас, парижан, все было неожиданно: и природа, и общественный порядок казались нам нарушенными; небо и земля здесь были такими, каких нельзя увидеть нигде больше, язык не имел ничего общего ни с каким другим языком, нравы были присущи только этой стране, а народ, казалось, избрал для себя жизнь, прямо противоположную нашей. У нас носят длинные волосы и бреют подбородки, мусульмане же бреют голову и отращивают бороды. Мы наказываем за двоеженство и клеймим содержание наложниц, здесь же провозглашают первое и никак не ограничивают второе. В нашей жизни женщина – это супруга, сестра, подруга, у них же – всего лишь рабыня, еще более несчастная, чем все другие рабы; она ведет жизнь затворницы: только ее господин вправе приблизиться к ее жилищу. И чем она красивее, тем несчастнее, ибо в этом случае ее существование висит на волоске – стоит ей поднять покрывало, и голова упадет у нее с плеч!
Миновав ворота Махмудия, мы свернули в сторону и прошли несколько шагов, чтобы осмотреть небольшой пригорок, по сей день носящий помпезное название – форт Бонапарта. Александрия расположена в таком низком месте, что французским инженерам, чтобы заставить город сдаться, оказалось достаточно всего лишь насыпать небольшую груду земли и установить сверху батарею.
Засвидетельствовав свое почтение и уважение этому памятнику современной истории, мы с головой углубились в прошлое Древний Египет, Египет, начинавшийся от Эфиопии вместе с Нилом, сохранился лишь в развалинах Элефан– тины и Фив. За ними последовал Мемфис, повторивший судьбу Трои: его стены видели, как вместе с Псаммети– хом пало царство фараонов, которое Камбис передал в наследство своим преемникам. Затем правил Дарий: его монархия простиралась от Инда до Понта Эвксинского и от Яксарта до Эфиопии. Продолжая дело своих предшественников, уже полтора столетия державших в рабстве Азиатскую Грецию и пытавшихся завоевать Европейскую Грецию то несметным воинством, то золотом и кознями, Дарий замыслил новое, третье вторжение, но как раз в это время в одной из ее северных областей, ограниченной на востоке горой Афон, на западе Иллирией, на севере горой Гем, а на юге Олимпом, объявился двадцатидвухлетний царь, решивший уничтожить эту огромную державу и совершить то, что тщетно пытались сделать Кимон, Агесилай и Филипп. Этого молодого царя звали Александр Македонский.
Он набирает тридцать тысяч пехотинцев, четыре тысячи пятьсот конников, снаряжает флот из ста шестидесяти галер и, взяв с собою семьдесят талантов серебра и запас провианта на сорок дней, отправляется из Пеллы, следует вдоль берегов Амфиполя, минует Стримон, пересекает Гебр, за двадцать дней добирается до Сеста, затем, не встретив сопротивления, высаживается на побережье Малой Азии, посещает царство Приама, возлагает цветы на могилу Ахилла, своего предка по материнской линии, пересекает реку Граник, побеждает персидских сатрапов, убивает Митридата, покоряет Мизию и Лидию, завоевывает Сарды, Милет, Галикарнас, подчиняет себе Галатию, пересекает Каппадокию, порабощает Киликию, на равнинах Исса сталкивается с персами и гонит их перед собой, словно облако пыли, доходит до Дамаска, спускается к Сидону, захватывает и грабит Тир, трижды объезжает вокруг стен Газы, привязав ее управителя Батиса к своей колеснице, как некогда Ахилл – Гектора; едет в Иерусалим и Мемфис, приносит жертвы богу иудеев и богам египтян, спускается по Нилу, посещает Канопу, огибает Мареотидское озеро, достигает его северного берега и там, пораженный красотой этого побережья и преимуществами его местоположения, решает дать соперника Тиру и поручает архитектору Динократу построить город, который позднее будет назван Александрией.
Архитектор исполнил приказ: он построил крепостную стену длиной в пятнадцать тысяч шагов, придав ей форму македонского плаща, и разделил город двумя пересекающимися главными улицами, чтобы дующие с севера средиземноморские ветры несли туда прохладу. Одна из этих улиц шла от моря до Мареотидского озера и имела в длину десять стадий, или тысячу сто шагов; другая пересекала весь город и тянулась от одного конца до другого на сорок стадий, или пять тысяч шагов. Обе улицы были шириной в сто футов.
Причем этот новый город поднимался не постепенно, как другие города, а вырос сразу, словно из-под земли. Заложив его фундаменты, Александр отправился в храм Амона и заставил там признать себя сыном Юпитера, а когда он вернулся, новый Тир был уже построен и заселен. И тогда его основатель продолжил свой победоносный поход. Александрия, лежащая между озером и двумя своими гаванями, слышала отзвуки его шагов, удалявшихся в сторону Евфрата и Тигра; порыв восточного ветра донес до нее гром сражения при Арбелах, она слышала грохот падения Вавилона и Суз; она видела, как горизонт обагрился пожаром Персеполя, и, наконец, этот далекий шум стих за Экбатаной, в пустынях Мидии, на другом берегу реки Арий.
Восемь лет спустя Александрия увидела, как в ее стены въезжает погребальная колесница на двух осях, на которых крутились четыре колеса на персидский манер, с позолоченными спицами и ободьями. Украшением ступиц служили львиные головы из массивного золота, сжимающие в пасти копье. Колесница имела четыре дышла, к каждому дышлу было привязано по четыре ярма, а в каждое ярмо было впряжено по четыре мула. У каждого мула на голове была золотая корона, по обе стороны пасти сверкали золотые колокольчики, а на шее висело ожерелье из драгоценных камней. На колеснице стояло отлитое из золота сооружение, напоминающее паланкин со сводчатым потолком, шириной в восемь локтей, длиной – в двенадцать; купол был украшен рубинами, карбункулами и изумрудами. Перед паланкином находился золотой перистиль с колоннами ионического ордера, а внутри перестиля висели четыре картины. Первая изображала богатую колесницу искусной работы, в которой восседал воин, держащий в руках великолепный скипетр; колесницу окружали македонская гвардия в полном вооружении и отряд персов, а впереди нее шли гоплиты. На второй картине была нарисована вереница слонов в боевом облачении, на шее у которых сидели индийцы, а на крупе – македонцы в доспехах. Третья изображала отряд конницы, совершающий перестроение в ходе сражения. И наконец, на четвертой были представлен Корабли в боевом порядке, готовые атаковать виднеющийся вдали вражеский флот.
Над этим паланкином, то есть между потолком и куполом, все пространство занимал квадратный золотой трон, украшенный рельефными фигурами, откуда свисали золотые кольца, а в эти золотые кольца были продеты гирлянды живых цветов, которые меняли каждый день. Купол был увенчан золотой короной такой величины, что даже человек высокого роста мог свободно стоять внутри образованного ею круга, а когда на нее падал солнечный свет, она отражала во все стороны ослепительные лучи. Внутри же паланкина стоял гроб из цельного золота, где на благовониях покоилось тело Александра Македонского.
Траурной церемонией распоряжался один из тех двенадцати военачальников, кого смерть их полководца сделала царями; в результате великого раздела мира, совершившегося над гробом, Птолемей, сын Лага, взял себе Египет, Киренаику, Палестину, Финикию и Африку. Затем, чтобы иметь палладиум, которому предстояло в течение трех с половиной столетий сохранять эту державу в руках его потомков, Птолемей изменил путь следования колесницы с телом Александра Великого, дабы царь обрел могилу в городе, у колыбели которого он стоял.
С этого дня Александрия стала царицей мира, как некогда его властителями были Тир и Афины и как властвовать над ним еще предстояло Риму; каждый из шестнадцати ее царей и каждая из трех ее цариц добавляли по драгоценному камню к ее короне. Птолемей, прозванный родосцами Сотером, или Спасителем, построил там маяк, посредством мола соединил остров с материком, перенес из Синопа в Александрию изображения бога Сераписа и основал знаменитую библиотеку, которую затем сжег Цезарь. Птолемей II, в насмешку прозванный Филадель– фом за то, что он подвергал гонениям принцев из своей семьи, собрал и велел перевести на греческий язык иудейские книги, оставив нам в наследство перевод Святого Писания, выполненный семьюдесятью толковниками; Птолемей III Благодетель отправился на поиски в глубины Бактрии и доставил в устье Нила богов Древнего Египта, похищенных Камбисом. Театр, музей, гим– насий, стадион, панейон и бани были воздвигнуты при преемниках этих царей. Через обширные территории были прорыты шесть каналов: четыре пролегли от Нила к Мареотидскому озеру, пятый вел от Александрии к Канопу, и, наконец, шестой начинался у порта Кибот, пересекал весь перешеек, проходил через квартал Рако– тида и соединялся с озером вблизи ворот Солнца.
Сегодня от древнего города уцелел только мол, расширенный и укрепленный наносами земли; вот на нем и построен новый город. Среди почти бесформенных руин, в которых все же можно распознать бани, библиотеку и театры, остались стоять лишь колонна Помпея и одна из игл Клеопатры, вторая же лежит, наполовину занесенная песком. От всей той части города, что некогда была островом, в центре которого высилась крепость, а на восточном побережье стоял знаменитый маяк, светивший на расстояние в тридцать тысяч шагов, остался голый безжизненный берег, полумесяцем опоясывающий новый город.
Колонна Помпея – это мраморный столб, который увенчан коринфской капителью и стоит на каменном основании, сложенном из обломков античных построек и египетских сооружений. Название, которое она носит, дали ей современные путешественники, и оно никак не связано с историей ее создания, восходящего, если верить относящейся к ней греческой надписи, уже к правлению Диоклетиана: сейчас колонна наклонена в южную сторону примерно на семь дюймов; впрочем, ни ее капитель, ни ее основание так и не были завершены. Что же касается высоты колонны, то я ее не измерял, но она примерно на две трети выше растущих вокруг нее пальм.
Иглы Клеопатры, одна из которых, как я уже сказал, еще стоит, а вторая лежит на земле, представляют собой обелиски из красного гранита, с каждой стороны которых начертано по три столбца надписей; за тысячу лет до Рождества Христова фараон Мерид извлек их из каменоломен Ливийских гор, словно из ларца с сокровищами, и установил перед храмом Солнца. Александрия, говорят, позавидовала Мемфису, и Клеопатра, не обращая внимания на ропот старой прабабки, забрала у нее обелиски, словно драгоценности, для которых та стала уже недостаточно красивой. Античные каменные пьедесталы кубической формы, служившие основаниями этим обелискам, еще целы и покоятся на трехступенчатом цоколе: они греко-романской постройки, и архитектурные данные подтверждают народное предание, относящее повторное возведение обелисков к 38 или к 40 году до Рождества Христова.
Около двух часов мы бродили среди этих развалин, держа в руках томики Страбона и Плутарха, как вдруг я бросил взгляд на белые брюки Мейера: они стали черными от низа до колен и серыми от колен до бедер. Сначала я подумал, что, торопясь осматривать развалины, он остался в тех же брюках, в каких ему пришлось ходить по грязным улицам Александрии, но вскоре, приглядевшись внимательнее к необычному явлению, заметил, что этот темный цвет, интенсивность которого уменьшалась по мере удаления от земли, был неустойчивым и, должно быть, объяснялся какой-то особой причиной. Я тотчас инстинктивно посмотрел на свои собственные брюки, и мне достаточно было одного взгляда, чтобы уяснить страшную правду: на нас кишели блохи.
Лучшее, что можно сделать в подобных чрезвычайных обстоятельствах, – это незамедлительно отправиться в бани, о которых мы так часто слышали как о восхитительном развлечении; и потому, стоило одному из нас высказать такую мысль, как все единодушно поддержали ее. Мы сделали знак нашим проводникам привести ослов, более или менее проворно вскарабкались на них, в зависимости от полученных нами уроков верховой езды и в соответствии с воспоминаниями о Монморанси, и галопом помчались обратно в город; однако едва мы сообщили нашему переводчику о своих намерениях, как на его лице появилось смутившее нас выражение испуга: бани были закрыты для нас на весь этот день, и мы рисковали головой, если бы попытались туда проникнуть. Причина же этого запрета состоит в следующем.
Пятница – это выходной день у турок. И Коран предписывает всякому доброму мусульманину исполнять свои супружеские обязанности в ночь с пятницы на субботу под страхом того, что за каждый случай пренебрежения ими ему придется при входе в рай отдать верблюда в качестве платы; поэтому суббота отведена для женских омовений, и в этот день бани предназначены исключительно для очищения обитательниц гаремов.








