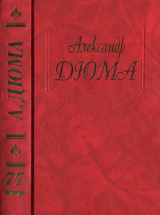
Текст книги "Две недели на Синае. Жиль Блас в Калифорнии"
Автор книги: Александр Дюма
Жанры:
Зарубежная классика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 43 страниц)
Прежде всего мы позаботились пригласить портного; хозяин гостиницы незамедлительно привел его: это был чистокровный турок. Он помог нам выбрать ткани, а затем, достав из кармана штанов шнур с подвешенным на его конце свинцовым грузом, опустил этот груз так, что он оказался на уровне подъема моей ноги, потом приложил шнур к моему плечу и снял показание по меткам на шнуре; то же самое он проделал со всеми остальными и удалился: мерка была снята.
Покончив с этим делом, мы подумали о другом, не менее насущном: поглощенность великими памятными событиями, пришедшими нам на ум, зрелище величественных пейзажей и неумеренное желание поскорее прибыть в Каир заставили нас забыть об обеде, но едва мы оказались у себя в комнатах, где из-за отсутствия необходимой одежды нам предстояло оставаться до вечера, как наши желудки стали настоятельно требовать полагавшуюся им двойную порцию. Эти притязания были настолько справедливыми, что следовало их спешно удовлетворить. Мы позвали хозяина, обрадованные тем, что нашелся человек, с которым можно беседовать без переводчика, и заказали ужин. Уже через полчаса в нашей комнате был по-европейски накрыт обед; признаться, для меня было немалым удовольствием сесть, как полагается христианину, за стол. Однако наша поглощенность вопросами гастрономии не заставила нас забыть о Мухаммеде; мы позвали его из окна, выходившего во двор, и он, приняв приглашение, сел возле нас на полу.
Но если в начале нашей поездки это он смеялся над нами, когда вместо ложки, ножа и вилки мы были вынуждены обходиться исключительно руками, то теперь пришло время нашего торжества; бедняга совершенно растерялся при виде того, как ловко мы манипулируем неизвестными ему предметами. Тем не менее он попытался подражать нам, но, два или три раза уколов губы и десны, вернулся к естественному для него способу, отвергнув ложку, вилку и нож. Роскошь нашей трапезы немало удивила этого араба, привыкшего, как и все его соплеменники, к воздержанности в пище; однако по этому второму пункту он оказался сговорчивее, чем по первому, и съел все до последней крошки, найдя обед весьма вкусным.
Когда наступил вечер, мы воспользовались темнотой, чтобы пройти по улицам, которые вели ко французскому консульству. Вице-консул, обрадованный встрече с соотечественниками, пожелал устроить в нашу честь небольшой праздник: с полдюжины местных музыкантов явились по его приглашению, кружком сели на корточки перед диваном, на котором мы расположились, и, с невозмутимо серьезным видом настроив свои музыкальные инструменты, принялись исполнять национальные мелодии, чередовавшиеся с песнями. Только тот, кому приходилось слышать турецкую или арабскую музыку, может представить себе, до какой степени может дойти какофония; ну а та, что звучала для нас, была в этом отношении верхом совершенства, и, если бы музыканты с самого начала не позаботились взять нас в окружение, то, полагаю, мои воспоминания об Итальянском театре в Париже возобладали бы над моей природной вежливостью и на четвертом такте я обратился бы в бегство. По истечении двух самых страшных часов в моей жизни исполнители наконец поднялись, по-прежнему важные и чопорные, несмотря на дурную шутку, которую они только что с нами сыграли, и удалились. После чего вице-консул сообщил нам, что музыканты исполнили в нашу честь самые торжественные свои мелодии, но в следующий раз мы услышим более живые и веселые каватины.
Мы вернулись в гостиницу, сопровождаемые кавасом, который шагал впереди и освещал нам путь бумажным фонарем, натянутым на спираль из проволоки; улицы были совершенно пустынны, навстречу нам не попалось ни одной живой души, мы пришли к себе и легли в кровати – впервые после Александрии.
Но каким бы преимуществом ни обладали кровати перед диванами, а матрасы перед коврами, я никак не мог заснуть, настолько мои нервы были раздражены адской музыкой, которой нас развлекали. Вскоре к нервному возбуждению прибавилась причина иного рода и вполне материальная: я почувствовал, как по моей постели шныряют и скачут какие-то животные, которых мне не удавалось различить в темноте: несмотря на мои поспешные попытки ухватить их, едва я ощущал их вес на какой-нибудь части своего тела, они ускользали от меня с ловкостью и прозорливостью, свидетельствовавшими об их немалом опыте в подобного рода упражнениях; в минуту покоя, лежа в тревожном ожидании, я услышал, что Мейер занят в другом углу комнаты такой же охотой. Сомнений больше не оставалось: это была организованная по всем правилам и согласованная атака; мы тотчас обменялись словами и, сообщив друг другу о том критическом положении, в каком находился каждый из нас, прижались к спинкам кроватей, чтобы не быть застигнутыми врасплох сзади, а затем приступили к обороне по всем правилам военного искусства. Однако жесты и речь оказались бессильными: подобно мамлюку,
который то бьется, то бежит, то в битву рвется снова, наши враги были неуловимы. Тогда я принял решение взять в руки потухшую свечу и произвести вылазку в переднюю, где горела лампа, а затем немедленно вернуться в комнату. На этот раз, хотя нам и не удалось поймать своих противников, мы смогли по крайней мере разглядеть их: это были огромные крысы, старые и жирные, как патриархи; при виде зажженной свечи они в полнейшем беспорядке и с криками ужаса отступили, проскользнув под дверь, не доходившую до пола дюйма на четыре. После этого мы стали наперегонки придумывать, каким образом перекрыть им этот проход; испробовав несколько предложенных средств, не принесших удовлетворительных результатов, я понял, что настал час великого самопожертвования, и, словно новоявленный Курций, пожертвовал собственным рединготом, скатав его валиком и заткнув им щель под дверью. Как только мы снова легли в постели и погасили свет, осада возобновилась, но на этот раз все проходы были закупорены, и мы уснули в убеждении, что наша тактика оказалась успешной.
Утром я извлек из-под двери жилет с неровно обгрызенным краем, хотя ночью затолкал под нее редингот: полы редингота исчезли, став добычей осаждающих.
Урон, нанесенный моему гардеробу, в сочетании с невозможностью выйти, не подвергаясь публичным оскорблениям, из европейского квартала, при том что в нем самом ничего любопытного увидеть было нельзя, удержали меня в гостинице. Я воспользовался этим днем карантина, чтобы набросать на бумаге некоторые размышления относительно архитектуры – итог прежних исследований, проделанных мною вместе с г-ном Тейлором на Севере, и новых, совместно начатых нами на Востоке.
На первый взгляд арабская архитектура отличается необычным и самобытным характером, который вынуждает воспринимать ее, подобно произрастающим на местной почве аборигенным растениям, как нечто принадлежащее исключительно этому краю земли и не имеющее ничего похожего за пределами какой-то определенной области Востока. Однако, как бы таинственно эта неблагодарная дева ни укрывалась под своим золотым куполом, опоясав голову венцом из начертанных на незнакомом языке священных стихов, который стягивает ей лоб, подобно испещренной иероглифами головной повязке египетской мумии, и как бы ни окутывала она свой стан накидкой из многоцветного мрамора, стоит только археологу свыкнуться с ослепительной роскошью ее убранства и перейти от частных подробностей к общему замыслу, стоит только снять верхний слой, стоит только, наконец, содрать с тела кожный покров, как по мышцам и внутренним органам можно будет распознать ее античное происхождение, увидеть совместное начало, общий источник, где Север и Восток, христианство и магометанство искали то, чего недоставало каждому из них, иначе говоря, руку, которой предстояло начертать планы мечетей Каира и базилик Венеции.
Вот в нескольких словах полная история арабской архитектуры. Появившись на свет одновременно с архитектурой древней индийской цивилизации, она, прежде чем возводить дворцы, вначале рыла пещеры; прежде чем сооружать ажурные соборы, она строила массивные храмы; затем то, что таилось под спудом, мало-помалу вышло на поверхность, и тогда миру явилось искусство великих народов и великих эпох.
Пересекла ли индийская архитектура Красное море, чтобы достичь Эфиопии? Это никому неизвестно. Была ли египтянка ее сестрой или всего лишь ее дочерью? Никто этого не ведает. Известно только то, что она отправилась в путь из Мероэ, величественная и могущественная, как ее прародительница; она создала Филы, Элефантину, Фивы и Тентиру, а затем остановилась, глядя, как руками чужеземцев, поднявшихся вверх по Нилу, по которому сама она спустилась вниз, воздвигаются крепостные стены Мемфиса. Настала вторая эпоха. Это была эпоха развития, предшествовавшая эпохе искусства; это была эпоха, когда неизвестными в наши дни механическими средствами на монолитные стволы колонн поднимали каменные громады; когда архитрав из каменного блока, поставленный на капители, образовывал плоский и массивный свод прямоугольной формы, и когда, наконец, все общественные сооружения, независимо от их назначения, казалось, были сооружены для великанов, ибо в слове «величие» заключена господствующая идея той эпохи, и оно начертано от Вавилона до Паленке и от Элефантины до стен Спарты, но не на камнях, а на глыбах.
Египту наследует Греция – грациозная и кокетливая дочь молчаливой и укрытой покрывалом матери; на смену идеализации приходит искусство, на смену величию – красота. И тогда появляются неведомые прежде слова – чистота, пропорции, изящество; Афины, Коринф, Александрия расселяют веселую толпу нимф среди колонн четырех ордеров; конструкция остается неизменной, но своего совершенства достигает орнаментация.
Затем приходит тяжеловесный Рим со своим миром землепашцев и воинов; для него гранит, порфир и мрамор, которые не скупясь расходовали его предшественники, становятся редкостью, и в его распоряжении остается лишь травертин. Ценные материалы приходится заменять дешевыми, но на помощь бедности спешит наука. С этого времени полукруглый свод становится отличительной чертой римского искусства, ибо он находит применение всюду: в храмах, акведуках и триумфальных арках; однако на окраинах империи и на ее границах в римскую архитектуру проникают отголоски зодчества соседних стран. В Петре вырубаются в скалах дворцы, похожие на скальные сооружения Индии, а в Персеполе вместо тосканских и коринфских капителей появляются головы слонов Дария и коней Ксеркса.
Внезапно это вавилонское столпотворение прекращается; Восток оттесняет Север к западу, и оба они катятся по старому миру, обвивая его, как змеи, затопляя, как море, пожирая, как пламя. Рим, владыка мира, поспешно готовит священный ковчег, который с семенем всех искусств причаливает к Византию, подобно тому как Ной причалил с зачатками всех живых существ к горе Арарат.
Однако не только один мир пришел на смену другому: в разгар этого великого бедствия послышался голос Небес, родилась новая идея, воссиял неведомый прежде символ веры; понадобились величественные здания, чтобы выразить эту идею, и постамент, чтобы водрузить на него этот символ; варвары обратили взор к Византии и распознали крест на куполе святой Софии; отныне символ и здание оказались объединены, а идея христианства обрела законченность.
Но если вера царит повсюду, то там царит и искусство, там царит и просвещение; именно там христианину следует искать своих художников, а арабу – своих зодчих, ибо араб так же невежествен, горяч и дик, как и христианин.
Стало быть, Византия – их общий источник; ее сыны, призванные перестроить мир, эти выродившиеся потомки своих отцов, приходят с памятью об античности и с отсутствием навыков в искусстве; они пробуют, нащупывают, копируют; в этот первый период базилика Христа и мечеть Магомета – сестры, и лишь когда призывы Евангелия и Корана зазвучали достаточно громко, что им повиновались камень, гранит и мрамор, лишь тогда две эти дочери одного и того же отца разлучились, чтобы уже никогда не встретиться снова.
И тогда обе эти продолжавшие развиваться идеи собрали вокруг своего зримого символа веры все, что могло придать ему завершенность: у христиан базилика принимает вначале форму греческого креста, затем форму латинского креста, то есть креста Иисуса; у ее паперти поднимается колокольня, чтобы каменным перстом указывать на небо тем, кого призывают ее колокола; в память о двенадцати апостолах в ней строят двенадцать приделов, сместив клирос вправо, ибо Иисус, умирая, склонил голову к правому плечу, и на этом клиросе прорубают три окна, ибо Бог един в трех лицах и всякий свет исходит от Бога. Потом наступает черед многоцветных витражей, которые, рассекая солнечные лучи, создают в любой час дня полумрак для размышлений и молитв; затем появляется орган, этот громовой голос соборов, говорящий на всех языках, от языка возмездия до языка милосердия, и, наконец, самой высокой степени совершенства христианская идея достигает в готическом соборе пятнадцатого века.
У мусульман, у которых, напротив, все должно быть обращено не к душе, а к материи и у которых наградой истинным правоверным, вкусившим радости этого мира, станут райские наслаждения, религиозные здания принимают совсем иной характер. Прежде всего они заботятся о том, чтобы распахнуть своды вечной небесной улыбке: там, формально для омовений, сооружают фонтаны, одно лишь журчание серебряных струй которых способно освежить верующего; эти фонтаны окружены густолиственными и благоухающими деревьями, тень которых привлекает соловьев и поэтов, и свободным остается лишь тесное квадратное пространство, где покоятся останки святого мусульманина, укрытые куполом, который украшен затейливыми арабесками и рядом с которым высится минарет – многоярусная башня, откуда муэдзин трижды в день созывает правоверных на молитву, напоминая им главные правила их веры. Затем на смену религиозному влиянию приходят местные влияния. Магометанское искусство, хотя и являясь сыном Византии, не сможет пройти так близко от Персеполя и Дели, ничего не восприняв от них; его арки, расширенные в середине, с персидским изяществом сомкнутся внизу, а Индия подарит ему легкие прозрачные узоры, благодаря которым его стены покроются каменным кружевом. И вот тогда, в свой черед, магометанская мысль получит окончательное завершение и найдет свое выражение в мечети, как христианская – в кафедральном соборе.
Впрочем, и христианские, и мусульманские архитекторы имеют то общее, что каждый из них разрушает, чтобы иметь возможность сооружать. Ведь они строят новый мир из обломков старого. Они нашли скелет, простертый на песке, и похитили самые крупные его кости, самые дивные его части: у христиан это Парфенон и Колизей, храм Юпитера Статора, Золотой дворец Нерона, термы Каракаллы и амфитеатры Тита; у арабов – пирамиды, Фивы, Мемфис, храм Соломона, обелиски Карнака и колонны Сераписа. И все это происходило благодаря той непреложной воле, которая не позволяет создавать ничего нового, но хочет, чтобы все было сковано одной цепью, и посредством такого закабаления объясняет людям сущность вечного.
Один из таких зодчих и строителей городов, Ахмад ибн Тулун, отец которого был начальником халифской стражи в Багдаде, и основал Старый Каир. Этот завоеватель-кочевник назвал его Фустат, или Шатер, и велел построить там мечеть Тулуна. В 969 году фатимид– ский полководец Джаухар захватил этот каменный лагерь, наметил план нового города и назвал его Маср эль– Кахира, то есть Победоносный. В начале двенадцатого века Салах ад-Дин, сподвижник Нур ад-Дина, захватил Египет и включил Маср эль-Кахиру в состав своих завоеваний. В правление Салах ад-Дина его военачальник Каракуш построил там цитадель и окружил ее крепостными стенами. Спустя несколько лет Бейбарс, предводитель мамлюков, заколол визиря и занял его место; его потомки спокойно владели Каиром до тех пор, пока в 1517 году Селим не превратил Египет в турецкую провинцию. Именно в эпоху всех этих различных правлений, когда пал город Ахмада ибн Тулуна, одна за другой поднялись величественные постройки города Джаухара.
Каир, занимающий огромное пространство и имеющий население около трехсот тысяч душ, разделен на несколько кварталов, подобно средневековым городам Европы: арабский, греческий, еврейский и христианский; однако все эти кварталы отделены один от другого воротами, которые по ночам охраняют стражники. Мы поселились, как уже было сказано, в христианском квартале, который именуется франкским и в котором, тем не менее, опасно появляться в европейском наряде; как раз этой опасности читатель и обязан такой длинной беседе на тему археологии и истории, за что мы смиренно просим у него прощения, полагая, однако, что в сочинениях подобного рода давать подобные пояснения необходимо, но только один раз, и больше к этому не возвращаться.
VI. КАИР (продолжение)
На следующий день, в назначенный час, пришел наш торговец одеждой. Такое проявление пунктуальности, как, впрочем, и многое другое, вынуждало меня признать превосходство турецких портных над французскими. Несколько соотечественников, привлеченных любопытным зрелищем, явились, чтобы присутствовать при нашем перевоплощении. Портной привел с собой цирюльника, в руках, а вернее, в ногах которого нам предстояло побывать, прежде чем попасть к самому портному. Процедура началась с меня; г-н Тейлор отправился к консулу обсуждать вверенную ему миссию, оставив нас заниматься своим туалетом.
Цирюльник устроился на стуле, посадив меня на пол. Затем он извлек из-за пояса небольшой железный инструмент, в котором, при виде того как он провел им по ладони, я распознал бритву. При одной мысли, что подобная пила будет сейчас прогуливаться по моей голове, волосы у меня встали дыбом, но почти тотчас же мой лоб оказался зажат коленями недруга, словно тисками, и я понял, что мне лучше всего не шевелиться. И в самом деле, я почувствовал, как этот огрызок железа, вызвавший у меня такое презрение, с трогающей душу нежностью, ловкостью и мягкостью последовательно скользит по всем частям моего черепа. Через несколько минут цирюльник разжал ноги, я поднял голову и услышал дружный смех; взглянув в зеркало, я увидел, что обрит наголо, а от моих волос осталась лишь та нежная синева, какая после тщательного бритья украшает подбородок. Я был потрясен подобной быстротой и, никогда прежде не видев себя таким, лишь с некоторым трудом узнал собственное лицо. Я искал над шишкой богомудрия прядь, за которую архангел Гавриил поднимает мусульман на небо, но даже ее там не было. Я счел себя вправе потребовать эту прядь обратно, но стоило мне завести об этом речь, как цирюльник ответил, что такое украшение принято только в одной инакомыслящей секте, не слишком чтимой остальными мусульманами из-за вольности бытующих в ней нравов. Я прервал его на этих словах, заверив, что для меня крайне важно принадлежать лишь к ничем не опороченной части верующих, ибо в Европе моя нравственность всегда вызывала всеобщее восхищение. Когда этот вопрос был улажен, я без особых сожалений перешел в руки портного, который начал с того, что водрузил на мою бритую голову белую ермолку, на белую ермолку – красный тарбуш, а на тарбуш – скатанную в валик шаль, что почти преобразило меня в истинно верующего. Затем на меня надели платье и а б а й ю, подвязав мне пояс еще одной шалью, за которую, гордо подвесив к ней саблю, я заткнул кинжал, карандаши, бумагу и кусок хлебного мякиша.
В этом одеянии, без единой морщинки облегавшем мое тело, я мог, по заверению портного, появляться где угодно. Впрочем, у меня не было в этом никаких сомнений, и я, словно актер перед выходом на сцену, с нетерпением ждал, когда будет переряжены мои товарищи. Теперь им, в свою очередь, предстояло на виду у меня подвергнуться тем же самым операциям, каким я подвергся на глазах у них, и, по правде говоря, я выглядел не самым смешным из всех. Наконец, когда с туалетом было покончено, мы спустились по лестнице, переступили порог дома и сделали свои первые шаги по улице.
Я держался довольно скованно: на голову мне давил тюрбан, складки платья и плаща затрудняли ходьбу, а бабуши и ноги, еще плохо привыкшие друг к другу, то и дело утрачивали взаимную связь. Мухаммед шел рядом с нами и задавал темп, повторяя:
– Медленнее, медленнее.
Наконец, когда мы немного умерили свою французскую прыть и усвоенная плавная медлительность позволила нам идти раскачиваясь, без чего невозможно было придать арабское изящество нашей походке, дело пошло на лад. Короче говоря, этот наряд, идеально приспособленный для местного климата, гораздо удобнее нашего, поскольку он не сдавливает фигуру и оставляет все суставы полностью свободными. Тюрбан же образует вокруг головы своего рода стены, благодаря чему она может потеть сколько угодно, не доставляя никаких неприятностей телу, что весьма удобно.
Через полчаса после нашего обращения в магометан мы приступили к осмотру города. Прежде всего нам хотелось посетить дворец паши; дорога туда изобиловала архитектурными деталями отменного вкуса, от созерцания которых Мухаммеду приходилось нас каждую минуту отрывать. Ничто не может дать представления об изысканности и замысловатости арабских орнаментов; вот поэтому Каир великолепен везде как отдельными деталями своей архитектуры, так и всем ее ансамблем, и когда он позволяет увидеть лишь краешек какой-нибудь улицы или уголок какой-нибудь мечети, и когда он разворачивает перед вами панораму своих трехсот минаретов, семидесяти двух ворот, крепостных стен, гробниц халифов, пирамид, Нила и пустыни.
Мы быстро миновали роскошные базары и крытые навесами улицы и подошли к огромной мечети султана Хасана, главный фасад которой обращен к цитадели, отделенной от нее площадью. Затем мы двинулись по крутой дороге, ведущей к Дивану Юсуфа и находящемуся рядом с ним знаменитому колодцу, о котором нам рассказывал г-н Тейлор. Говорят, будто это четырехугольное сооружение, предназначенное для того, чтобы подавать воду в цитадель, уходит вглубь на уровень дна реки; колодец вырублен в скале, и в него можно спуститься по ступеням: верхние из них освещены через проемы, устроенные в наружной стене, но если оказаться на значительной глубине, то приходится зажигать факелы.
Что же касается мечети, известной под названием Диван Юсуфа, то она поддерживается монолитными колоннами из великолепного мрамора, несущими на своих коринфских капителях слегка углубленные арки, контур которых украшает арабская вязь отдельных стихов Корана. Продолжая взбираться выше, вы попадаете на ровную площадку; там, на этом самом высоком месте, стоит дворец паши – нагромождение камней, деревянных колонн и итальянской живописи крайне посредственного вкуса: все это чрезвычайно плохо приспособлено к условиям местного климата.
Как уже было сказано выше, это Каракуш, военачальник и первый министр Салах ад-Дина, построил цитадель, вырыл колодец и начертил план нового города, так что память о нем жива по сей день, а поскольку он был мал ростом и горбат, его имя дали своего рода комическому персонажу, который пользуется на улицах Каира полнейшей свободой, произнося и изображая жестами самые немыслимые непристойности. У нас примерно такую же известность имеют имена господ Мальборо и Ла Палиса.
Во время этой прогулки нас сопровождал г-н Мсара, переводчик при консульстве, бывший драгоман гвардии мамлюков, которого мы по прибытии обнаружили обосновавшимся в нашей гостинице; к своему прежнему ремеслу он присоединил новое занятие – торговлю предметами древности; кроме того, он знал массу забавных историй, что превращало его в интереснейшего чичероне. Он и разъяснял нам подробности великолепной панорамы, открывшейся нашему взгляду с той высоты, на какую мы поднялись.
Цитадель возвышается над всем Каиром. Если встать лицом к востоку, а спиной к реке, так что справа окажется юг, а слева – север, то ваш взор охватит огромный полукруг; на его краю, у ваших ног, высятся гробницы халифов – мертвый город, безмолвный и пустынный, но стоящий столь же прочно, как и город живых: это некрополь гигантов. Каждая усыпальница размером не уступает мечети, а каждый памятник имеет своего стража, немого как могила. Позднее мы с факелами в руках посетим этот город, пробудим его призраки и вспугнем его хищных птиц, которые весь день сидят на венчающих его шпицах, а ночью возвращаются в гробницы, словно желая напомнить душам халифов, что настал их черед выходить оттуда. Позади этого величественного города мертвых тянется горный кряж Мукаттам с его обрывистыми и безжизненными вершинами, отбрасывающими жгучие солнечные лучи до самого Каира.
Если вы повернетесь в обратную сторону, то под ногами у вас вместо мертвого города окажется город живых; устремив взгляд в сплетение его извилистых улочек, вы увидите там несколько неторопливо и степенно шествующих арабов, облаченных в великолепные м а ш – л ах и, или турок, едущих верхом на ослах; затем вы увидите людские столпотворения, из которых доносятся крики верблюдов и торговцев, – это базары; повсюду нагромождение куполов, похожих на щиты великанов, и лес минаретов, напоминающих мачты или пальмы; слева – Старый Каир, или Шатер, построенный Тулуном; справа – Булак, пустыня, Гелиополь; прямо перед вами, за пределами города, – Нил с островом Рода, а на другом его берегу – поле битвы при Эмбабе; еще дальше – пустыня; на юго-западе – Гиза, сфинкс, пирамиды, роща громадных пальм, где спит колосс и где некогда был Мемфис; над их верхушками виднеются другие пирамиды, а за ними снова пустыня, пустыня по всему горизонту: океан песка, огромный, как настоящий океан с его приливами и отливами; караваны рассекают его гладь, словно флотилии; верблюды бороздят его, словно лодки; самум поднимает на нем волнение, словно шторм.
На той самой площадке, где мы теперь находились, в 1818 году, насколько я помню, по приказу паши Египта было расстреляно картечью все старое войско мамлюков, которых он пригласил сюда якобы на праздник: они пришли, как обычно, облаченные в самые роскошные свои наряды, обвешанные самым красивым своим оружием и украшенные всеми своими драгоценностями. По сигналу, поданному пашой, смерть обрушилась на них со всех сторон; из жерл пушек, которые вели перекрестный огонь, извергались пламя и железо, люди и лошади падали, истекая кровью. И тогда вся эта обезумевшая толпа заметалась, натыкаясь на стены и испуская дикие крики, полные ярости и жажды мщения, крутясь, словно в водовороте, распадаясь на отдельные группки, разлетаясь, как листья, гонимые ветром, затем вдруг снова соединяясь и в последнем усилии направляя лошадей прямо на жерла грохочущих пушек, потом, словно стая испуганных птиц, снова отступая, но и в этом оступлении преследуемая шквалом огня. И тогда некоторые мамлюки стали бросаться вниз с высоты цитадели, разбиваясь сами и калеча своих лошадей; тем не менее двое из них поднялись, оглушенные лошади и всадники какое-то мгновение содрогались, словно конные статуи, пьедесталы которых встряхнуло землетрясение, а затем оба они вновь помчались с быстротой молнии, пронеслись через городские ворота, оказавшиеся незапертыми, и выехали за пределы Каира. Беглецы тотчас же направились к городу халифов, пересекли эту безмолвную обитель мертвых, оглашая ее, словно гулкое подземелье, топотом лошадей, и подъехали к подножию Мукаттама в то самое мгновение, когда отряд конной гвардии паши выехал из города и бросился вдогонку за ними; один из всадников помчался в сторону Эль-Ариша, другой углубился в горы; преследователи разделились на две группы и поскакали вслед за ними.
В этой гонке, в которой состязались жизнь и смерть и в которой лошади, выросшие в пустыне, мчались по горам, перепрыгивали с утеса на утес, преодолевали бурные потоки и неслись по краю пропасти, таилось нечто сверхъестественное.
Трижды лошадь одного из мамлюков падала, потеряв дыхание и почти лишившись жизненных сил, и трижды, услышав галоп преследователей, поднималась и возобновляла свой бег; в конце концов она рухнула и больше не поднялась. И тогда человек явил трогательный пример дружеской верности: вместо того чтобы спуститься с какой-нибудь скалы в ущелье, а затем добраться до недоступных для лошадей остроконечных вершин, он сел возле своего скакуна, не выпуская из рук поводьев, и стал ждать; солдаты убили его, не услышав от него ни единой мольбы, ни единого стона.
Второй мамлюк оказался удачливее своего товарища, он пересек Эль-Ариш, достиг пустыни и стал градоначальником Иерусалима, где нам и довелось увидеть его, этот последний уцелевший обломок грозного войска, которое тремя десятилетиями раньше соперничало в отваге с лучшими силами нашей молодой армии.
Во время этой первой прогулки мы прежде всего обратили внимание на то, что у многих прохожих, попадавшихся нам навстречу, недоставало носов и ушей, что придавало всем этим славным людям, обезображенным таким образом, весьма причудливый вид. Я спросил Мухаммеда о причине этого странного явления, и он ответил мне, что просто-напросто все эти достопочтенные инвалиды когда-то представали перед каирским исправительным судом. Это требовало разъяснений, и г-н Мсара, по-прежнему услужливый и словоохотливый, незамедлительно их нам дал.
В Каире, в краю малокультурном и не имевшем еще времени подняться до уровня европейской цивилизации, не существует армии полицейских шпиков, обязанных следить за армией воров; впрочем, самые тщательные розыски, самая неотступная слежка легко потерпят здесь неудачу: стоит попавшему под подозрение выйти за ворота Каира, как он сразу же оказывается в пустыне. А правосудие питает к песку такое же отвращение, как и к воде; любое безбрежное пространство пугает его: требовалось устранить эту помеху. Кади, которых это непосредственно касалось, призадумались и нашли хитроумное средство отличать воров от честных людей.
Когда совершена кража и вор схвачен с поличным, что иногда случается, кади велит привести к нему обвиняемого, допрашивает его, составляет необходимые бумаги и, убедившись в его вине, что происходит очень быстро, берет в одну руку ухо вора, в другую – бритву и, ловко действуя этим инструментом, проводит им между собственной рукой и головой осужденного; довольно часто в итоге такой процедуры кусочек плоти остается в руке судьи, а преступник уходит, лишившись одного уха.
Нетрудно понять, насколько подобный метод облегчает работу полиции. Когда вор, уже побывавший в руках правосудия, совершает вторую кражу, он не имеет возможности идти на запирательство, если только у него не отросло новое ухо, что случается крайне редко; и тогда, на основании правовой аксиомы non bis in idem[4], ему отрезают второе ухо. Если вор неисправим и совершает такой же проступок в третий раз, кади принимается за его лицо и отрезает у него нос, как прежде отрезал ему уши: в итоге жителям Каира следует быть настороже, когда к ним приближается прохожий, на лице у которого недостает кое-каких принадлежностей, ибо он самым смехотворным образом настолько сожалеет об утерянном, что ищет его во всех карманах, какие попадаются ему на пути. Так что, если, находясь в Каире, вы вдруг ощутите у себя в кармане чью-то руку, смело доставайте кинжал, отрезайте ее и, прихватив с собой, ступайте своей дорогой; если на пальцах этой руки будут кольца – тем лучше для вас: можете быть спокойны, владелец не потребует ее обратно.








