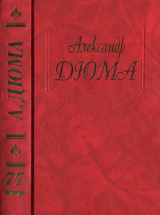
Текст книги "Две недели на Синае. Жиль Блас в Калифорнии"
Автор книги: Александр Дюма
Жанры:
Зарубежная классика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 43 страниц)
Никогда еще ни один вопрос не был задан более уместно: он затронул меня до глубины души, пробудив всю мою привязанность к родной земле, проявляющуюся на чужбине особенно пылко и благоговейно. Я призвал на помощь все свои воспоминания о Франции, и каждый ее уголок всплывал в моей памяти, окруженный ореолом поэзии, которой я не замечал, находясь там, и которую ощутил теперь, оказавшись далеко от родины. Я рассказал Бешаре о Нормандии с ее высокими обывистыми берегами, ее безбрежным и беспокойным океаном и ее готическими соборами; о Бретани, этой древней родине друидов, с ее дубовыми лесами, ее гранитными дольменами и ее народными балладами; о Южной Франции, которую римляне превратили в свою излюбленную провинцию, сочтя ее ни в чем не уступающей Италии, и где они оставили те гигантские сооружения, какие способны соперничать с постройками в Риме; и, наконец, о Дофине с его заоблачными горами и изумрудными долинами, с поэтичным преданием о его семи чудесах и ослепительными радугами его водопадов, о мелодичном шуме и восхитительной свежести которых я тосковал в эту минуту, как никогда прежде. Бешара слушал мой рассказ, проявляя все возраставшее сомнение; наконец он уже не мог скрывать своего удивления, и мне стало ясно, что он пребывает в убеждении, будто я, художник по роду занятий, нарисовал перед ним эти картины, безоглядно отдавшись прихотям своего воображения. Тогда я поинтересовался у него, что необычного и невероятного находит он в моем рассказе. Какое-то время он собирался с мыслями, а затем, после минутного молчания, ответил мне:
– Послушай! Аллах создал квадратную землю и усеял ее камнями. Покончив с этим первым делом, он спустился вместе с ангелами и, воссев, как тебе известно, на вершине горы Синай, являющейся срединой мироздания, начертил большую окружность, которая касалась четырех сторон квадрата. После этого он приказал ангелам побросать все камни из круга в углы, соответствующие четырем сторонам света. Ангелы исполнили приказ, и, когда круг был расчищен, Аллах отдал его своим любимым чадам – арабам, а четыре угла назвал Францией, Италией, Англией и Россией. Так что Франция не может быть такой, как ты ее описываешь.
Как ни обидны были для меня слова Бешары, я уважал чувства, подсказавшие ему такой ответ, и потому решил промолчать. Однако мне показалось забавным, что именно в Каменистой Аравии зародилась подобная легенда.
Что же касается Бешары, то он счел меня побежденным и, проявив себя великодушным противником, уважительно отнесся к моему поражению.
Поскольку мне вовсе не хотелось спать, мы подошли к сидевшим кружком проводникам. Предметом разговора был араб, примкнувший к нам днем, и Бешара, проявляя гостеприимство, уступил ему слово. Тот рассказывал длинную историю, из которой я ничего в тот момент не понял, но позднее мне ее пересказал Бешара.
Малек – так звали этого араба – оказался в Каире, когда одному английскому путешественнику понадобился проводник, который мог бы подняться вместе с ним вверх по Нилу и довести его до берегов Белой реки. Малек предложил свои услуги, хотя дорогу после Фил он знал ничуть не лучше того, кто взял его в провожатые. Но араб ничего не боится, ибо впереди всякого человеческого знания его вера ставит могущество Аллаха. И в самом деле, когда они добрались до Эфиопии, он честно признался путешественнику, что считает благоразумным взять себе в качестве помощников кого-нибудь из местных уроженцев. Англичанин тотчас догадался, что Малек сильно преувеличил свои географические познания, но, поскольку на протяжении всего путешествия тот проявил себя услужливым проводником и преданным слугой, он решил оставить его в качестве посредника между ним и новыми попутчиками. Так что Малек сопровождал европейца вплоть до Лунных гор. Там англичанин решил продолжить свое путешествие по Абиссинии, но Малек, поступая к нему в услужение, брался сопровождать его только до берегов Бахр-эль-Абьяда, или Белой реки, и потому он заявил теперь путешественнику, что желает вернуться к своему племени. Желание было настолько законным, что оспаривать его не приходилось.
Англичанин заплатил вдвое больше, чем обещал, и простился с Малеком, который купил себе верблюда и двинулся в обратный путь, не придерживаясь, по примеру всех арабов, никакой дороги и ориентируясь по звездам. Так он достиг Кордофана, то ночуя под открытым небом вместе со своим дромадером и испытывая, как и он, голод и жажду, то прося гостеприимства в каких-нибудь убогих негритянских хижинах, где, к его великому удивлению, никогда не было никого, кроме стариков, стоящих уже на пороге смерти, и детей, не вышедших еще из колыбели. На северной границе этого государства, в двух днях пути от Обейда, его столицы, если так можно назвать скопление жалких лачуг, Малека приютили в хижине, где жили только старый негр и ребенок. Оба они плакали: ребенок звал мать, а старик – дочь. Старый негр счел Малека арабом из Нижнего Египта и поведал ему свою историю. Из этого рассказа тот почерпнул несколько явно не лишенных интереса подробностей, касающихся населения внутренних областей Африки, о котором все еще так мало известно.
Из года в год Нил выходит из берегов, неся плодородие Египту, и, хотя Господь сотворил это чудо для всех людей, пользу из него извлекает один лишь паша. Урожай с этих плодородных берегов, от Дамьетты до Эле– фантины, принадлежит ему. Но дальше живут независимые племена кочевников, все богатство которых, как это было у древних царей-пастухов, заключено в их стадах. Ближайшими из этих кочевников были негры Дарфура и Кордофана, и паша, обратив на них взор, не раз вспоминал о необходимости напомнить им, что они входят в состав его державы, и обложить их данью людьми вместо налога урожаем и деньгами, которые ему платят его подданные из Дельты и Нижнего Египта. Когда паша принимает одно из таких решений, а это происходит каждые три-четыре года, он направляет в Кордофан кавалерийский полк и несколько пехотных рот, и там начинается охота, подобная той, какую индийские цари устраивают на слонов, львов и тигров.
Солдаты образуют огромное кольцо, которое постепенно сжимается и центром которого служит заранее выбранная точка, обычно какая-либо гора. Женщины, дети, старики, мужчины, скот – все отступают перед этим окружающим их губительным кольцом, и в конце концов, словно те дикие звери из Кабула и Декана, какие, независимо от их породы, оказываются согнаны в какой-нибудь лес или прижаты к какой-нибудь реке, все эти различные племена оказываются оттеснены к подошве, склонам или вершине горы, которую они покрывают живым пестрым ковром и оглашают криками на двадцати разных наречиях. И тогда разыгрывается одна из тех душераздирающих сцен, о каких не могут иметь никакого представления в Европе и какие можно найти в Библии, где рассказано о том, как Навузардан, военачальник Навуходоносора, увел пленных евреев в Вавилон. Каждый из попавших в окружение ведет себя соответственно своему характеру. Те, кто еще рассчитывает защищать свою жизнь, борются и оказываются убитыми; те, кто теряет надежду, бросаются с утеса в какую-нибудь пропасть; слабые телом и духом прячутся, как рептилии, в глубоких пещерах, откуда их быстро выкуривают. Наконец все, кто годится для продажи, все, кто может стать слугой или солдатом, рабыней или наложницей, схвачены, рассортированы, связаны попарно, как вьючные животные, и, как стадо, согнаны на берег Нила, чтобы затем заполнить собой базары Каира, Суэца и Александрии или увеличить численность войска вице-короля. Таким образом, на свободе остаются лишь ни на что не годные старики и дети, которые лет через пять на что– нибудь сгодятся. Все поколение, стоящее между ними, исчезает в один день, как в те времена, когда Иегова, дабы наказать гонителей своего народа, истреблял всех египетских первенцев, начиная от первенца фараона, который сидит на престоле своем, до первенца рабыни, которая крутит жернова мельницы.
Так вот, старик и ребенок, в чьей хижине остановился Малек, были соответственно отцом и сыном той, которую они потеряли во время последней подобной экспедиции: один остался без дочери, другой – без матери. Что же касается ее мужа, то он защищал свою семью до последней крайности и, видя, что ему не удастся ее спасти, бросился со скалы в пропасть; женщину увели в рабство, а старика и ребенка бросили как ненужную добычу.
И тогда старик отправился в путь; он преодолел горную цепь, которая тянется от Дарфура до Красного моря, пересек Бахр-эль-Абьяд и пришел в Сеннар, на берег Голубой реки. Там в течение полугода он от зари до зари гнул спину, промывая речной песок в поисках содержащегося в нем золота; затем он выменял часть золота на страусовые перья и вернулся в Кордофан достаточно богатым, чтобы выкупить дочь. Но путешествие в Сеннар подорвало здоровье старика: ему уже недоставало сил на то, чтобы отправиться в Каир, и, когда Малек пришел просить у него гостеприимства, он лежал в хижине, оплакивая свое бесполезное богатство. Старик рассказал гостю о своих несчастьях, и Малек сказал ему: «Мое племя живет на Синайском полуострове, а от Синая неделя пути до Каира; дай мне страусовые перья и золото, и я отправлюсь в Каир, чтобы выкупить твою дочь».
Когда мы встретили Малека, он как раз исполнял святой долг, взятый им на себя в благодарность за оказанное ему гостеприимство.
Караван рабов, захваченных таким образом в Кордофане и Дарфуре, движется по берегу Белой реки к месту ее впадения в Нил, а поскольку река, устремляясь на север, делает там изгиб в сто пятьдесят льё, то безжалостные пастухи этого человеческого стада считают ненужным следовать дальше вдоль ее берегов. И тогда вся эта толпа, состоящая из всадников, пехотинцев и пленников, начинает готовиться к переходу длиной в семьдесят льё по пустыне, простирающейся от Хальфаи, где караван покидает реку, вплоть до Корти, где он вновь подходит к ней; люди берут недельный запас продовольствия, наполняют бурдюки водой и устремляются через песчаное море, иссушаемое тропическим солнцем. Когда караван пускается в путь, уже ничто не может его остановить; его гонит вперед необходимость, ибо от него не отстают два демона пустыни – жажда и голод; он идет, пока длится день, идет, подобно волнам перед бурей. Больные падают, и никто не останавливается, чтобы поднять их; матери, не имеющие больше сил нести своих детей, ложатся рядом с ними на песок и остаются там навсегда; гиены и шакалы следуют позади каравана, как волки следовали за войском Аттилы; каждый вечер караван останавливается на месте какой-нибудь прежней лагерной стоянки, узнаваемой по грудам костей, и каждое утро отправляется в путь, оставив там еще несколько трупов, что делает это скопление костей еще больше. Наконец через неделю пути, а вернее, бега вся эта обессиленная, задыхающаяся, уменьшившаяся на треть, а то и на половину толпа достигает Корти или Донголы, где она вновь встречается с Нилом и затем, не отступая более от его берегов, доходит до самого Каира. Но порой случается, что рядом с караваном поднимается, словно великан, самум: он парит над ним, отряхая свои огненные крылья, и в итоге хозяева и невольники исчезают в нубийских песках, как некогда войско Камбиса исчезло в безлюдных пространствах царства Амона. И напрасно ждет тогда паша своих солдат и пленников: время проходит, он интересуется, что с ними сталось, но слух о них затих, след их стерся, и они пропали, как пропадает человек, под ногами которого внезапно разверзлась земля.
Мне неизвестно, могут ли взволновать такие рассказы городского жителя, который слушает их, сидя возле камина у себя дома, но я знаю, что в пустыне, когда вы целый день страдаете от жары, голода и жажды, когда вы видите, как на горизонте вздымаются песчаные волны, которые хамсин может накатить на вас, когда вы слышите вокруг себя дикий концерт гиен и шакалов, подобный рассказ обретает невероятную силу. В сочетании со страхом подвергнуться нападению рептилий он оказал на меня такое воздействие, что я провел одну из самых бессонных за все это время ночей; к счастью, на следующий день мы должны были достичь Синая, и эта надежда служила целительным бальзамом, успокаивающим все наши тревоги и все наши печали.
Проснувшись, мы приветствовали великолепное солнце, обещавшее прекрасный, но жаркий день, и продолжили путь по все той же песчаной равнине; затем наш караван снова вступил в одно из каменистых вади с вулканическими горами и гранитными отвесными стенами, вдоль которых струятся, словно каскады света, солнечные лучи. Нас заранее пугал предстоящий полуденный привал среди подобного пекла, как вдруг за одним из поворотов этой долины мы остановились, замерев от удивления и восторга. Горы, великолепные по цвету и форме, вырисовались перед нами во всей своей суровой наготе на фоне чистейшего голубого неба.
Именно здесь разыгрывались грандиозные сцены, о которых рассказывает библейская книга Исход. Эти гранитные громады были достойны того, чтобы Бог избрал их своим троном, и нигде в мире, я полагаю, не нашлось бы более сурового и величественного места, где должен был прозвучать голос Господа, давшего Моисею законы, по которым предстояло жить его народу. И перед лицом этой безмолвной, нагой и печальной природы, там, где между бесплодными скалами не пробивается ни травинки, евреям суждено было понять, что ждать помощи им приходится только от Неба и все свои надежды возлагать лишь на Бога. И вот эти края, среди подобных первозданных пейзажей, избрали своей родиной наши арабы, поклоняющиеся, как и все дикие народы, великим картинам природы. Горизонт, развернувшийся перед нашими глазами, был тем самым, какой они славили при каждом восходе и заходе солнца. Потрясенные, как и мы, видом этой грандиозной панорамы и к тому же умиленные возвращением в родные места, они затихли и прекратили всякие разговоры; после минутной остановки, вызванной этим неожиданным зрелищем, караван продолжил путь, пребывая в молчании и задумчивости, тогда как наши дромадеры, по собственной воле ускорив шаг, убедили нас, что им не меньше, чем их хозяевам, присуща любовь к родине. По прошествии пяти часов пути по этой великолепной пустыне мы увидели на противоположной стороне лощины лагерь племени аулад– саид.
Многочисленные шатры были расставлены кольцом. Несколько из них, самые высокие, принадлежали шейхам; все шатры стояли вплотную друг к другу, но между двумя был оставлен просвет, являвшийся входом в лагерь. Своей формой эти шатры отличались от наших палаток: основу их составляли длинные полотнища из шерстяной ткани или верблюжьего меха, украшенные белыми и коричневыми полосами и наброшенные на тростниковые жерди, которые поддерживались поперечными деревянными опорами. Концы таких полотнищ, образующих вместе квадратный купол, с обеих сторон опускались до самой земли, где их удерживали положенные сверху тяжелые камни. Шатры шейхов, превосходившие, как я уже говорил, высотой остальные, были построены по такому же образцу, однако внутри там с лежавшей поперек жерди свисал кусок материи, деливший помещение на две части. Как только нас заметили, из всех шатров стали выглядывать взволнованные лица; вскоре, узнав в тех, кто пришел, своих братьев, весь лагерь бросился нам навстречу, испуская восторженные крики и кудахтанье, похожее на то, что мы слышали во время свадебного шествия в Каире. Впереди бежали женщины вместе с детьми, и мы уже было обрадовались, что сможем разглядеть их вблизи, как вдруг все они обратились в бегство: женщины увидели, что в составе каравана есть назаряне. Наши охранники ни единым жестом не пыталась их удержать, так что мгновение спустя мы увидели, как они вперемешку устремились в лагерь и скрылись, каждая в собственном шатре, словно испуганные пчелы, возвращающиеся в свои улья. Остались только старики, воины и дети. Через несколько минут мы подъехали к ним, и наши дромадеры, оказавшись рядом с лагерем, сами опустились на колени, не дожидаясь сигнала Талеба.
Мы были представлены старейшинам племени, которые провели нас в самый красивый шатер: это был шатер Талеба. Наш вождь любезно пригласил нас сесть и вместе с наиболее уважаемыми из своих товарищей сам сел рядом с нами. Несколько минут мы просто наслаждались прохладной тенью, а затем в шатер подали деревянную миску, полную сливок ослепительной белизны, один вид которых вызывал ощущение свежести. Я повернулся к Абдалле и глазами указал ему на эту чудесную миску, но он ответил на мой взгляд пренебрежительным жестом, который я приписал презрению со стороны человека, изучавшего кулинарное искусство в столице, к деревенским угощениям племени аулад-саид. После полагающихся в таких случаях проявлений вежливости, показавшихся мне весьма затянутыми, настолько мне не терпелось отведать это блюдо, г-н Тейлор отважился запустить руку в миску, зачерпнул сливок и поднес их ко рту; однако, к своему великому удивлению, я не увидел, чтобы, попробовав их, он каким-либо образом выразил свое удовольствие; тем не менее он допил оставшуюся у него в ладони жидкость, оставаясь внешне спокойным, но выражение его лица, как мне показалось, свидетельствовало скорее об умении этого человека владеть собой, чем о блаженстве изнывающего от жажды гостя, нашедшего, наконец, чем ее утолить. Воспользовавшись мудрой арабской неторопливостью, обязывающей в торжественных случаях делать после каждой фразы, каждого движения и каждого действия перерыв на несколько секунд, я спросил у г-на Тейлора, как он находит буколический напиток, который нам поднесли.
– Ну, – ответил он с истинной мудростью, – это не похоже ни на что из того, что вам известно; попробуйте: вкус своеобразный.
Такой ответ вселил в меня некоторые сомнения, но, ободренный аппетитным видом этих злосчастных сливок, я в свою очередь погрузил в них руку и, поднеся пригоршню ко рту, проглотил залпом все, что она содержала. Ощущение, ожидавшее меня, оказалось чудовищным, и, не будучи таким опытным дипломатом, как мой друг, я выдал себя в то же мгновение, причем не только выражением лица, но и речью. Громко крича, я попросил воды; мне тотчас принесли полный кувшин, который я выпил, так и не сумев избавиться от привкуса этого отвратительного пойла. Я подал знак, чтобы мне принесли второй кувшин, половину воды из него выпил, а оставшейся прополоскал рот. Предаваясь этому занятию, я случайно остановил свой растерянный взгляд на Абдалле, смотревшем на меня с видом человека, который заранее прекрасно знал, что должно произойти, но не пожелал лишать себя этого приятного зрелища.
Как я узнал позднее, это своеобразное блюдо состояло из верблюжьего сыра, растительного масла и мелко нарезанного лука; все это сбивают, добавляя туда еще несколько подобных приправ, и итогом этого порочного смешения является та отрава, какую нам подали. Впрочем, отвращение, испытанное нами, было, по-видимому, связано исключительно с нашими европейскими вкусами, ибо стоило Мейеру проделать, причем с тем же результатом, испытание, оказавшееся для меня столь роковым, как арабы набросились на остававшуюся полной миску и с наслаждением съели все это кушанье, которое внушило мне стойкую неприязнь к молоку, сохранившуюся до конца путешествия.
Пока они быстро управлялись с этим первым блюдом, я с любопытством разглядывал внутреннее убранство одного из тех шатров, которые не претерпели никаких изменений со времен Авраама и привычку к которым еще Исмаил привез из земли Ханаанской в глушь Каменистой Аравии. Итак, я рассматривал на стене шатра одну из темных полос, изготовленных из шерсти черных овец, как вдруг мне показалось, что сквозь материю просовывается лезвие кинжала. Оно прошло внутрь, оставив разрез длиной около двух дюймов, а затем исчезло; взамен него показались два тонких, изящных пальчика с красными ногтями: они раздвинули края отверстия, проделанного кинжалом, и между ними заблестел черный глаз; это арабские женщины, стремясь увидеть назарян, но не желая показываться им на глаза, не нашли иного способа удовлетворить свое любопытство и вместе с тем не нарушить закон, как проделать это крохотное отверстие, в котором в течение всего времени, пока мы сидели в шатре Талеба, каждые несколько минут появлялся новый любопытный глаз.
Однако, пока дамы разглядывали нас в свое удовольствие, их мужья покончили с кушаньем, предложенным вначале нам. За ним последовало огромное блюдо с рисом, но на этот раз, наученный опытом, я попробовал его, приняв необходимые меры предосторожности. Новое кушанье обладало хотя бы тем преимуществом, что оно вообще не имело вкуса – ни хорошего, ни плохого; рис был сварен в воде и если и не доставлял особо приятных ощущений, то, по крайней мере, не вызывал тошноты.
Когда трапеза завершилась, мы решили в благодарность за оказанное нам гостеприимство вручить хозяевам подарки. У нас было с собой несколько ярких, разноцветных носовых платков, и мы раздали их арабским ребятишкам. Дети ходили совершенно голыми и носили на шее, подвешенным на плетеном шнурке из конского волоса, бубенчик, назначением которого я поинтересовался. Мне объяснили, что по вечерам, когда племя собирается на отдых, в ограду заводят вначале дромадеров, потом баранов и, наконец, детей. Каждое такое стадо пересчитывают, начиная с того, какому приписывают наибольшую ценность, и если кто-то из детей не явится на поверку, то родители бросаются на поиски, призывая его и прислушиваясь. Если он не откликается, родители бегут на звон бубенчика; в итоге заблудившегося или убежавшего ребенка находят или ловят и приводят в лагерь, вход в который не закрывается до тех пор, пока не будет удостоверено, что в него вернулись все без исключения.
Впрочем, ребятишки, несмотря на свой юный возраст, с удивительной ловкостью мгновенно соорудили себе одежду из носовых платков, которые мы им подарили. Одни обмотали платок вокруг головы как тюрбан, другие превратили его в юбку или накинули на плечи как плащ, и почти все эти наряды отличались несомненным вкусом. Я зарисовал несколько детей, которые были так увлечены своим веселым занятием, что не заметили, как я украдкой набрасываю их портреты, хотя в любых других обстоятельствах они никогда не позволили бы мне сделать это.
Проводники, в благодарность за наше доброе отношение к ним, а возможно, и для того, чтобы продлить наше пребывание в лагере еще на несколько часов, пожелали добавить к молоку и рису харуф махши – барашка, запеченного под горячими углями. Однако мы стоически отказались от этого блюда, хотя, бесспорно, оно лучшее в арабской кухне. Мы находились всего в нескольких часах пути от Синая и, торопясь добраться туда до наступления темноты, не хотели терять времени.
Прощание проходило с чисто арабской сдержанностью. Впрочем, на этот раз наши проводники ненадолго разлучались со своим племенем: поскольку они не имели права войти в монастырь, им предстояло вернуться обратно той же ночью. Так что мы без особого промедления взобрались на своих дромадеров и уже через полчаса вступили в оазис Святой Екатерины, ведущий к подножию горы Синай. Дорога была гористой, труднопроходимой и обрывистой, но мы были почти у цели, и мысль об этом делала в наших глазах путь ровнее, дорогу – красивее, склоны – положе. Даже солнце, по-прежнему испепеляющее, казалось нам ласковым, и переносить его жар было легче, чем накануне. Тем не менее эта трудная дорога заняла у нас уже более двух часов, и, несмотря на душевный подъем, мы начали ощущать физическую усталость, как вдруг, обогнув огромный утес, закрывавший от нас горизонт, мы оказались у подножия горы Святой Екатерины, царственно возвышавшейся над соседними горами. Слева высился намного превосходящий ее по высоте величественный Синай, и на восточном склоне священной горы, примерно на трети ее высоты, нам открылся монастырь – мощная крепость, построенная в форме неправильного четырехугольника, а с его северной стороны виднелся обширный сад: спускаясь вдоль последнего отрога горы в долину, он был обнесен оградой, уступавшей по высоте монастырским стенам, но, тем не менее, служившей защитой от внезапных нападений, и верхушками своих деревьев радовал взор, отвыкший от зелени.
Синай является высочайшей вершиной горной цепи, возвышающейся, словно становой хребет полуострова, и по прихотливой ломаной линии спускающейся к Красному морю, где ее последние гранитные зубцы теряются в золотом песке.
В ту минуту, когда мы уже почти достигли садовой ограды, высящейся над тропой, мимо нас проследовал богато одетый араб, который приветствовал нас, на что мы ответили поклоном, приблизился к Талебу и обменялся с ним несколькими словами; затем он возобновил свой путь, двигаясь в том самом направлении, откуда мы пришли. Мы же продолжили огибать нескончаемую садовую ограду, в тени которой нам на каждом шагу встречались нищие бедуины – голые, в лохмотьях, привлеченные сюда близостью монастыря, они жили подаяниями монахов, как бедняки на папертях наших церквей живут милостыней верующих.
Наконец, вслед за садовой оградой потянулась монастырская стена: претерпев неслыханные тяготы, мы подошли к гавани, которую самоотверженность христиан сумела сберечь для тех, кто странствует по этому песчаному океану, среди этих гранитных утесов. Это была наша земля обетованная, и я не думаю, что евреи мечтали о своей более горячо, чем мы об этой.
Тем не менее мне хватило одного-единственного взгляда, чтобы убедиться, что нам еще не удалось достичь конца пути. Мы прекрасно видели стену, но тщетно искали в этой стене ворота. Однако, когда мы находились у середины той ее части, что обращена к востоку, Талеб, к нашему великому изумлению, кудах– тающим криком подал верблюдам сигнал остановиться. Они, как обычно, опустились на колени, стремясь расположиться в тени, отбрасываемой высокими монастырскими стенами. Хотя нам не совсем были понятны причины этого привала, мы тоже остановились. В ту же минуту распахнулось окно, защищенное навесом, и в нем появился греческий монах, одетый во все черное, с маленькой круглой шапочкой на голове: он осторожно высунулся наружу, чтобы посмотреть, с какого рода людьми ему приходится иметь дело. И тогда, отделившись от арабов, мы приблизились к окну, находившемуся примерно в тридцати футах над землей, и, обратившись к черноризцу, объяснили ему, что мы французы и прибыли из Каира для того, чтобы посетить монастырь. Он поинтересовался, есть ли у нас рекомендательные письма из монастырского подворья. В ответ мы показали ему те, что вручили нам у колодцев Моисея два монаха, с которыми у нас произошла там встреча. Тотчас же вниз спустилась веревка, служившая монастырским письмоносцем; мы привязали к ней наши письма, и ее тут же втянули обратно. Монах взял их и скрылся вместе с ними.
Мы не знали содержания этих писем, поскольку не могли их прочесть: они были написаны по-новогречески; к тому же нам не было известно, в каком сане находились написавшие их монахи и достаточно ли влиятельны их рекомендации, чтобы открыть нам ворота в святую крепость. Нетрудно догадаться, сколь долгими показались нам те пятнадцать минут, что тянулись в ожидании монаха, унесшего с собой нашу последнюю надежду. Что мы будем делать, если письма не подействуют и нам откажут в гостеприимстве? Возвращаться в Каир, проделав сто льё по пустыне лишь для того, чтобы увидеть монастырские стены, казалось нам, при всей живописности этих стен, весьма унизительной перспективой. Так что мы обменивались довольно тоскливыми взглядами, как вдруг окно открылось, и из него стали по очереди высовываться все новые и новые монахи, чтобы взглянуть на нас. Мы, со своей стороны, тотчас же постарались придать нашим лицам как можно более располагающее выражение. По-видимому, нам удалось внушить монахам полное доверие, ибо, после того как двое святых отцов, казавшихся чрезвычайно значительными фигурами в общине, коротко посовещались между собой, веревка снова опустилась, но на этот раз снабженная крюком. Арабы немедленно разгрузили верблюдов. Веревка предназначалась для наших вещей, которые, хотя о нас самих никто еще не обмолвился ни словом, стали последовательно подниматься наверх и исчезать в зеве, зиявшем посреди стены. Мы попросили Бешару объяснить нам, в чем причина такого странного поведения монахов, и услышали в ответ, что это принятый у них образ действий и что они используют такое средство, опасаясь быть захваченными врасплох, однако сразу же после подъема тюков придет наша очередь. И в самом деле, когда последний сверток был поднят, веревка на минуту исчезла из виду, а затем появилась снова, но уже с привязанной на конце палкой, которая занимала горизонтальное положение и должна была послужить нам сиденьем.
И тут Бешара разъяснил нам то, о чем мы даже не подозревали: в Синайском монастыре не было дверей. Несмотря на все связанные с этим неудобства, монахи сочли необходимым принять такую меру предосторожности, чтобы всегда быть в безопасности в случае внезапных нападений.
Так что мы должны были повторить путь наших вещей; впрочем, этот путь проделывали и сами святые отцы, и, стало быть, нам предстояло воспользоваться им, если только монахи не решили сделать ради нас то, что троянцы сделали ради деревянного коня, но это было маловероятно.
Что же касается нашего конвоя, то он не мог сопровождать нас внутрь монастыря и должен был вернуться к своему племени. Мы простились с Талебом, Бешарой и всем отрядом, предварительно условившись с ними, что через неделю они вернутся, чтобы отвести нас, как было договорено, обратно в Каир. Пока я доводил до сведения проводников эти новые распоряжения, г-н Тейлор добился для Абдаллы и Мухаммеда разрешения войти в монастырь.
Однако то ли из участия, то ли из любопытства арабы не пожелали покидать нас до тех пор, пока наш подъем не завершится. Мейер, будучи морским офицером, проложил нам дорогу. Он сел верхом на палку, словно маляр, раскачивающийся над головами прохожих на улицах Парижа, и, стоило ему дать знак, что можно начинать подъем, величественно взмыл в воздух; как только он оказался на уровне окна, какой-то дюжий монах подтянул его к себе, как это делали с нашими вещами, и переместил в безопасное место. Мы последовали его примеру, хотя, признаться, лично я сделал это с некоторой неохотой, и благополучно прибыли туда же; за нами поднялись Абдалла и Мухаммед.
Как только Талеб увидел, что последний из нас проник в монастырь, он дал сигнал к отъезду, и арабы, попрощавшись с нами жестами и криками, галопом ускакали на своих дромадерах.








