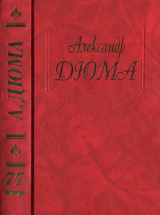
Текст книги "Две недели на Синае. Жиль Блас в Калифорнии"
Автор книги: Александр Дюма
Жанры:
Зарубежная классика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 43 страниц)
Это изменение направления ветра, независимо от того, произошло оно случайно или по волшебству, привело к тому, что на Ниле поднялись волны; несколько судов, нагруженных сверх меры, затонули, а другие были выброшены на берег. В числе последних оказалась и галера Жуанвиля. С того места, где его судно село на мель, Жуанвиль видел, как на другом берегу реки многие корабли уже попали в руки неверных, которые расправлялись с командой, бросая в воду мертвые тела, и тащили на сушу захваченные сундуки и ратные доспехи. Одновременно он заметил, что к нему приближается отряд турок, которые, увидев севшее на мель судно, спешили захватить его; но страх перед ожидавшей их участью придал людям Жуанвиля силы, и ценой неслыханных усилий им удалось столкнуть корабль в воду. Сарацины примчались к берегу как раз в ту минуту, когда французы покинули его; видя, что им не догнать крестоносцев, неверные забросали их дротиками и стрелами, причем в таком количестве, что Жуанвилю, хотя он и был весь изранен, пришлось надеть на себя кольчугу, чтобы защититься от этого губительного града, падавшего на его судно. Выведя галеру на середину Нила, кормчий продолжил плыть к противоположному берегу, при том что Жуанвиль не уловил его замысла; но тут один из людей сенешаля принялся кричать:
– Сир, сир, наш корабельщик, страшась сарацин, которые ему угрожают, хочет высадить нас на берег, где мы все будем зарезаны и убиты!
Жуанвиль тотчас же приказал кормчему держаться течения, но тот не внял этому распоряжению, и тогда славный сенешаль, которому помогли подняться, выхватил меч и пригрозил кормчему, что, если тот хоть на шаг приблизится к суше, он убьет его без всякой жалости. Угроза подействовала, и кормчий стал вести судно посредине реки, на одинаковом удалении от обоих берегов; но вскоре корабли дошли до того места, где Нил перегородила флотилия султана. И тогда кормчий спросил у Жуанвиля, что тот предпочитает: по-прежнему двигаться вперед, причалить к берегу или же бросить якорь посредине реки? Жуанвиль решил бросить якорь, но едва начали выполнять эту команду, как появились четыре галеры султана, на борту которых было более тысячи человек; они двигались бок о бок, намереваясь блокировать французскую флотилию и лишить ее всякой надежды на спасение. Увидев это, Жуанвиль стал держать совет со своими рыцарями: кому им следует сдаваться: тем сарацинам, что на берегу, или же тем, что на кораблях? По общему мнению, сдаваться надо было сарацинам на кораблях, ибо такое решение, по крайней мере, давало шанс, что пленников не разлучат. Среди всей команды нашелся лишь один человек, не желавший сдаваться в плен: это был церковник, требовавший, чтобы все умертвили себя, дабы вместе отправиться к Господу Богу, но никто не согласился с его мнением.
Тогда Жуанвиль взял небольшую шкатулку, где он хранил свои драгоценности и самые священные реликвии, и, чтобы она не попала в руки неверных, швырнул ее в воду. Один из матросов подошел к Жуанвилю и сказал, что они все погибнут, если он не позволит заявить сарацинам, что их пленник – родич короля. Жуанвиль разрешил ему говорить все что заблагорассудится. В эту минуту вплотную к ним подошли галеры сарацин, и одна из них бросила якорь, встав на траверзе корабля христиан. Доблестный рыцарь уже считал себя погибшим и препоручал свою душу Господу, как вдруг какой-то сарацин, вероятно проникшись к Жуанвилю жалостью, добрался вплавь до его галеры и сказал ему:
– Сир, если вы не доверитесь мне, вы погибли. Скорее прыгайте в воду; они вас не заметят, так как будут грабить ваш корабль, а я тем временем спасу вас.
Жуанвиль, не ожидавший подобной помощи, не стал терять ни минуты и, воспользовавшись советом, прыгнул в Нил. Сарацин поддержал сенешаля, так как тот был слаб и один неминуемо утонул бы. Вдвоем они доплыли до берега, но стоило им ступить на землю, как на них набросились душегубы; однако сарацин прикрыл Жуан– виля своим телом и крикнул:
– Родич короля! Родич короля!
Он сказал это вовремя, ибо Жуанвиль уже ощутил у себя на шее холодное лезвие ножа и упал на колени. Однако надежда на щедрый выкуп взяла верх над жаждой крови. Пленника препроводили в замок, где разместились сарацины; видя, как он слаб, они сжалились над ним: с него сняли кольчугу и набросили ему на плечи подбитый беличьим мехом алый плащ, подаренный ему матерью; одновременно кто-то принес ему белый ремень, которым он перепоясался, а кто-то третий дал ему шпяпу, которой он прикрыл голову.
Что же касается короля, то он видел разгром своей флотилии, но, не в силах прийти ей на помощь, продолжал двигаться по берегу, по-прежнему преследуемый сарацинами и по-прежнему столь преданно охраняемый Саржином и Шатильоном, что ни один сарацин не осмеливался приблизиться к ним, ибо оба рыцаря отгоняли неверных ударами мечей, как, по словам Жуанвиля, бдительные слуги отгоняют мух от хозяйского кубка. Но в конце концов, изнемогая от усталости и не в силах более держаться в седле, король был вынужден остановиться в Минье, «в жилище одной горожанки, родом из Парижа», но он был так плох, что приближенные сомневались, переживет ли он этот день.
Стоило королю броситься в постель, как к нему примчался мессир Филипп де Монфор и сообщил ему, что он заметил среди тех, кто их преследовал, эмира Зейн ад-Дина, с которым они вели в Мансуре переговоры о мире. Верный рыцарь пришел спросить у короля, не соблаговолит ли тот разрешить ему предпринять последнюю попытку и добиться от эмира хотя бы короткого перемирия. Король предоставил ему полную свободу действий. Мессир Филипп де Монфор взял небольшой конвой и в его сопровождении выехал из города, направившись к неверным; он встретился с ними в ту минуту, когда они устроили короткий привал и передыхали, чтобы совершить нападение на город, куда на их глазах вошел король. Их оружие лежало рядом с ними, а размотанные тюрбаны были разостланы на песке.
Рыцарь оставил конвой в пятидесяти шагах от сарацин и направился прямо к эмиру, который, видя, что человек приближается один, и догадываясь, что он явился с каким-то поручением, подал знак пропустить его. Мессир Филипп напомнил эмиру условия, предложенные султаном, а именно: сдача Дамьетты в обмен на Иерусалим, что должно гарантироваться особой самого короля, оставленного в качестве заложника. Король Людовик принял эти условия, и мессир Филипп де Монфор пришел спросить у эмира Зейн ад-Дина, по-прежнему ли он расположен принять их. Страх, который король, даже тяжело больной и беспомощный, все еще внушал сарацинам, был так велик, что их предводитель немедленно подтвердил свое согласие. Тогда в знак принятого на себя обязательства сир де Монфор снял свой перстень и отдал его эмиру; но в ту самую минуту, когда эмир надевал его на палец, предатель по имени Марсель, выбежав из города и приблизившись к конвою Монфора, крикнул:
– Сеньоры рыцари, сдавайтесь; это приказывает вам король. Ваше сопротивление грозит ему гибелью.
Не усомнившись в подлинности его слов, рыцари тотчас бросили оружие и доспехи; сарацины же, воспользовавшись благоприятным случаем, сразу же напали на небольшой отряд. После этого эмир вернул перстень Филиппу де Монфору, заявив:
– С пленниками переговоров не ведут.
Этот ответ стал сигналом к новой атаке. Филипп де Монфор примкнул к отряду Гоше де Шатильона. Сарацины во главе с двумя эмирами – Зейн ад-Дином и Джемаль ад-Дином – направились к городу. Услышав шум сражения, король собрал последние силы и, покинув неукрепленный и незащищенный дом, в котором его принимали, отправился во дворец Абу Абд-Аллаха, владетеля Миньи, где, по крайней мере, можно было оказать хоть какое-то сопротивление, а Гоше де Шатильон с остатками арьергарда расположился в конце узкой улицы, которая вела к этой крепости, где нашел укрытие король.
И тут начался последний бой. Все те, кто примкнул к Гоше, были из числа самых доблестных французских рыцарей, а тот, кто ими командовал, был достоин таких воинов. Можно было подумать, что он и его конь выкованы из железа, подобно его доспехам, ибо ни на том, ни на другом, казалось, никак не отразились перенесенные у Мансуры тяготы и тревоги. Увидев приближавшихся сарацин, Гоше выхватил меч и, вновь ринувшись на них, как если бы впервые вступал в бой, закричал:
– К Шатильону, рыцари! К Шатильону, мои славные воины!
Сарацины узнали его и увидели его таким же, каким он предстал их взорам на канале Ашмун. Изумленные подобным отпором, ибо им казалось, что для французов уже не оставалось ни малейшей надежды, неверные отступили к воротам города. Воспользовавшись передышкой, Гоше де Шатильон извлек из своего щита, из своих доспехов и из своего тела арбалетные стрелы, которыми он был весь утыкан, так что, когда сарацины вновь пошли в наступление, они снова застали его во главе рыцарей, облитым кровью, но готовым продолжить бой. Однако теперь это была уже настоящая резня. Сарацины, выведенные из себя столь долгой борьбой, привели пополнение, в десять раз превосходящее силы французов. Все христианские воины обрели там свою смерть. Гоше де Шатильон, не желавший просить пощады, пока он мог держать в руке меч, пал последним, сраженный ударами врага. Какой-то сарацин завладел его мечом и умирающей лощадью.
Затем неверные бросились к дворцу, где укрылся король. Когда Людовик услышал, как они ломают двери, отвага воина взяла в нем верх над смирением мученика: он схватил свой меч и поднялся, но почти тотчас же упал без чувств. Первым вошел в комнату и поднял руку на короля евнух Рашид; следом за ним явился эмир Саиф ад-Дин аль-Канири: Людовик был пленен.
Не испытывая почтения ни к мужеству, ни к слабости, ни к величию этого мученика, они заковали ему ноги в цепи и перенесли его на корабль, стоящий на Ниле; короля окружали его слуги, тоже взятые в плен и закованные, как и он, в цепи. Тотчас же со всех сторон зазвучали горны, барабаны и кимвалы, знаменуя победу и ликование; повсюду разнесся слух, что французский султан захвачен. Убийцы на какое-то время прекратили свой труд, заставивший их рассеяться по равнине, и, сбежавшись к берегам Нила, стали беспорядочной толпой победителей подниматься вверх по его течению, сопровождая корабль, на котором увозили короля и за которым следовала вся флотилия сарацин.
На следующий день короля доставили в Мансуру и, препроводив его в дом Фахр ад-Дина бен Лукмана, отдали под стражу евнуха Сахиба.
Юный султан не мог поверить в столь полную победу; но, едва только у него появилась такая уверенность, которую ему могло дать лишь зрелище плененного короля, он незамедлительно отправил всем своим губернаторам послания, содержавшие эту великую новость. Араб Макризи сохранил для нас письмо Туран-шаха Джамалю ад-Дину бен Ягмуру; отраженное в нем ликование дает представление о страхах, пережитых султаном. Вот оно:
«Да будет возблагодарен Всемогущий, обративший нашу печаль в радость! Ему одному обязаны мы победой. Милости, которыми он удостоил осыпать нас, неисчислимы, и последняя из них – самая бесценная. Объявите жителям Дамаска, а скорее, всем мусульманам, что Аллах помог нам одержать полную победу над христианами в то самое время, когда они замыслили погубить нас. В понедельник, в первый день этого года, мы открыли нашу казну и раздали наши богатства своим верным воинам. Мы вручили им оружие; мы призвали на помощь арабские племена; под нашими знаменами собралось неисчислимое множество солдат. В ночь со вторника на среду наши враги покинули свой лагерь и вместе со своим обозом двинулись к Дамьетте. Несмотря на ночной мрак, мы шли за ними следом. Тридцать тысяч их солдат остались на поле сражения, не считая тех, кто бросился в Нил. Мы истребили и побросали в ту же реку несметное число захваченных нами пленников. Король франков укрылся в Минье и молил нас о милосердии. Мы даровали ему жизнь и оказали ему почести, каких требует его звание».
К этому письму прилагалась в качестве дара шляпа французского короля, упавшая с его головы во время сражения; она была алого цвета, украшена геральдическими золотыми лилиями и подбита беличьим мехом. Губернатор Дамаска надел ее себе на голову, отправляясь читать народу письмо султана, а затем ответил своему повелителю:
«Аллах, несомненно, уготовил Вам завоевание вселенной, и Вы будете идти вперед от победы к победе, ибо, в доказательство этого будущего, Ваши рабы уже надевают себе на голову трофеи, захваченные Вами у королей».
Между тем новость о поражении крестоносцев достигла как врагов, так и друзей. Королева узнала ее в Дамьетте за три дня до своих родов, и горе ее было безмерно; несмотря на предосторожности, принятые храбрым комендантом крепости, который отвечал за ее жизнь перед королем, ей все время казалось, что Дамьетта захвачена и что сарацины врываются в ее покои. И тогда она во сне начинала кричать:
– На помощь! На помощь!
Наконец, понимая, что ее страхи могут пагубно отразиться на ребенке, которого она вынашивала, королева велела, чтобы у ее изголовья неотлучно находился верный восьмидесятилетний рыцарь, не выпускавший ее руки из своих ладоней, и всякий раз, когда бедняжка кричала во сне, будил ее словами:
– Мадам, не бойтесь. Я здесь и охраняю вас.
Наконец, в ночь перед родами ужас королевы был столь велик, что она велела всем удалиться из ее покоев. Затем, оставшись вдвоем со старым рыцарем, она встала с постели и опустилась перед ним на колени, моля его даровать ей милость; рыцарь тотчас же поклялся ей как даме, которую он должен был чтить, и как королеве, которой он был обязан повиноваться, сделать то, о чем она его попросит. И тогда Маргарита Прованская сказала ему:
– Сир рыцарь, заклинаю вас словом, которое вы мне дали, что, если сарацины захватят этот город, вы отрубите мне голову прежде, чем они смогут мною завладеть.
– Я сделаю это весьма охотно, мадам, – ответил рыцарь, – ибо я и без вашей просьбы помышлял поступить так, если случится то, чего вы опасаетесь.
На следующий день королева родила сына, нареченного Жаном и прозванного Тристаном в память о том, что на свет он явился в печали и бедности.
Едва она разрешилась от бремени, как ей сообщили, что пизанские и генуэзские рыцари, чьи корабли стояли в гавани, намерены бежать, покинув Дамьетту. Но покинуть Дамьетту означало покинуть короля. Дамьетта была единственным выкупом, который Людовик мог предложить за свою особу; тем самым Дамьетта оставалась последней надеждой христианского мира. Так что королева попросила пизанских и генуэзских рыцарей прийти к ней и велела спальникам, как ни была она еще слаба, привести их к ней в ее покои. Увидев их, она поднялась на своем ложе и, протянув к ним руки, промолвила:
– Сеньоры, именем Господа заклинаю вас, не покидайте этот город, ибо вам и самим понятно, что если вы поступите так вопреки моим мольбам, то монсеньор король и все те, кто сейчас вместе с ним, погибнут; а если вы не желаете оставаться здесь ради него, ибо он не господин вам и не владыка, то именем Мадонны и младенца Иисуса заклинаю вас, сделайте это ради несчастной женщины и ее несчастного дитяти, которых вы видите перед собой.
Все разом ответили ей, что им невозможно оставаться здесь дольше, поскольку они умирают с голоду. Тогда королева велела принести ей ларец, полный золота, открыла его на глазах у рыцарей и сказала им, что она намеревается купить весь хлеб и все мясо, какие найдутся в городе, так что теперь их станут кормить за счет короля. Благодаря этому обещанию они остались, и выполнение данного ею обязательства обошлось королеве в триста семьдесят тысяч ливров. Правда, Дамьетта стоила куда дороже.
Вечером на горизонте показался большой отряд воинов, направлявшийся к городу. По мере того как они приближались, становились видны доспехи, оружие и знамена христиан. Однако, поскольку было что-то странное и в том, как эти воины продвигались вперед, и в молчании, которое они при этом хранили, комендант велел запереть ворота, а солдатам приказал подняться на крепостные стены. И в самом деле, по смуглым лицам и длинным бородам этих людей Оливье де Терм сразу же понял, что против французов замыслили хитрую уловку. Мусульмане, облачившись в доспехи христиан и идя под святыми знаменами, надеялись захватить город врасплох; но, увидев, что их распознали и хитрость их раскрыта, они даже не попытались довести ее до конца и повернули назад, не вступив в бой. Эта провалившаяся попытка оказала немалую услугу христианам, ибо она показала неверным, что, хотя французы знают о пленении короля, они вовсе не предаются отчаянию и по-прежнему готовы обороняться.
Тем временем Туран-шах начал подумывать о том, чтобы извлечь пользу из своей победы, и ему стало понятно, что, коль скоро в его руки попало достояние Франции, он должен узнать его истинную цену; он рассудил, исходя не из человеколюбия, а из скупости, что те, кого убьют, выкупу уже не подлежат, и отдал приказ убивать впредь лишь бедняков, у которых нет надежды оказаться выкупленными, а рыцарей не трогать. Между тем король узнал, что кое-кто из пленников, торопясь вырваться из рук неверных, уже начал самостоятельно вести с ними переговоры; он тотчас же запретил кому бы то ни было, даже своим братьям, заключать любые соглашения и заявил, что договариваться о пленниках следует ему, а договорившись обо всех, он начнет затем переговоры и о себе; это он привел свою армию в Египет, добавил король, ему и следует вывести ее оттуда. Султан понял, что он должен иметь дело лишь с королем, и, то ли желая добиться его расположения, то ли в самом деле тронутый его отвагой, послал Людовику пятьдесят роскошных платьев, но король от них отказался, заявив, что он властитель королевства, богатством превосходящего Египет, и что ему пристало давать дары, а не получать их. Тогда Туран-шах, узнав, что королева разрешилась от бремени в Дамьетте, отправил туда посольство, которому было поручено поднести богатые подарки матери и подарить золотую колыбель ее сыну. Вначале Маргарита хотела отказаться от этих подношений, но затем она вспомнила о дарах царей-волхвов, неверных, как и султан, и, в память о божественном младенце и его святой матери, приняла подарки.
После этого, начав продвигаться к своей цели, султан велел спросить у Людовика, согласится ли тот вернуть Дамьетту и те города, какими французы владеют в Палестине, и пообещал, что в этом случае король будет освобожден. Однако Людовик ответил, что Дамьетта и в самом деле принадлежит ему, ибо Господу Иисусу Христу было угодно, чтобы он отвоевал ее у неверных, но на другие города в Иудее у него нет никаких прав. Султан направил к королю новых послов. Им было поручено спросить у Людовика, не пожелает ли он отдать в качестве выкупа за себя Дамьетту, а также замки госпитальеров и тамплиеров. Король ответил, что он не может такого сделать, ибо это будет противоречить принятой клятве: кастеляны и коменданты названных крепостей поклялись Богу и Иисусу Христу не отдавать эти замки сарацинам в качестве выкупа за какого-либо человека, будь то даже король. Послы передали этот ответ Туран– шаху.
Тогда к королю явился эмир с отрядом солдат, и на этот раз пленнику принесли не предложения, а угрозы; послы уступили место палачам, которым было поручено объявить королю, что если он откажется от соглашения, то по решению султана его подвергнут пыткам и будут пытать до тех пор, пока боль не заставит его сделать то, чего от него не могли добиться уговорами. Людовик ответил, что он пленник султана, что султан вправе поступать с ним как пожелает и что всякая боль и всякое мучение, какие ниспошлет ему Господь Иисус Христос, будут желанными, коль скоро они исходят от его имени.
И тогда возобновилась резня. Рыцарей поместили в шатрах, а солдат и оруженосцев – в огромном дворе; эти последние, в которых быстро распознали людей неименитых, были набиты вперемешку между земляными стенами, где ничто не защищало пленников от жара солнца и никто не заботился об их пропитании. И все-таки больше всего их погибло не от болезней и голода, а по прихоти султана; каждую ночь несколько сотен христиан выводили на берег реки, где их поджидали палачи; там у них спрашивали, согласны ли они отречься от своей веры; тот, кто становился вероотступником, сохранял себе жизнь, а тех, кто отказывался, убивали и бросали в Нил; затем течение увлекало их тела к Дамьетте, куда они несли страшные вести о том, что происходило с войском.
Между тем советники султана, молодые и сластолюбивые, составлявшие его двор, который он привез с собой из Месопотамии, со страхом наблюдали за этими затянувшимися переговорами и этими убийствами. Все то, что могло продлить присутствие христиан на Востоке, пугало их, ибо они подсознательно чувствовали, что существует глухая вражда между эмирами, воинством мамлюков, основанным отцом султана и сыгравшим главную роль в этой войне, и ничтожным войском, состоящим из приверженцев Туран-шаха и пришедшим уже после сражения, ровно к тому времени, когда можно было принять участие в дележе трофеев, доставшихся от пленников, которых не они захватили, и от мертвых, которых не они убили. Поэтому султану, чтобы упрочить свою власть внутри страны и в самом деле начать свое царствование, крайне важно было избавиться от столь сильного еще врага, пусть даже находящегося в плену. К Людовику отправили новых послов; они явились предложить ему свободу в обмен на выкуп в пятьсот тысяч ливров. Но Людовик ответил, что короля Франции не выкупают за золото, и, если такова воля султана, он даст ему пятьсот тысяч ливров за свое войско, а за себя самого – город Дамьетту. Когда Туран-шаху передали ответ короля, он счел это предложение столь благородным, что, не желая уступать своему пленнику в великодушии, воскликнул:
– Признаться, француз щедр! Он даже не стал торговаться из-за такой огромной суммы и согласен заплатить всю, какую у него потребовали. Передайте же ему, что в качестве выкупа за его жизнь я согласен принять Дамьетту, а в отношении его людей я делаю ему уступку в сто тысяч экю.
Когда соглашение было достигнуто, султан велел посадить короля и его баронов на четыре галеры и доставить их в Дамьетту, спускаясь по течению Нила. По прибытии в Фарискур корабли бросили якорь; в этом месте у Людовика должна была состояться встреча с Туран-шахом. То ли в честь этого события, то ли в ознаменование победы в Минье, на берегу реки был возведен огромный павильон из сосновых досок, обтянутый крашеным полотном. Перед главным зданием находилась прихожая, где явившиеся на аудиенцию к султану эмиры оставляли свои мечи и жезлы; в центре сооружения, разделенного на четыре крыла, находился просторный квадратный двор, а в середине этого двора высилась башня, верхняя площадка которой располагалась выше всех близлежащих речных склонов, так что с ее высоты султан мог обозревать всю окружающую местность и оба войска; кроме того, по решетчатой галерее, обитой изнутри дорогими индийскими тканями, из павильона можно было спуститься прямо к Нилу: проход этот предназначался для юного султана, на тот случай, если он пожелает искупаться в реке.
Христиане подплыли к этому поспешно сооруженному дворцу в четверг накануне праздника Вознесения Господня; сразу же по прибытии король был доставлен на берег и принят султаном. Это был принадлежавший к роду Айюбидов красивый юноша двадцати четырехдвадцати пяти лет, курд по происхождению и последний из потомков Салах ад-Дина, воспитанный, как мы уже говорили, вдали от отца, который, силой захватив трон, опасался, что его самого ожидает та же участь, какую он уготовил своему брату. Юный принц, выросший в изгнании на берегах Евфрата, усвоил там привычку к изнеженности и беззаботности, которую ассирийцы оставили в наследство народам, пришедшим им на смену. Как мы могли судить по его переменчивому отношению к королю, султан не был лишен некоторого душевного благородства, но проявлялось оно редко, непредсказуемо и своей скоротечностью напоминало вспышки молнии. Приехав в Каир, он первым делом потребовал у султанши Шаджар ад-Дурр отчета о сокровищах своего отца и тотчас раздал их своим фаворитам, что было поступком вдвойне недальновидным, ибо тем самым султан не только разорял государство ради обогащения никчемных людей, но и вызывал недовольство у тех, кто спас Египет, сражаясь в Мансуре. Последние же, мамлюки– бахриты, составляли в то время войско из восьмисот конников, находившееся под командованием Бейбарса, который, как уже говорилось, после гибели Фахр ад-Дина был провозглашен эмиром прямо на поле боя. Это воинство, которое сохранилось до наших дней и в течение семи веков своего существования распоряжалось по своему усмотрению многими султанами, сменявшими друг друга в Египте, было основано Наджм ад-Дином, отцом Туран-шаха, когда однажды, во время осады Наблуса, султана вероломно покинули его войска и он получил поддержку со стороны невольников тюркского происхождения, проданных ему сирийскими купцами. В благодарность за отвагу и самоотверженность, которые Наджм ад-Дин не вправе был ожидать от людей, купленных им за деньги, он осыпал их милостями, возвел в самые высокие звания и доверил им охрану только что построенного дворца на острове Рода. Подобных людей следовало опасаться. И потому самые мудрые советники нового султана внушали ему, что с мамлюками нужно держаться осторожно; но он, плохо знавший людей и не имевший никакого жизненного опыта, перенесенный вдруг, словно вихрем, из изгнания на трон и по прибытии в Египет увидевший, как в его присутствии было разгромлено самое доблестное войско христианского мира, смеялся над этими советами, которые ему чаще всего давали в разгар очередного буйного пиршества, и, выхватывая свою саблю и подбрасывая ее лезвием концы свечей, освещавших застолье, вместо всякого ответа говорил: «Так я расправлюсь с рабами-бахритами».
Таков был человек, царствовавший тогда в Египте и распоряжавшийся судьбами короля Людовика и первых принцев и баронов Франции. Тем не менее, будучи рабом своего слова и достойным сыном Пророка, он подтвердил прежние договоренности со своим венценосным пленником, и было условлено, что в ближайшую субботу, то есть через день, король вернется в Дамьетту. По окончании переговоров Туран-шах пригласил Людовика на торжественный обед, который он устраивал в этот самый день для мамлюков, но король, подумав, что его приглашают отнюдь не для того, чтобы оказать ему честь, а чтобы показать его любопытствующим победителям, отказался, несмотря на уговоры Туран-шаха, и вернулся к себе на галеру, неся своим рыцарям радостную весть о том, что все соглашения установлены окончательно, причем на тех самых условиях, какие были согласованы с послами, и уже в ближайшую субботу пленники обретут свободу. Это вызвало бурное ликование среди крестоносцев, которые, так долго видя себя в одном шаге от смерти или вечного заточения, не могли поверить в свое скорое освобождение.
Со своей стороны, Туран-шах никогда прежде не был так горд и счастлив: он стал единовластным повелителем египетского государства – одного из самых древних, самых прекрасных и самых богатых на земле; под его началом находилось доблестное войско, только что разгромившее армию, столкновения с которой страшился любой народ. И наконец, к сокровищам отца, возвращенным ему султаншей, он вскоре добавит четыреста тысяч золотых экю, которые должен выплатить ему король. Все это походило на какое-то волшебство, на какую-то сказку из «Тысячи и одной ночи», достойную занять место среди самых невероятных и самых счастливых арабских сказок.
Но одно дуновение сокрушило всю эту Вавилонскую башню, и, падая, она погребла Туран-шаха под своими обломками.
Во время обеда султан не обратил внимания на приглушенные разговоры мамлюков и на быстрые взгляды, которыми обменивались приглашенные. Когда настало время покидать пиршественную залу, он поднялся, слегка пошатываясь, и попросил Бейбарса принести саблю, оставленную при входе; видя, что эмир не подчиняется, он протянул к нему руку и властным тоном повторил свой приказ. В эту минуту Бейбарс выхватил свою саблю из ножен и, ударив султана по руке, рассек ее между третьим и четвертым пальцами. Раненый султан поднял окровавленную руку и, обернувшись к другим эмирам, крикнул:
– Ко мне! Разве вы не видите, что меня хотят убить?!
Но те в свою очередь выхватили сабли и воскликнули:
– Мы делаем с тобой лишь то, что ты хотел сделать с нами, и пусть лучше умрешь ты, презренный трус, чем мы, храбрые воины!
И тогда Туран-шах понял, что происходящее – это не месть одного человека, а всеобщий мятеж. Он бросился к лестнице, добежал до башни, возвышавшейся посреди внутреннего двора, и запер за собой двери. Бейбарс, опасаясь, что остальное войско может прийти на помощь султану, причем, возможно, не столько из любви к нему, сколько движимое неосознанной ненавистью простых солдат к привилегированным частям армии, выбежал из дворца и, обратившись к сарацинским рыцарям и арабам, объявил им, что Дамьетта взята и что султан, который вскоре отправится в захваченную крепость, приказывает им ехать туда впереди него. Воины-сарацины и солдаты-арабы, не почувствовав никакого обмана, оседлали лошадей и поскакали вперед, стараясь обогнать друг друга. Мамлюки остались одни.
И тогда христиане, напуганные этой стремительной скачкой и поверившие в известие о взятии Дамьетты, увидели необычайное зрелище. Как только войско скрылось из виду, все постройки, окружавшие башню, рухнули, словно по волшебству, открыв взорам грозное воинство мамлюков с оружием в руках. В одном из окон башни был виден султан, размахивавший своей окровавленной рукой и взывавший о пощаде. И тут христиане начали догадываться, что на глазах у них разворачивается один из столь частых на Востоке военных переворотов.
Султан продолжал умолять и взывать о пощаде; Бейбарс, в свою очередь став повелителем, приказал ему спуститься вниз, однако Туран-шах соглашался сделать это лишь на условии, что эмиры пообещают ему жизнь. И тогда, считая бессмысленным брать приступом башню, где могли прятаться преданные султану солдаты, готовые защищать его, мятежники встали огромным полукругом, так что башня оказалась между ними и Нилом, и направили на последнее убежище несчастного султана град горящих стрел. Крестоносцы, находившиеся посередине реки, не упустили ни единой подробности происходящего. Башня, как мы уже говорили, была сделана из дерева и крашеного полотна, и она с ужасающей скоростью вспыхивала всюду, куда попадал греческий огонь; в одно мгновение султан оказался в огненном плену; башня горела одновременно снизу и сверху, языки пламени спускались с кровли и поднимались от основания, грозя соединиться. Туран-шах, к которому угроза подступала с двух сторон, взобрался на подоконник и на мгновение словно застыл там в нерешительности, но затем, поскольку огонь был уже всего лишь в нескольких шагах от него и вот-вот должен был его охватить, он бросился вниз с высоты в двадцать футов и, не причинив себе при падении никакого вреда, помчался к Нилу, не ожидая больше помощи ни от кого, кроме пленников, которым еще накануне грозил вечным заточением или смертью.








