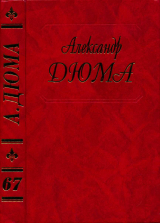
Текст книги "Вилла Пальмьери"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Зарубежная классика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 34 страниц)
Постамент разобрали в 1738 году, а камень, из которого он был сложен, пустили на строительство триумфальной арки в честь Лотарингского дома, возведенной за воротами Сан Галло.
Что же касается колонны, мешавшей уличному движению, то в 1757 году она была закопана во второй раз.
Но через двадцать лет на трон взошел великий герцог Леопольд, имевший серьезные намерения украсить Флоренцию. Он слышал какие-то разговоры о колонне и связанных с нею событиях. Из затребованного им отчета он узнал, что колонна расколота лишь в одном месте; его заверили, что если бывший монолит скрепить железными скобами, то наличие трещины никак не скажется на его крепости; и вот по приказу герцога колонну откопали, и она снова увидела свет.
Но едва архитекторы успели начертать на бумаге проект будущего памятника, как в Европе разразились первые революционные события. А поскольку во время землетрясения не принято воздвигать обелиски, то бедная колонна опять была забыта, причем так основательно, что ее даже не потрудились закопать.
С тех пор она не только потеряла всякую надежду когда-либо подняться, но и лишилась могильного покоя, словно одна из тех неимущих душ, что не могут переправиться через Стикс, ибо у них нет обола, который следует дать Харону.
Взгляните мимоходом на эту колонну, которую после столь бурной жизни постигла столь жалкая смерть; затем, посочувствовав ее горькой участи, войдите в монастырь.
Сан Марко аль Токко, как называют его флорентийцы, открыт для посетителей только до часу дня. В час славные доминиканцы садятся за стол, а прерывать трапезу у них не принято; на мой взгляд, кстати сказать, это совершенно правильно, и никто бы не вздумал пенять им за это, не будь они монахами.
В Сан Марко входят через портик, покрытый надписями и украшенный надгробиями. Вам откроет привратник, выполняющий в монастыре роль чичероне. Пройдя через первую дверь, вы оказываетесь в монастырском дворике: он квадратной формы, и стены его в верхней части сплошь покрыты фресками Поччетти и Пассиньяно, а в нижней – надгробными надписями.
Среди этих надписей находится огромная картина, на которой изображена смерть молодого человека: он лежит на кровати, у его изголовья стоит плачущий мужчина, а в ногах – молодая женщина, рвущая на себе волосы; чуть далее видны два крылатых существа, возносящиеся к небу.
Умирающий молодой человек – это Улиссе Таккинар-ди; плачущий мужчина – Таккинарди-отец, молодая женщина, рвущая на себе волосы, – г-жа Персиани, а два крылатых существа олицетворяют ангела смерти, который возносится к небу, увлекая за собой духа музыки.
Сам по себе замысел, быть может, и неплох, но его воплощение в живописи – омерзительно.
Не говоря уже о том, что надо обладать завидной смелостью, чтобы написать фреску там, где другие стены расписывали Пассиньяно, Поччетти, Беато Анджелики и фра Бартоломео.
Увидев, что в Сан Марко находится могила певца, я вначале несколько удивился и спросил у чичероне, за какие заслуги бедному Улиссе Таккинарди была оказана столь высокая честь. Чичероне ответил, что семья покойного заплатила 25 скудо. Вот и все.
В самом деле, любой католик имеет право упокоиться в монастыре Сан Марко, если заплатит двадцать пять скудо, то есть сущую безделицу. Но более всего меня удивляет, что там могут поместиться все желающие: это, конечно, было бы невозможно, если бы каждый покойник занимал столько места, сколько занял своей картиной синьор Гадзарини.
Монастырь Сан Марко хранит память о двух выдающихся личностях – это Беато Анджелико и Джироламо Савонарола.
Первого из них здесь почитают как святого, на второго смотрят как на мученика.
Есть еще некий Антоний, которого канонизировали в 1465 году, но он здесь никого не интересует, и о нем посетитель услышит лишь краткое упоминание.
У нас в Парижском музее есть одна картина Беато Анджелико, которую неизвестно почему сослали в вечно пустующий зал рисунка и которая изображает коронование Богоматери, один из любимых сюжетов благочестивого художника. Это бесспорный шедевр.
Беато Анджелико – один из столпов идеалистической школы. У него нет ничего земного: все женщины – непорочные девственницы, все дети – ангелы; он не имел возможности писать с натуры, и сцены, которые он изображал, – это грезы, явившиеся ему в экстазе. Вероятно, рисунок от этого несколько проигрывает, зато выигрывает чувство.
Живописи Беато Анджелико нельзя давать оценку, ее надо чувствовать; если человек не упал перед ней на колени, то он, скорее всего, пожмет плечами и отвернется.
Если бы его картины показывали отборочной комиссии, их вряд ли допустили бы на выставку.
Будь я королем, я собрал бы у себя все его произведения, какие мне удалось бы купить, заказал бы для них рамы из золота и увешал бы ими свою дворцовую капеллу.
Дважды папы вызывали Беато Анджелико в Рим; первый папа хотел сделать его кардиналом, второй – святым; он отказался и от кардинальской шапки, и от канонизации, вернулся во Флоренцию, затворился в скромном монастыре Сан Марко и расписал его стены своими творениями.
Повсюду встречаешь эти чудесные фрески: на лестницах, в коридорах, в кельях. Закончив очередную картину, всегда безыскусную и всегда благочестивую, гений в монашеской рясе подбирал свои кисти и приклеивал на стену страничку из Евангелия.
В сущности, ему было все равно, какую стену расписывать: он не искал известности, не ждал похвалы. Бог видел его работу, и этого ему было достаточно.
В одном из плохо освещенных монастырских коридоров есть его «Посещение Богородицей святой Елизаветы», которое можно рассмотреть лишь при свечах.
Напротив какой-то темной лестницы есть восхитительное «Благовещение», которое никогда не видело дневного света.
Во всех монашеских кельях (а в кельи посторонних не пускают) есть его фрески с изображением коронования Богоматери, Голгофы, кающейся Магдалины, мучеников, умирающих на земле, и святых, возносящихся к небесам.
Мне показали фреску «Гробница Христа»: в углу ее есть изображенная по пояс фигура святого, и говорят, будто это автопортрет Беато Анджелико. Но это невозможно, и не надо в такое верить: смиренный монах не стал бы изображать себя с нимбом вокруг головы.
Но самое великолепное из написанного им – это «Обморок Богоматери», фреска, находящаяся в зале капитула: услышав предсмертный вопль распятого Христа, Богоматерь лишается чувств. Мария Магдалина, встав перед ней на коленях, обеими руками поддерживает ее за талию, а святой Иоанн, другой сын Богоматери, подхватывает ее сзади. Эта картина изумительна.
Ни одно лицо еще не запечатлевалось в моей памяти так четко, как лик Богоматери на этой фреске: мы видим, как смирение святой борется с отчаянием матери. Женщина изнемогает в этой борьбе; надежда на будущее не может перевесить ужас настоящего.
Беато Анджелико был прав, отказавшись от канонизации: он в ней не нуждался, ведь человек, создающий такие картины, уже святой.
Но кто бы мог подумать, что в монастыре не запомнят, в какой из келий, расписанных шедеврами Беато Анджелико, обитал он сам?
Затем настало время услышать рассказ о Савонароле: речь шла уже не об искусстве, а о свободе, не о святом, а о мученике.
В монастырском дворике нам встретился статный монах: он прогуливался, погруженный в раздумья, и в своей длинной белой рясе был похож на привидение. Мой чичероне, даже не потрудившись подойти к нему ближе, подозвал его с покоробившей меня фамильярностью. Монах, однако, не обратил ни малейшего внимания на эту бесцеремонность и приблизился к нам.
Этот монах был живописцем, как Беато Анджелико, но, поскольку келья Беато Анджелико так и не была найдена, ему не достались ни палитра, ни кисти великого художника.
Чичероне позвал его, чтобы попросить показать нам келью Савонаролы.
Эта келья находится за поворотом длинного коридора; попасть туда можно через мастерскую монаха-живописца, которая когда-то была часовней.
Келья Савонаролы дает полное представление о характере реформатора, который обитал в ней: это маленькая комната площадью не более двенадцати квадратных футов, ни мебели, ни фресок в ней не сохранилось; там нет ничего, кроме беленых стен, на которые падает свет из узкого и низкого оконца с мелкими стеклами в свинцовых переплетах.
Именно здесь республиканец Савонарола укрывался всякий раз, когда в монастырь приезжал Лоренцо деи Медичи; именно здесь он узнавал о том, что Александр VI в очередной раз отлучил его от Церкви; именно здесь он молился, когда в монастырь ворвалась толпа, чтобы потащить его на эшафот.
После смерти Савонаролы никто не счел себя достойным занять его келью, и она так и осталась пустой.
Из кельи Савонаролы мы спустились в ризницу. Здесь бережно, словно реликвии, хранится несколько вещей, освященных его мученической кончиной.
Вот перечень этих вещей, с каждой из которых свешивается удостоверяющая ее подлинность печать:
1) паллиум, или накидка, преподобного отца Джиро-ламо[35];
2) рубаха, которую он снял с себя, поднявшись на эшафот;
3) власяница преподобного отца Джироламо;
4) еще одна его власяница;
5) кусочек дерева от виселицы, на которой он был повешен.
Все эти вещи хранятся среди предметов религиозного поклонения.
Англичане, полагающие, что все на свете продается и покупается, предлагали за них монахам огромные деньги, но получили отказ.
Ведь это не просто память об одном из братьев-доми-никанцев монастыря Сан Марко, это священное достояние всей Флоренции, доверенное на хранение старой обители пятнадцатого века.
Тут вся история падения Флоренции: через три года после смерти Савонаролы является Карл VIII; через тридцать пять лет после Карла VIII – Козимо I.
Савонарола предсказал и нашествие одного, и возвышение другого; если бы не его безвременная смерть, то, возможно, Карл VIII никогда не стал бы королем Неаполя, а Козимо I никогда не стал бы великим герцогом Флоренции.
VI
САН ЛОРЕНЦО
Если Санта Кроче – это флорентийский Пантеон, то Сан Лоренцо – это флорентийский Сен Дени. С древнейших времен церковь эта находилась под покровительством Медичи, превративших ее в свою семейную усыпальницу.
Вначале покойников из этой семьи хоронили в простых подземных склепах, впоследствии замурованных или затерянных; шестьдесят Медичи покоятся здесь, как и в анналах истории, в полной безвестности: об их существовании мы знаем лишь благодаря их потомкам.
Но по мере того как Медичи набирали силу, а богатство их росло, гробницы стали подниматься из-под земли, на них появились высокопарные эпитафии; в их честь заблистал мрамор, бронза округлилась колоннами, выгнулась крышками саркофагов, выстроилась коленопреклоненными статуями.
Самая ранняя из заметных гробниц принадлежит Джованни деи Медичи и его жене. Она находится посреди Старой ризницы. В середине надгробия установлена мраморная плита. Джованни был вторым гонфалоньером из семьи Медичи (первым в 1378 году стал его отец).
Его сын, Козимо Старый, Отец отечества, стяжавший столько похвал, безжалостный счетовод, который, просчитывая путь к деспотизму, готов был скорее опустошить Флоренцию, нежели потерять ее, похоронен посреди клироса церкви: место его упокоения отмечено простым камнем с выгравированной надписью.
Лоренцо Великолепный, вместе с двумя или тремя другими Медичи, покоится в бронзовом саркофаге возле дверей Старой ризницы; его тело опустили туда временно, пока не будет создана более достойная его гробница. Но он остался там навсегда. Рядом с ним покоится Джулиано, убитый во время заговора Пацци.
Семья Медичи достигает все новых высот, но при этом опускается все ниже. Ее представляют лишь три бастарда: Ипполито, Климент и Алессандро. Но из этих трех бастардов один – кардинал, другой – папа, третий – великий герцог. Теперь, чтобы ознаменовать новую эру их величия, им нужна новая капелла, и создателем ее станет Микеланджело.
Эту работу скульптору поручает Алессандро. Первая воздвигнутая в капелле гробница принадлежит его отцу, Лоренцо Медичи, герцогу Урбинскому, – если предположить, что Лоренцо все же был его отцом; ибо сам Алессандро не знает, чей он сын, не ведает, кто дал ему жизнь – герцог Урбинский, папа Климент VII или погонщик мулов, законный супруг его матери. Заметим мимоходом, что мать Алессандро была мавританкой и он приказал ее убить, так как был очень похож на нее и это сходство выдавало его низкое происхождение. Разумеется, тело этой несчастной не удостоилось погребения в капелле Сан Лоренцо.
На гробнице Лоренцо установлена сидящая мраморная фигура со шлемом на голове, подпирающая подбородок рукой, из-за чего нижная часть лица скрыта и можно видеть только глаза: это грозный «Pensieroso»[36] Микеланджело. По оригинальности и выразительности лицо статуи не имеет себе равных ни в современном, ни в древнем искусстве. Жаль только, что подобный шедевр изображает такое ничтожество, как малодушный герцог Урбинский, вся заслуга которого заключается в том, что он дал Тоскане ее первого коронованного тирана, а Франции – королеву, устроившую Варфоломеевскую ночь (Екатерина была сестрой Алессандро).
У ног «Pensieroso» Микеланджело расположил две лежащие фигуры, исполненные с совершенством, какое было под силу лишь ему одному: это «Вечер» и «Утро»; одна засыпает, другая пробуждается. Скрыта ли в этих статуях какая-то аллегория? По этому поводу возникла большая дискуссия, и теперь, когда она близится к завершению, мы на шаг дальше от истины, чем были перед началом этого обсуждения.
Одно не вызывает споров – гениальность мастера, который вгрызался в мрамор, безжалостно терзал его, пока не заставил принять нужную форму: впору подумать, что тяжелая рука гиганта коснулась этих камней. Наверно, когда Адам и Ева вышли из рук Иеговы, они были похожи на эти две статуи.
Вдобавок, по прихоти Микеланджело (он часто так делал), голова мужчины обработана лишь наполовину и напоминает набросок – но это набросок страшный, из-под которого проступают живые черты, маска более впечатляющая, чем любое, даже самое выразительное лицо.
Другие части скульптур также сделаны, как говорят на профессиональном языке, с нарочитой небрежностью: например, ступни женщины, на которых видны шероховатости, оставленные резцом; однако ступни изумительны по работе и не могут не вызывать восхищения.
Напротив гробницы Лоренцо, по воле Льва X ставшего герцогом Урбинским, находится гробница Джулиано, по воле Франциска I ставшего герцогом Немурским.
Как и грозный «Pensieroso», Джулиано восседает в нише. Но на этот раз великий ваятель ограничился тем, что придал статуе сходство с оригиналом и не вложил в свое творение какого-либо скрытого смысла: перед нами – красивый молодой человек лет двадцати восьми – тридцати, которому несколько удлиненная шея придает особое изящество. У его ног также находятся две лежащие статуи: «День» и «Ночь».
Статуя «День», как и «Вечер», оставлена незавершенной; но наше воображение силится разглядеть лицо, едва намеченное в мраморе; в остальном фигура полностью закончена, и детали ее великолепны; особенно хороша одна из ступней, поражающая жизненностью и правдивостью.
Статуя «Ночь», помещенная напротив «Дня», завершена полностью. Она знаменита и сама по себе, и благодаря посвященному ей четверостишию Строцци, на которое Микеланджело ответил также четверостишием.
Строцци – семья поистине необыкновенная: некогда представители этого славного рода выдержали в цитадели Фьезоле осаду, длившуюся сто пятнадцать лет. Одни из них боролись за республику, другие воспевали свободу; первые умирали, как Брут, вторые жили, как Тиртей.
Джованни Баттиста Строцци пожелал взглянуть на гробницу Джулиано, когда Микеланджело заканчивал статую «Ночь». Красота этого изваяния поразила его, и, когда Микеланджело ненадолго отлучился, он написал на стене четверостишие, а затем в свою очередь ушел. Вот эти стихи:
La Notte che tu vedi in si dolci atti Dormir, fu da un Angelo scolpita In questo sasso e, perche dorme, ha vita;
Destala, se nol credi, e parleratti.
(Ночь, что так сладко пред тобою спит,
То ангелом одушевленный камень.
Он недвижим, но в нем есть жизни пламень,
Лишь разбуди – и он заговорит.)
Микеланджело вернулся, прочел стихи, написанные на стене, и – хотя он и возводил гробницы тиранов, в нем еще жил прежний республиканец – приписал ниже такие стихотворные строки:
Grato m’e ’1 sonno, e piu l’esser di sasso;
Mentre che ’1 danno e la vergogna dura;
Non veder, non sentir, me gran ventura.
Pero non mi destar: deh! parla basso.
(Отрадно спать, отрадней камнем быть!
О, в этот век преступный и постыдный
Не жить, не чувствовать – удел завидный…
Прошу, молчи, не смей меня будить.[37])
Сейчас мы, возможно, сказали бы, что разве только богиня Ночи способна уснуть в такой неудобной позе, какую придал своей статуе Микеланджело; но не в характере Микеланджело было тревожиться о том, насколько удобно или неудобно положение создаваемых им фигур! Его заботило другое: как высечь из мрамора мускулистые торсы, выявляющие строение человеческого тела и доказывающие, что он, словно Прометей, мог создать существо по своему образу и подобию. К выдающимся личностям нельзя подходить с циркулем и угольником; мы должны видеть их так, как они хотят быть увиденными – с земли и с неба, снизу и сверху.
В той же капелле есть еще Мадонна с младенцем Иисусом, которую вполне можно было бы принять за Латону с Аполлоном, Семелу с Вакхом или Алкмену с Гераклом. Как ваятель Микеланджело в полном смысле слова язычник: его «Моисей в веригах» – это Юпитер Олимпийский; его Христос в Сикстинской капелле – это Аполлон Карающий.
Ну и пусть! Главное, что все это гениально, прекрасно, изумительно! Микеланджело – колосс, как и его статуи, а его хулители – пигмеи.
Но вот погибает Алессандро I, убитый своим кузеном Лоренцино; никто не знает, куда девать труп убитого, и в итоге он брошен в могилу герцога Урбинского, предполагаемого отца Алессандро. На трон вступает Козимо I, сын Джованни далле Банде Нере. В его лице Медичи достигают вершины могущества, становясь государями. В капеллах становится тесно, гробницы приходится ставить одну на другую; гробниц на всех не хватает, и приходится класть в одну гробницу по двое покойников. Нужны новые гробницы, нужна еще одна капелла. Правда, во Флоренции нет больше Микеланджело, и теперь некому обтесывать мрамор; вместо этого начнут полировать яшму, ляпис-лазурь и порфир. Гениальность человека заменят богатством материала: раз не хватает величия, надо поразить пышностью.
Это эпоха, когда художники исчезают и появляются государи. Дон Джованни деи Медичи, брат великого герцога Фердинандо, лично создает план новой капеллы. Флорентийцам посчастливилось: сначала у них была архитектура великих зодчих, а теперь будет архитектура великих герцогов – не так красиво, конечно, зато намного богаче. Буржуа такое возмещение вполне устраивает.
И потому в капелле Медичи восхищенные возгласы раздаются гораздо чаще, чем в Новой ризнице: ведь добряк-смотритель предлагает вам не только взглянуть на все эти богатства, но и потрогать их; он называет цену каждого предмета, сообщает, во что обошлось строительство капеллы на сегодняшний день и во что она обойдется в будущем; сколько понадобилось времени и мастеров, чтобы обработать все эти твердые камни; откуда привезли гранит, откуда привезли порфир, откуда – кровавую яшму и откуда – ляпис-лазурь; вы слышите лекцию по практической геологии, вы присутствуете на уроке географии; словом, это чрезвычайно познавательно.
Правда, о двух статуях, находящихся в той же капелле (одну создал Джамболонья, другую – Такка) смотритель едва упоминает. А между тем статуи не лишены достоинств; но ведь это всего лишь бронза.
У Фердинандо возник замысел, вполне сообразный с непомерной гордыней его рода: за условленную сумму, равную, если не ошибаюсь, двум миллионам, заполучить Гроб Господень и поместить его среди родовых усыпальниц. Эту сделку он заключил с эмиром Фахр ад-Дином аль-Мааном, прибывшим во Флоренцию в 1613 году и утверждавшим, что он является потомком Готфрида Буль-онского. О том, почему эта затея не удалась, история умалчивает. Но всякий, кто внимательно прочел жизнеописания синьоров Медичи, согласится, что Христос оказался бы в весьма странном обществе.
Великий герцог продолжает дело своих предшественников: ему понадобится еще двадцать лет и шесть или восемь миллионов, чтобы закончить отделку капеллы; но, будучи человеком со вкусом, он отвел для себя и своей семьи небольшой склеп в Новой ризнице.
Из капеллы Медичи можно пройти в библиотеку Лаурен-циана: там хранятся девять манускриптов, собранных преимущественно Козимо Старым, Отцом отечества, а также Пьеро Подагриком и Лоренцо Великолепным. Наиболее ценные из этих манускриптов – «Пандекты» Юстиниана, захваченные пизанцами у амальфитанцев в 1135 году; во времена республики их показывали только с разрешения Синьории и при свете четырех факелов, а при великих герцогах они лежали в шкафу, ключ от которого хранился у коронного казначея и вынимать их оттуда позволялось лишь под его личную ответственность. Сегодня они находятся в обычной застекленной витрине, защищенной всего лишь простой цепью, и каждый желающий может прочесть эти филигранные письмена, восходящие, по-видимому, к четвертому веку.
Еще здесь имеется список Вергилия, датируемый четвертым или пятым веком; в нем недостает первых страниц, и никто не знает, почему эти страницы были отделены от остальной рукописи, но в один прекрасный день каким-то непостижимым образом они обнаружились в Ватиканской библиотеке.
Здесь находится и знаменитый манускрипт Лонга – тот, что приобрел европейскую известность из-за чернильного пятна, скрывшего отрывок, которому Поль Луи Курье первым дал верное и потому единственно разумное истолкование: к манускрипту приложено письмо ученого-памфлетиста, в котором утверждается, что это чернильное письмо – результат оплошности.
Еще здесь есть рукопись трагедий Альфьери, с бесчисленными поправками, с зачеркнутыми строками и надписями сверху: наглядное доказательство того, что мысль не выливается в форму мгновенно, как бронза, и что совершенство стиля, которое мы принимаем за плод вдохновения, на самом деле достигается кропотливым трудом.
Здесь есть также рукопись «Декамерона» Боккаччо, которую подарил библиотеке один его друг через девять лет после того, как был сожжен оригинал, и которая, как считается, была скопирована прямо с него.
И, наконец, здесь имеется восхитительный портрет Лауры, а в пару к нему – препротивный портрет Петрарки: художнику явно не хватило такта, и он повернул поэта спиной к возлюбленной.
Выйдя из церкви и пересекая площадь, вы встречаете на пути мраморный цоколь с барельефами, представляющими сцены войны; это пьедестал памятника, который Козимо I намеревался поставить своему отцу, Джованни деи Медичи, более известному как Джованни дел-ле Банде Нере. Но дальше пьедестала дело не пошло: почему-то Козимо не увенчал его статуей. Должно быть, не успел: ведь он процарствовал всего-навсего тридцать семь лет.
Разве это не доказывает, что Козимо был не только дурным отцом, но и дурным сыном?
VII
ГАЛЕРЕЯ УФФИЦИ ВО ФЛОРЕНЦИИ
Однажды Козимо I решил собрать под одной крышей различные государственные учреждения. Он призвал Джорджо Вазари, в котором сочетались таланты живописца, скульптора и архитектора (правда, на уровне посредственности), и приказал ему построить галерею, которую мы знаем теперь как знаменитую галерею Уффици.
Возможно, мысль о том, чтобы придать этому зданию его теперешнее назначение возникла у Козимо уже во время строительства; во всяком случае, его внутреннее расположение очень необычно. Здание состоит из двадцати залов, которые тянутся вдоль трех гигантских коридоров.
Один из этих коридоров отдан хронологической истории итальянской живописи. Здесь можно проследить все этапы ее развития, от момента зарождения, представленного творениями Рико да Кандия, Чимабуэ и Джотто, до периода упадка, представленного работами Вазари и его последователей. Все эти картины составляют единое, вполне законченное целое: недаром Вазари так настоятельно просил Козимо I никогда не распылять эту коллекцию.
Мы, разумеется, не будем тратить время на составление очередного каталога знаменитой галереи, ведь то, что выходит из-под нашего пера, задумано как повествование, а не как путеводитель. Поэтому мы уподобимся обычным посетителям – пройдем мимо незадачливых второстепенных живописцев, чьи картины развесили здесь словно для того, чтобы они изведали оскорбительное безразличие публики, и поспешим в зал Трибуны.
Художник, направляющийся во Флоренцию, всю дорогу слышит разговоры о зале Трибуны; едва он выходит из своего жалкого веттурино, как хозяин гостиницы заводит речь о зале Трибуны; чичероне, с которым еще не условились о цене за ежедневные прогулки по городу или о почасовой оплате в полпаоло, уже твердит о зале Трибуны.
Все это приводит к весьма прискорбному результату: сколь бы ни был прекрасен этот знаменитый зал Трибуны, вы не можете оценить его по достоинству, потому что у вас заранее сложилось о нем идеальное представление, по сравнению с которым действительность почти всегда проигрывает. Правда, Трибуну в этом смысле можно сравнить с римским собором святого Петра: чем чаще ее видишь, тем быстрее забывается первое разочарование.
В зале Трибуны выставлены пять античных статуй; все пять, по мнению потомства, вошли в число шедевров, которые Древняя Греция подарила остальному миру; все пять в разное время были отняты людьми новой эпохи у громадной могилы, называемой Римом, где они пролежали почти тысячу лет.
Эти пять статуй: «Точильщик», «Танцующий фавн», «Борцы», «Аполлино» и «Венера Медицейская».
«Точильщик» хорошо знаком парижанам: в саду Тю-ильри стоит превосходная бронзовая копия этой скульптуры. Ученые, которыми вечно владеет неодолимое желание совершать открытия, пожелали узнать, кто этот человек, вращающий колесо, и какая мысль таится в его голове, столь мало занятой тем, что делают его руки. Одни утверждали, будто это слуга, донесший на сыновей Тарк-виния; другие говорили, что это раб, разоблачивший заговор Катилины; наконец, третьи заявляли, что это скиф, готовящийся по приказу Аполлона содрать кожу с Марсия. Каждый отстаивал свою гипотезу, каждый следовал своей теории, каждый придерживался своей системы – в итоге сегодня мы знаем о «Точильщике» не больше, чем было известно в тот день, когда он снова появился на поверхности земли; правда, теперь у нас есть на выбор три мнения.
«Танцующий фавн» – одна из тех редких шалостей, благодаря которым античность порой спускается в наших глазах с пьедестала и являет свою земную, человечную сторону. Это молодой человек лет двадцати пяти-двадцати шести, исполненный веселья и неукротимого жизнелюбия. Он опирается ногой на музыкальный мех, забавный звук которого, по-видимому, должен сопровождать его танец. Когда статую обнаружили, она уже была повреждена, а когда ее выкапывали, то повредили еще раз. Микеланджело восстановил руку и голову статуи, и они безупречно гармонируют со всеми остальными частями тела.
«Борцы» – один из тех бездушных шедевров, какие часто создавали греки. Форма восхитительна, рисунок – само совершенство. Каждый мускул, каждый нерв, каждая жилка на этих напрягшихся телах находятся в точности там, где им положено находиться. Анатомы млеют от удовольствия, разглядывая эту скульптуру.
«Аполлино» – очаровательная статуя, которую мои читатели знают не хуже меня и которая, по всей вероятности, представляет Аполлона в детстве. Юный бог сидит, скрестив ноги, изящно положив руку на голову. Это изображение идеального тела подростка, подобно тому как Аполлон Бельведерский – изображение идеального мужского тела. «Аполлино» нравится мне гораздо больше, чем
Венера Медицейская, хотя, впрочем, он кажется если и не ее мужем, то уж во всяком случае женихом.
Через несколько дней после моего приезда во Флоренцию одна из картин в зале Трибуны сорвалась со стены и сбила бедного «Аполлино» с пьедестала: он упал на пол и раскололся на три части. Узнав об этом, я бросился бегом в галерею Уффици и застал там великого герцога, который тоже бросился бегом из Палаццо Питти по коридору Ко-зимо I, чтобы своими глазами увидеть случившееся и оценить ущерб. Ущерб был велик, и вначале его даже сочли непоправимым; но флорентийцы – искусные реставраторы, и сегодня «Аполлино» вновь стоит на пьедестале, целый и прекрасный, как всегда, и вы не увидите на нем ни единой царапины.
Три недели спустя я прочел в одной французской газете, что «Аполлино» разбился, упав с трибуны; это сообщение немало позабавило флорентийцев, потому что в так называемом зале Трибуны никакой трибуны на самом деле нет. Тем не менее статья была написана одним из наших знаменитейших критиков, который за несколько месяцев до этого посетил Флоренцию. Правда, этот критик страдает близорукостью.
Венеру Медицейскую я оставил на закуску, как выразился бы Брийа-Саварен; ибо Венера Медицейская – одна из скульптур, по поводу которой уже были высказаны все мыслимые похвалы. И теперь, если вы не испытываете перед Венерой Медицейской восторг, граничащий с идолопоклонством, на вас обычно смотрят как на безбожника или, в лучшем случае, как на еретика.
И в самом деле, Томсон сказал о ней:
Венера Медичи, склоняясь томно, собой чарует мир.
Денон утверждал:
«Если бы ее стопа отломилась и была найдена отдельно от тела, то сама по себе могла бы стать памятником искусства. Венера спустилась с неба, доселе ее плавные формы ощущали лишь давление воздуха; впервые ее стопа касается земли и опускается под тяжестью самого гибкого и самого упругого из всех тел».
Но Винкельман перещеголял всех:
«Венера Медицейская похожа на розу, которая неспешно распускается на рассвете. По-видимому, она уже вышла из того возраста, которому свойственны жесткость и терпкость недозрелых плодов. Во всяком случае, на это указывает ее грудьу величиною и полнотой превосходящая грудь отроковицы».
Ай-ай, господин аббат!
Впрочем, у бедной Венеры были и свои хулители: сегодня ведь лишь немногие репутации способны устоять против мании очернительства, присущей нашему славному народу. Даже так называемое Сакро Катино, чудесное блюдо, с которого Христос вкушал пасху, Сакро Катино, якобы выточенное из цельного изумруда, Сакро Катино, ставшее залогом, под который во время осады Генуи евреи ссудили Массена четыре миллиона, – было подвергнуто испытанию: по нему провели алмазом и оказалось, что это простое стекло. С Венерой Медицейской случилось еще хуже.








