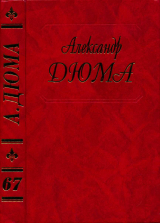
Текст книги "Вилла Пальмьери"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Зарубежная классика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 34 страниц)
В сущности, меня ввел в заблуждение случай, действительно имевший место несколько лет назад. Один из моих друзей побывал в Тоскане зимой 1832 года. Как известно, зима в том году выдалась необычайно дождливая, и это сказалось на Арно. По дороге из Ливорно во Флоренцию у моего друга было множество затруднений с веттурини, и он очень пожалел, что не воспользовался таким удобным средством передвижения, как пароход. Прибыв в гостиницу г-жи Хомберт, он увидел из своего окна, что вода в Арно поднялась почти до набережной, и позвал гостиничного лакея.
– Черт возьми, какая же у вас тут чудесная река, друг мой! Куда она течет? – спросил он его.
– В Пизу, ваша милость.
– А из Пизы?
– В море.
– И она всегда такая полноводная?
– Всегда, ваша милость.
– И зимой, и летом?
– И зимой, и летом.
– Почему же тогда в Пизу не плавают на пароходе?
– Потому что у нас его нет, ваша милость.
– А почему у вас его нет? – спросил мой друг.
– Хм! – ответил флорентиец.
Этот ответ можно было истолковать по-разному, но мой друг истолковал его так:
«Единственная по-настоящему цивилизованная страна – это Франция. А где есть цивилизация, там имеются пароход и железная дорога. В Тоскане пока еще нет ни железной дороги, ни парохода. Это само собой разумеется; но первый предприниматель, который построит железнодорожную линию от Ливорно до Флоренции или откроет пароходное сообщение между Флоренцией и Пизой, составит себе состояние».
«А почему бы мне не стать этим предпринимателем? – спросил он себя. – И я стану им!» – ответил он на этот вопрос, по-прежнему обращаясь к самому себе.
Приняв решение, он на минуту задумался: что все-таки лучше – железная дорога или пароход?
Для железной дороги нужны были значительные отчуждения земель, ведь расстояние от Флоренции до Ливорно составляет около двадцати лье; на это требовалось шестьдесят или семьдесят миллионов, а у моего друга, художника по профессии, при виде Арно вдруг ставшего дельцом (так по вдохновению свыше некоторые кардиналы становятся папами), денег в кармане хватало только на обратный путь до Франции.
А вот на пароход нужен был начальный капитал всего-навсего в миллион или полтора. Но кто же во Франции не достанет полтора миллиона, если предъявит хотя бы видимость какого-либо замысла?
И был выбран пароход.
Мой друг немедленно обратился с прошением к тосканскому правительству, чтобы удостовериться, сможет ли он, будучи иностранцем, осуществить грандиозное предприятие, план которого стоил ему напряженных раздумий и которое в итоге должно принести огромную пользу всей Тоскане.
Проситель, понятно, не сообщил, о каком именно предприятии идет речь, так как боялся, что у него украдут идею.
Правительство ответило, что во владениях великого герцога разрешены все виды предпринимательства, что частные предприятия, чья деятельность может способствовать процветанию общества, всячески поощряются властями, и, следовательно, проситель может без всяких опасений приступать к осуществлению своего предприятия, что бы оно собой ни представляло.
Проситель запрыгал от радости; он заказал место в дилижансе, который отправлялся в Ливорно, сел на первый же пароход и через два дня был во Франции, а еще через три дня – в Париже.
В то время все умы были захвачены идеей предпринимательства, и в Париже имелись постоянно действующие конторы, где рассматривались финансовые проекты: мой друг поспешил в одну из таких контор.
Он попал в общество капиталистов. Момент был выбран удачно: среди собравшихся оказалось пять или шесть миллионеров, не знавших, куда им девать свои миллионы.
Когда мой друг пожелал войти в кабинет, где заседали эти господа, у него спросили, как о нем доложить. Он уже хотел было назвать себя, но вдруг вспомнил, что его знают как художника и, стало быть, его имя может закрыть перед ним все двери. Правда, первый слог его имени уже успел сорваться у него с языка, однако он вовремя спохватился и с величественным видом произнес:
– Скажите, что пришел человек, у которого есть идея.
Слуга доложил о нем в точности этими же словами, и его тут же ввели в Sanctum sanctorum[10] финансового мира.
– Господа, – сказал мой друг, – ваше время бесценно, а потому я буду краток. Я пришел предложить вам наладить пароходное сообщение по Арно.
Наступило молчание; капиталисты переглянулись; затем один из них, выражая общее недоумение, спросил:
– Во-первых, что такое Арно?
Мой друг неприметно улыбнулся и ответил:
– Господа, если бы я сам объяснил вам, что такое Арно, вы могли бы мне не поверить, поскольку я лицо заинтересованное. Поэтому я только спрошу, есть ли у вас географический словарь и карта Италии?
– Нет, – ответил один из господ, – но если есть деньги, то можно получить все чего хочешь. Так что надо лишь взять немного денег и послать за этими книгами в первую попавшуюся книжную лавку.
– Так пошлите, – сказал мой друг, – эти книги нам совершенно необходимы.
Рассыльный, отправленный в книжную лавку, через минуту вернулся со «Словарем Вожьена» и картой Италии Кассини.
– Прочтите сами статью «Арно», – сказал мой друг дельцу, который сидел к нему ближе всех и на которого ему указали как на самого богатого из присутствующих здесь капиталистов.
Капиталист взял словарь, повертел его в руках, а затем передал соседу: он не умел читать.
Его сосед, получивший чуть более обширное образование, а стало быть, чуть менее богатый, открыл словарь и на букве А, на странице 58, в самом низу правого столбца прочел следующее:
«АРНО, на латыни Am us, одна из крупнейших рек Италии, находится в Тоскане; берет начало в Апеннинских горах, протекает через Флоренцию и Пизу, а несколько южнее впадает в море».
Статья не отличалась изяществом языка и стиля, но с точки зрения топографии все было ясно.
– «Арно, на латыни Arnus, одна из крупнейших рек Италии, находится в Тоскане; берет начало в Апеннинских горах, протекает через Флоренцию и Пизу, а несколько южнее впадает в море», – хором повторили капиталисты.
– Ах, вот оно что! – произнес капиталист, не умевший читать.
– Черт побери! – отозвались остальные.
– «Арно, на латыни Arnus, одна из крупнейших рек Италии, находится в Тоскане; берет начало в Апеннинских горах, протекает через Флоренцию и Пизу, а несколько южнее впадает в море», – повторил в свою очередь мой друг, напирая на каждое слово и выделяя каждый слог.
– Мы слышим, слышим, – сказали капиталисты.
– Слышать – это еще не все, господа, – добавил мой друг: от сознания, что ему начинают оказывать доверие, в голосе у него появились твердые нотки.
И он развернул на столе карту Кассини, повторив тот жест, каким Наполеон развернул карту перед Люсьеном, говоря ему: «Выбирай себе любое королевство на земле!» Затем он ткнул пальцем в середину Апеннинского полуострова и произнес:
– Вот Арно, господа.
И все увидели красивую извилистую линию, которая, как и было сказано в словаре, брала начало в Апеннинских горах и впадала в море несколько ниже Пизы.
– Не может быть, – добавил мой друг, – чтобы вы не слышали о Пизе и Флоренции, двух чаще всего посещаемых городах Италии.
– Не в тех ли это краях, где господин Демидов открыл шелковую мануфактуру, а господин Лардерель – фабрику по производству буры? – спросил делец, не умевший читать.
– Именно, господа, именно! – воскликнул мой друг. – Так вот, из Флоренции в Пизу и из Пизы во Флоренцию можно попасть только с помощью извозчичьей коляски или дилижанса. Место в извозчичьей коляске стоит шесть франков, а в дилижансе – девять. Извозчичья коляска преодолевает расстояние между двумя городами за восемь часов, дилижанс – за двенадцать. Мы пустим по Арно два парохода, которые будут ходить вверх и вниз по течению ежедневно. Мы возьмем с каждого пассажира по пять франков вместо шести и преодолеем расстояние между двумя городами за пять часов вместо двенадцати. Извозчики окажутся разорены, дилижансам придет конец, а мы разбогатеем.
– Позвольте, – вмешался делец, который в этом обществе слыл политиком, поскольку он владел одной акцией «Конституционалиста», – позвольте, Тоскана – это страна, где нет ни Политической хартии, ни Гражданского кодекса; это деспотическая страна, где мы ни за что не получим привилегию на предприятие, призванное нести просвещение.
– Вы заблуждаетесь, – возразил мой друг. – В Тоскане есть Гражданский кодекс и есть государь, обожаемый своим народом, а это порой даже лучше, чем Политическая хартия. И там не надо получать никаких привилегий. В Тоскане полная свобода предпринимательства: каждый может приехать туда и основать там любое коммерческое предприятие, какое ему вздумается.
– О-о! – воскликнул акционер «Конституционалиста». – Напрасно стараетесь, молодой человек: вы не заставите нас поверить в такие небылицы.
– Прочтите это, – произнес мой друг и показал собравшимся письмо, которое он получил от тосканского правительства.
Письмо переходило из рук в руки, пока не попало к дельцу, не умевшему читать. Он аккуратно сложил документ и жестом, исполненным учтивости, передал его владельцу.
– Что вы об этом скажете, господа? – спросил мой ДРУГ.
– Мы скажем, что вы, возможно, правы, сударь. Произведите необходимые подсчеты, мы тоже кое-что подсчитаем и будем ждать вас завтра в это же время.
Весь остаток дня и часть ночи мой друг занимался тем, что исписывал бумагу длинными столбцами цифр.
На следующий день, в условленное время, он явился на встречу.
Дельцы сравнили его подсчеты со своими; расхождение между теми и другими составило всего какую-то сотню тысяч франков, что внушило дельцам необычайно высокое мнение о способностях моего друга.
Присутствующие тут же учредили акционерное товарищество с уставным капиталом в 1 600 000 франков. Моего друга назначили управляющим этого товарищества и определили ему жалованье в 12 000 франков в год, а также шестую часть от будущей прибыли.
Было решено, что, поскольку в Тоскане не существует ни патентов, ни привилегий, следует, сохраняя намеченные планы в строжайшей тайне, заказать два парохода в Марселе, а потом в один прекрасный день прибыть в Пизу, как Наполеон прибыл в залив Жуан, то есть совершенно неожиданно, и тут же привести замысел в исполнение.
За полгода были построены два парохода, каждый ценой в пол миллиона франков; таким образом, на устройство пароходной линии оставалось еще шестьсот тысяч франков – вдвое больше необходимого. То есть расходы оказались ниже сметы – случай поистине небывалый.
Выбрать названия для пароходов поручили моему другу: один пароход он назвал «Данте», другой – «Корнель», в честь грядущего братского единения двух народов.
Оба судна пришли в Ливорно из Марселя за тридцать часов – это всего на два часа больше, чем затрачивают сейчас на тот же путь суда государственного флота.
Одним словом, начиналось все как нельзя лучше.
Мой друг заказал место в извозчичьей коляске и отправился во Флоренцию, где он намеревался выполнить некоторые формальности перед тем, как приступить к делу.
Подъезжая к Амброджане, он оказался возле глубокого оврага, по дну которого бежала тоненькая струйка воды.
Снисходительно улыбнувшись, он поинтересовался, что это за ручеек, который так важничает, ничего собой не представляя, и которому понадобилось столь огромное русло для такой тонкой струйки воды.
Кучер был родом из Лукки, поэтому у него не было причин скрывать правду: он ответил, что это Арно.
Мой друг испустил вопль ужаса, велел остановить коляску, спрыгнул на землю и бегом спустился к реке. Кучер, уже получивший плату за проезд, поехал дальше, в Кас-теллино, где за четыре паоло взял на освободившееся место пассажира. Оба они, и кучер, и пассажир, остались весьма довольны сделкой.
Тем временем управляющий акционерного товарищества пароходов «Данте» и «Корнель», добежав до ручейка, измерил с помощью трости его глубину и определил на глаз его ширину.
В самом глубоком месте глубина составляла пятнадцать дюймов, а ширина в самом широком месте – восемнадцать футов.
Он прошагал вверх по течению целое льё и убедился, что кое-где по этой реке смог бы проплыть разве только бумажный кораблик.
Затем он встретил крестьянина, который ловил раков, вытаскивая их из-под камней, и которому вода доходила до щиколоток. Он спросил, часто ли Арно бывает в столь плачевном состоянии.
Крестьянин ответил, что Арно пребывает в таком состоянии девять месяцев в году.
Мог друг счел бесполезным продолжать путь до Флоренции и в глубочайшем унынии вернулся в Ливорно.
Там он честно рассказал своим компаньонам о том, что видел, взял всю вину за случившееся на себя и заявил, что готов ответить за свою ошибку. Он предложил им все свое состояние – сорок тысяч франков – в возмещение убытков и неполученной прибыли.
Компаньоны заявили, что дело это серьезное и надо обсудить его на общем совете.
Общий совет заявил, что пароходы следует продать, а расплатиться за денежные потери товарищества должен мой друг.
К счастью, примерно в это самое время взорвались два парохода – один на Сене, другой на Роне.
Товарищество предложило взамен свои; пароходы были полностью готовы, а потому, приобретя их, судовые компании Сены и Роны смогли бы продолжить обслуживание линий, почти не делая в нем перерыва. Товарищество воспользовалось этим обстоятельством и в итоге получило пятьдесят тысяч франков прибыли.
Благодаря этому обстоятельству мой друг сохранил свои сорок тысяч франков. Он поместил их в банк под пять процентов годовых и обеспечил себе две тысячи ливров ренты; сейчас он спокойно живет на эту ренту в Провансе, остерегается участвовать в деловых операциях и вздрагивает всякий раз, когда с ним заговаривают о реках.
Вот какая история приключилась у моего друга с рекой Арно. По моему мнению, эта история – не говоря уж о том, что я видел собственными глазами, – давала мне право высказать об Арно слова, которые так ужаснули Флоренцию и от которых она так настойчиво просила меня отказаться.
Мне предоставили веские, прямо-таки сокрушительные доказательства того, что я ошибался. Доведу их до сведения читателей.
Помимо всемирного потопа, который пережил патриарх Ной, и еще одного потопа, масштабом поменьше, который был при Огигесе и, по мнению ученых, достиг теперешней Флоренции, история знает три наводнения на Арно: первое случилось в одиннадцатом веке, второе – в конце двенадцатого, третье – в начале четырнадцатого. Во время этих трех наводнений обрушилось пятнадцать домов и три человека погибли. По улицам тогда передвигались на лодках. Мне показали старую гравюру, изображавшую последнее из этих наводнений. Зрелище ужасное: у стен домов в те дни плескалась вода, а по площади Святой Троицы мог свободно проплыть семидесятичетырехпушечный корабль.
За рассказом об этих трех прискорбных событиях последовал рассказ о праздниках на Арно, для проведения которых необходим был высокий уровень воды в реке. Этих праздников было столько, что одно лишь описание их заняло бы целую книгу, поэтому мы упомянем только три из них. Вначале мы видим Арно в роли Ахеронта, затем – Арно в роли Невы и, наконец, Арно в роли Геллеспонта. Арно, словно мольеровский метр Жак, возьмется за любую роль – с добродушием, присущим силе, и любезностью, возникающей от чувства собственного превосходства.
Самый давний из праздников, свидетельствующих о полноводье флорентийской реки, состоялся в 1304 году от Рождества Христова, по случаю прибытия во Флоренцию кардинала Никколо да Прато, легата Святого престола, и был устроен на средства предместья Сан Фриано.
Однажды на стенах домов не в одной только Флоренции, но и во всех остальных городах Тосканы появилось объявление, в котором было сказано, что всякий, кому захочется узнать новости загробного мира, может явиться в майские календы на мост Понте алла Каррайа и там получить самые надежные сведения на этот счет.
Как нетрудно понять, такое предложение возбудило всеобщее любопытство; незадолго до этого стали известны шесть первых песней «Божественной Комедии», и ад был в большой моде.
И в назначенный день все поспешили к Понте алла Каррайа; на самом мосту – в ту пору он был деревянный – и на прилегающих к нему набережных собралась толпа; у всех окон, выходивших на Арно, было полным-полно зрителей, словно в театральных ложах в день бесплатного представления.
На середине реки, по обеим сторонам моста Понте алла Каррайа, с помощью привязанных к кольям барок и лодок были устроены своего рода адские бездны, озаренные зловещими отблесками пламени; внутри этих ям корчились, испускали жалобные вопли и скрежетали зубами человеческие существа в исторических костюмах наших прародителей: они изображали страдания грешных душ в citta dolente[11]. Среди грешников бродило множество чертей и демонов устрашающего вида, которые хлестали этих несчастных кнутами, кололи их вилами и трезубцами, отчего их вопли становились еще громче, а конвульсии – еще сильнее. Словом, зрелище это было ужасное. Но чем ужаснее оно становилось, тем больше зрителей привлекало; и через некоторое время зрителей собралось столько и они так расталкивали друг друга, желая рассмотреть все эти ужасы поближе, что мост не выдержал и внезапно вместе с толпой рухнул на дьяволов и грешников. И в результате, как наивно замечает Джованни Виллани, рассказывающий об этом несчастье, более полутора тысяч человек действительно получили то, что обещало им объявление, – сведения о преисподней, надежней которых не бывает, ведь они отправились туда сами. Весь город оделся в траур и погрузился в глубокую скорбь, почти в каждой семье оплакивали гибель сына, жены, брата или мужа.
Второй праздник был веселее и, к счастью, не повлек за собой никаких тягостных последствий. Он состоялся в 1604 году; зима тогда выдалась настолько холодная, что Арно покрылся толстым слоем льда, как это подобает Дунаю или Волге. Если верить тосканским хроникам, подобное случалось чрезвычайно редко. Увидев свою реку в таком северном обличье, флорентийцы решили воспользоваться этим и прославить ее в новом качестве. Они надумали устроить на речном льду праздник, по размаху и пышности не уступающий тем увеселениям, какие устраивались на аренах античных цирков.
Местом проведения праздника было выбрано пространство между Понте Санта Тринита и Понте алла Каррайя, где Арно, благодаря плотине, построенной в ста шагах ниже второго из этих мостов, и зимой и летом выглядит величественной, полноводной рекой. Арки обоих мостов, завешенные драпировками, должны были служить туалетными для тех, кому предстояло стать активными участниками праздника.
Когда каждый из этих участников расположился в рядах своей маленькой труппы и надел наряд, который ему полагалось носить, все они выстроились в процессию и вышли из-под арки моста, ближайшей к Сан Спирито. Впереди шли шесть барабанщиков, за ними – шесть трубачей в роскошных одеждах: мы уже знаем, какую важную роль играли трубачи во всех празднествах Флорентийской республики; за трубачами шли три десятка молодых людей в комических маскарадных костюмах – им предстояло бежать по ледяной арене босиком; затем показались бегуны в нарядах нимф: они сидели на табуретах, высоко подняв ноги, как это делают подагрики, и передвигались лишь с помощью двух маленьких костылей, опираясь на них руками: от этих бегунов следовало ожидать самых что ни на есть забавных трюков и немыслимых кульбитов; затем на льду появились низкие и длинные сани на медных полозьях, сделанные по образцу античных повозок и приводимые в движение людьми: одни тянули спереди, другие толкали сзади; на санях были установлены скамейки, и на этих скамейках, усевшись верхом, чтобы быть свободнее в движениях, расположились рыцари, вооруженные как для турнира.
После того как процессия обошла вокруг арены, чтобы зрители, заполнившие мосты и набережные, могли вдоволь налюбоваться этим представлением, босые бегуны скрылись в первой арке моста Святой Троицы, той, что была ближе всех к одноименной площади, бегуны-подагрики удалились во вторую арку, а рыцари – в третью. И тут началось потешное состязание. Трудно представить себе более забавное зрелище. Босые бегуны вышли из своей арки и пустились бегом по льду, на котором невозможно было удержаться на ногах, поэтому то и дело кто-нибудь из них падал, вытягивая ноги и увлекая за собой товарища, а тот, падая, задевал еще кого-то, и так далее, пока все они не повалились на лед.
Затем публика увидела еще более смешное состязание подагриков. Мнимые калеки, которым приходилось передвигаться лишь с помощью рук, выделывали самые нелепые и неожиданные телодвижения; через каждые десять шагов они падали с табурета, шлепались на ту часть тела, что пониже спины, и, сохраняя разбег, проезжали иногда по льду футов десять – двенадцать: при этом они были похожи на шары, которые дети, играя, пускают по самой земле.
Последними выступили рыцари: они сразились с сарацинским великаном, закованным в броню и восседавшим на повозке; чтобы он не свалился под тяжестью ударов, его поддерживали сзади четыре человека, твердо стоявшие на ногах благодаря особым башмакам с шипами.
После того, как каждый из рыцарей сломал по двенадцать или пятнадцать копий, все они выстроились в ряд, а затем, разбив строй, начали гоняться друг за другом с копьями, на концах которых были закреплены фаянсовые блюда. Сталкиваясь, блюда со звоном разлетались на куски.
Третий праздник, прославляющий Арно, был самым великолепным из всех. Он состоялся в 1618 году, при Кози-мо И, и замысел его принадлежал знаменитому Адимари. Это было театрализованное представление, посвященное истории Геро и Леандра. Пусть о нем расскажет его программа; нам, как бы мы ни старались, не удастся так достоверно передать дух той эпохи, которая у нас соответствовала первым годам царствования Людовика XIII.
«Геро, прекрасная собою и весьма знатного рода девица, жрица Венеры, сообща с возлюбленным своим, Леандром, пожелала снова показать Италии, что такое постоянство в любви, и для того не только добилась от богини красоты позволения покинуть Елисейские Поля и возвратиться на землю с теми же чувствами, какие и за гробом остались в ее душе, но также получила право превратить на один день царственную реку Арно в древний и славный Геллеспонт. Перед нашими взорами предстают два берега этого пролива, узкой полосою отделяющего Европу от Азии: мы видим, как на скале Сеет вздыхает влюбленная девица, а на другом берегу, в Абидосе, влюбленный юноша бросается в море и плывет, подвергая себя великой опасности, дабы провести хотя бы час со своею возлюбленной. Богиня, восседающая на облаке, видит их нежную любовь и, проникшись состраданием к Леандру, перебрасывает с берега на берег тот знаменитый мост, который дважды повелевал построить Ксеркс, когда он шел завоевывать Грецию. Однако народы Европы, горя желанием сравняться в славе с предками и увидев для того удобный случай, не только преграждают путь влюбленному супругу, но и собирают большое войско, дабы захватить мост; впрочем, азиаты выставляют против них войско столь же многочисленное, ибо они разгневаны тем, что некто сумел соединить земли, разделенные самою природой.
Европейцев ведет за собой нимфа Европа. Дабы воодушевить солдат, она обещает им в награду за их победу того самого быка, в которого превратился Юпитер, когда он захотел перенести ее из Финикии на Крит. Азиатам же покровительствует их древний бог Вакх, каковой, желая пробудить в них отвагу, обещает им за победу громадную бочку своего наилучшего хмельного напитка.
И вот на мостуf построенном Венерой, начинается жестокая битва двух народов. К счастью, в дело вмешивается Купидон. Увидев две готовые к бою армии и опасаясь ужасных последствий их столкновения, он посылает двух амуров, каковые прилетают с противоположных берегов пролива, держа в руках факелы, и устраивают фейерверк, который разъединяет европейцев и азиатов, и тем показывают на примере сих неразлучных преданных и верных супругов, что нам следует помнить и чтить неустрашимых героев, способных преуспеть на поле брани либо в делах любви».
Как мы видим, переводчик Пиндара, очевидно, не желая огорчать флорентийцев, слегка подправил выбранный им сюжет – правда, не исторический, а мифологический: у него любовная связь Геро и Леандра завершается браком. На память приходит наш добряк Дюси, который, увидев, какую бурю возмущения вызвала у публики развязка «Отелло», тут же присочинил к трагедии счастливый конец, предназначенный для чувствительных натур.
Возможно, впрочем, что Адимари поступил так по иной причине: мнимый Геллеспонт был недостаточно глубок, чтобы утопить в нем Леандра.[12]
IV
В ДОМАХ ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ Дом Альфьери
Если вы сойдете с моста Святой Троицы и направитесь по набережной в сторону Палаццо Корсини, то между Казино деи Нобили и домом, который занимает граф де Сен-Лё, бывший король Голландии, увидите дом под № 4177: в этом доме умер Альфьери.
Квартира пьемонтского поэта находится на третьем этаже. Когда я приехал во Флоренцию, эта квартира была свободна, и я посетил ее с двоякой целью – во-первых, чтобы отдать дань памяти итальянского Софокла, как высокопарно именуют его во Флоренции, а во-вторых, чтобы снять это помещение, если я сочту его подходящим. К несчастью, второе мое желание оказалось невыполнимым из-за состояния квартиры: сколь ни почетно было бы для меня ночевать в спальне автора «Полиника» и «Заговора Пацци» и работать в его кабинете, мне пришлось отказаться от этой чести.
Как рассказывает сам Альфьери в своих «Мемуарах», он поселился в этом доме, где ему суждено было умереть, в 1793 году:
«В конце того же года мы нашли очень красивый, хотя и небольшой дом на набережной близ моста Святой Троицы, выходящий окнами на юг, – дом Джанфильяцци, в который мы переехали в ноябре, в котором я живу по сей день и в котором, возможно, умру, если судьба не забросит меня куда-либо еще. Воздух, вид из окон и удобство этого дома вернули мне лучшую часть моих умственных и творческих способностей, за исключением способности сочинять трамелогедии, до которых я уже не смог возвыситься».[13]
Альфьери жил в этом доме с женщиной, память о которой во Флоренции жива до сих пор, хотя сама она и умерла более десяти лет назад: это была графиня Олбани, вдова Карла Эдуарда, последнего из династии английских государей, лишившейся трона. Поэт познакомился с ней во время своего предыдущего пребывания в столице Тосканы; ему было тогда двадцать восемь лет; вот как он сам рассказывает о начале этой любви, закончившейся лишь вместе с его жизнью:
«Летом 1777года, которое, как уже было сказано, я безвыездно провел во Флоренции, мне часто доводилось встречать одну красивую и очень милую даму, хотя я и не искал встречи с ней. Трудно было, увидев эту знатную иностранку, не обратить на нее внимание, но еще труднее было, увидев ее и обратив на нее внимание, не поддаться ее неизъяснимому очарованию. Она принимала у себя большую часть тосканской аристократии и всех сколько-нибудь родовитых иностранцев, но, погруженный в занятия и в причудливую меланхолию, которая настраивала меня на одиночество, я упорно избегал общества именно тех женщин, которые казались мне наиболее милыми и красивыми, и потому во время моего первого путешествия во Флоренцию не захотел посетить ее дом. Но я часто встречал ее в театре и на прогулках; от этих мимолетных встреч у меня и в зрительной памяти, и в сердце осталось удивительно приятное впечатление. Ее черные, как ночь, глаза, светящиеся тихим пламенем, в редком сочетании с белоснежной кожей и белокурыми волосами, придавали ее красоте блеск, который не мог не поражать и которому трудно было не покориться. Ей было двадцать пять лет, она живо интересовалась литературой и изящными искусствами и обладала ангельским характером; однако при всем ее высоком положении тяжелые и неприятные обстоятельства не позволяли ей быть счастливой и довольной в той мере, в какой она этого заслуживала! Я ощущал гибельный соблазн и страшился его.
Но осенью, уступив уговорам друга, который давно хотел представить меня этой женщине, и посчитав себя уже достаточно сильным, чтобы пойти навстречу опасности, я решился на это и сам не заметил, как попал в ловушку. И все же в моей душе шла борьба, я не мог сразу сказать «да» охватившей меня новой страсти, поэтому в декабре я сел в почтовую карету и помчался в Рим; это было бессмысленное и утомительное путешествие, не принесшее никаких плодов, кроме одного-единственного сонета, который я написал ночью в Баккано, в скверной гостинице, где не мог сомкнуть глаз. Я не знал, что мне делать: ехать дальше, остаться на месте или вернуться назад; так я провел двенадцать дней, несколько раз проезжал через Сиену и увиделся там с моим старым другом Гори, но он не помог мне сбросить эти новые цепи, сковавшие меня уже больше чем наполовину, так что по возвращении во Флоренцию я вскоре оказался в оковах целиком и навсегда. На мое счастье, начало этой четвертой и последней горячки моего сердца сопровождалось совсем иными симптомами, чем наступление трех предыдущих: тогда у меня не возникало умственной привязанности, которая, соединяясь с привязанностью сердечной и уравновешивая ее, образовала, говоря поэтическим языком, некое смешанное чувство, невыразимое и неопределимое, в нем было меньше пыла и неистовства, но зато оно было глубже, острее и долговечнее. Эта страсть постепенно подчинила себе все мои склонности, все мои помыслы, и она может угаснуть только вместе с моей жизнью. После двух месяцев знакомства я понял, что нашел подругу, которую искал всегда, ибо, никоим образом не видя в ней препятствие на пути к литературной славе, как это было бы с женщиной заурядной, любовь к которой отвлекала бы меня от полезных занятий и привела бы, так сказать, к измельчанию моих мыслей, я обретал теперь вдохновение, побуждение ко всему доброму и его образец. Распознав и оценив столь редкое сокровище, я безоглядно предался этой любви. И, разумеется, не ошибся, ибо сейчас, спустя десять лет, когда я пишу эти по-детски восторженные строки, когда для меня, увы, настала горькая пора разочарований, я люблю эту женщину все сильнее по мере того, как время уничтожает то, что не составляет ее суть, – ее преходящую телесную красоту, которой предстоит рано или поздно исчезнуть. День за днем ее близость возвышает, смягчает, облагораживает мое сердце; и я смею предполагать, смею верить, что с ней происходит то же, что и со мной, и ее сердце, соприкасаясь с моим, черпает в нем силу».[14]
В этом доме, столь благотворно, по мнению Альфьери, влиявшем на его здоровье и талант, поэт прожил десять лет, то есть, когда он въехал сюда, ему было сорок пять. В эти годы, прочитав в подстрочных переводах Гомера и греческих трагиков, он вновь стал изучать язык Демосфена, написал вторую «Альцесту», закончил «Мизогалло», создал свое последнее поэтическое произведение – «Телеуто-дию», вознамерился сочинить сразу шесть комедий, учредил орден Гомера и сам удостоил себя этой награды. Наконец, ощутив усталость и истощение творческих сил, он отказался от всяких новых замыслов и, по его собственным словам, отныне способный скорее разрушать, нежели созидать, добровольно вышел из четвертого периода своей жизни и в пятьдесят пять лет признал себя стариком, после того как в течение двадцати восьми лет сочинял, сверял, переводил и непрерывно учился.








