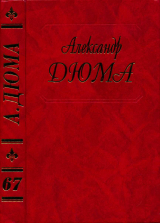
Текст книги "Вилла Пальмьери"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Зарубежная классика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 34 страниц)
Записки Альфьери обрываются 4 мая 1803 года. К этому времени здоровье его было совершенно подорвано. Как это было у Шиллера, душа Альфьери до срока износила его тело. Со сменой времен года у него начинались приступы подагры, он стал страдать от них еще в апреле, и на этот раз больше, чем всегда, потому, очевидно, что сил у него осталось меньше прежнего. За последний год ему стало все труднее переваривать пищу, и он решил, что его состояние улучшится, если он уменьшит свой и без того скудный рацион, а с другой стороны, вынужденная праздность желудка поспособствует просветлению ума. Результат такой диеты (именно она, по всей вероятности, довела Байрона до безвременной кончины) не замедлил сказаться: Альфьери, и так предельно истощенный, стал худеть день ото дня. Графиня Олбани попыталась употребить все свое влияние, чтобы убедить больного отказаться от гибельной диеты; но впервые ее мольбы не возымели действия. Тем временем Альфьери, словно чувствуя приближение смерти, без устали работал над своими комедиями; в минуты, когда поэт не сочинял или не декламировал стихи, он принимался перечитывать и править написанное, чтобы дать ненасытному уму пищу, в которой отказывал телу. Он все больше худел и постоянно уменьшал количество съедаемого. И вот наступило 3 октября 1803 года.
В тот день, проснувшись, Альфьери был бодрее, чем накануне, и чувствовал себя лучше, чем обычно. Около одиннадцати часов, после обычных утренних занятий, он сел в наемную карету и отправился на прогулку в Каши-ны. Но едва добравшись до Понте алла Каррайа, он вдруг ощутил страшный озноб и, чтобы согреться, решил выйти из кареты и немного пройтись по набережной Арно. Не прошел он и десяти шагов, как у него начались страшные боли в животе. Он тут же вернулся домой, и сразу по возвращении его стало лихорадить; это продолжалось несколько часов и прошло только к вечеру, однако всю ночь его мучили позывы на рвоту, которые не заканчивались ничем.
Тем не менее к полудню следующего дня боли прекратились, Альфьери оделся и в два часа спустился в столовую обедать. Но на этот раз он не смог взять в рот и кусочка еды; почти всю вторую половину дня и часть вечера он провел в дремоте, а ночью почувствовал необычайное возбуждение и проспал всего час-другой.
Утром 5 октября он самостоятельно побрился, оделся почти без помощи камердинера и решил выйти подышать воздухом. Он уже стоял на пороге, как вдруг начался дождь, грозивший перейти в ливень. От прогулки пришлось отказаться: Альфьери поднялся наверх, в кабинет, и попытался работать, но безуспешно. После этого он весь день пребывал в сильнейшем раздражении. Такое с ним случалось часто, и при других обстоятельствах домашние не усмотрели бы тут повод для беспокойства, но на этот раз графиня Олбани чрезвычайно встревожилась. Правда, вечером раздражение немного улеглось, он с удовольствием выпил чашку шоколада и вскоре лег, но через три часа у него опять начались боли в животе, сильнее и мучительнее прежних. Доктор, за которым послали впервые, назначил горчичники к ступням. После долгих препирательств больной согласился на эту процедуру; но едва горчичники начали действовать, как Альфьери, опасаясь, что на ногах у него откроются раны, которые помешают ему ходить, тайком снял их и затолкал в угол кровати. И все же, как ни мало длилось их действие, они оказали на больного благотворное действие; к вечеру следующего дня он почувствовал себя лучше и, несмотря на все уговоры и увещевания, встал, уверяя, что ему невыносимо лежать в постели.
Утром 8 октября у Альфьери появились настолько тревожные симптомы, что его постоянный врач призвал на консультацию одного из своих собратьев. Тот одобрил прописанный коллегой курс лечения, побранил больного за преждевременно снятые горчичники (он догадался об этом по слишком слабым следам от процедуры) и назначил нарывной пластырь к ногам. Но этому лечению Альфьери воспротивился еще сильнее, чем горчичникам. Он заявил, что ничто на свете не заставит его прибегнуть к пластырю, и попросил врачей заниматься лишь одним – успокоить ему боли в животе; и тогда врачи приготовили ему микстуру с большой дозой опия.
Вначале микстура помогла; но поскольку больной упорно не желал ложиться в постель и оставался на кушетке возле графини Олбани, которая сама выполняла роль сиделки, временное облегчение, вызванное сильным наркотиком, постепенно сменилось галлюцинациями; бледное лицо Альфьери налилось кровью, приоткрытые глаза смотрели пристальным, лихорадочно возбужденным взглядом, голос стал резким и пронзительным; у больного начался бред – ему представлялись давно забытые события детства и юности, причем так живо и отчетливо, словно все это случилось только вчера. Более того, сотни стихов Гесиода, прочитанных им когда-то лишь однажды, непостижимым образом всплыли в его памяти, да еще с такой ясностью, что он декламировал их целыми строфами, сам не зная как. Это состояние возбуждения продлилось до шести часов утра.
И только тогда графиня Олбани, уступая его мольбам, согласилась немного отдохнуть. Едва она вышла из комнаты, как Альфьери воспользовался ее отсутствием, чтобы выпить лекарство, которое врачи, несмотря на все его просьбы, не разрешили ему принимать: смесь оливкового масла с жженой магнезией. В то же мгновение он почувствовал себя хуже – это были уже не боли в животе, а оцепенение и холод во всем теле, нечто похожее на паралич. Некоторое время больной сопротивлялся этому первому натиску смерти: он ходил по комнате, говорил сам с собой, надеясь что дух одолеет материю. Наконец, ощутив нарастающую слабость, он позвонил, и вошедший слуга увидел, как он, совершенно обессиленный, сидит в кресле рядом со шнуром звонка. Слуга тотчас позвал графиню Олбани, а сам побежал за доктором.
Графиня Олбани вбежала в спальню и увидела, что Альфьери едва дышит: он задыхался. Она попросила, чтобы он попытался лечь; он тут же встал, пошатываясь и протягивая к ней руку, сделал несколько шагов и со стоном упал на кровать. Вскоре зрение его затуманилось, глаза закрылись. Графиня, стоявшая на коленях перед кроватью и державшая его руку в своих ладонях, почувствовала слабое пожатие, а затем услышала тихий, долгий вздох. Это был последний вздох поэта: Альфьери скончался.
Когда французские войска входили в Тоскану, Альфьери, вообще склонный к преувеличениям, решил ожидать их так, как некогда римские сенаторы, сидя в курульных креслах, ожидали завоевателей-галлов: он не сомневался, что за свою отвагу ему придется заплатить жизнью. Тогда он сочинил две эпитафии – для себя и для графини Олбани. Вот эти эпитафии.
ЭПИТАФИЯ АЛЬФЬЕРИ
Здесь обрел покой Витторио Альфьери из Асти,
Пламенный поклонник муз,
Раб одной лишь правды,
А потому ненавистник деспотов,
Которые приказывают, и трусов, которые повинуются, Неизвестный Толпе,
Ибо никогда не занимал Никаких должностей,
Любимый немногими, но лучшими из всех,
Не презираемый Никем, разве только Самим собой.
Прожил… лет…. месяцев… дней И умер… дня… месяца В год M.D.CCC… от Рождества Христова.
Здесь покоится Алоизия фон Штольберг,
Графиня Олбани,
Блиставшая
Знатностью, красотой и душевной чистотой В продолжение… лет своей жизни. Любимая больше всего на свете Альфьери,
С которым
Она похоронена в одной могиле[15], Неизменно почитаемая им Как некое смертное божество. Прожила… лет… месяцев… дней. Родилась в горах Эно,
Умерла… дня… месяца В год M.D.CCC… 0/я Рождества Христова.
Дома Бенвенуто Челлини
Мы написали во множественном числе – «дома», потому что во Флоренции есть два дома, хранящие память о великом чеканщике: дом, где он появился на свет – неожиданно для родителей, которые готовились к рождению дочери и в своей великой радости назвали сына Бенвенуто, и дом, полученный им в дар от герцога Козимо, тот самый, где происходила знаменитая отливка «Персея».
Первый стоит на Виа Кьяра дель Пополо ди Сан Лоренцо.
Второй – на Виа делла Пергола. Путешественнику легко узнать эти два дома по надписям на мраморных досках.
В первом доме прошли его юные годы: это там он сжал в кулаке скорпиона, который каким-то чудом не ужалил его; там его отец увидел в огне саламандру, показал ее сыну и, дабы мальчик запомнил эту диковинку, дал ему такую сильную оплеуху, что Бенвенуто, даже узнав, что это не наказание, а средство против забывчивости, не мог утешиться, и, чтобы унять его слезы, отец не только расцеловал его в обе щеки, но и приложил к глазам сына по серебряной монетке. В этом доме он провел юность, и там его порой осыпал ласками гонфалоньер Содерини, которого впоследствии едва не ослепил Микеланджело и глупость которого Макиавелли увековечил в эпитафии; там он жил, обучаясь ювелирному делу у отца кавалера Бан-динелли, а затем в мастерской Марконе, пока однажды не ввязался в ссору, которая случилась между воротами Порта аль Прато и воротами Порта а Пинти: подобрав шпагу брата, которого поверг на землю удар камнем, он принялся так лихо ею орудовать, что Совет Восьми предложил ему провести полгода вдали от Флоренции. Вот тогда и началась для Бенвенуто жизнь, полная приключений.
Он покидает отчий дом, куда будет возвращаться лишь на краткое время, после долгих отлучек; работает в Сиене под началом Франческо Касторо; потом в Болонье, у мастера Эрколе дель Пифферо, и в Пизе, у мастера Уливьери делла Кьостра; отказывается ехать в Англию вместе с Тор-риджани, потому что Торриджани ударом кулака сломал нос Микеланджело; поступает в мастерскую Франческо Салимбене, где изготавливает красивую пряжку к мужскому поясу; уезжает в Рим вместе с резчиком Тассо; в мастерской ломбардца Фиренцуолы изготавливает великолепную солонку; затем возвращается во Флоренцию, где его приговаривают к штрафу за участие в еще одной потасовке; уезжает из Флоренции, переодевшись монахом, и опять направляется в Рим, где поступает в мастерскую Лу-каньоло да Иези. Там он делает подсвечники для епископа Саламанки и оправляет в золото алмазную лилию по заказу Киджи; учится играть на трубе и становится музыкантом при папском дворе; выполняет заказы Климента VII и нескольких кардиналов; чеканит медаль с Ледой для римского гонфалоньера Габриеле Чезарини; делает две вазы для Джакопо Беренгарио; становится пушкарем в замке Святого Ангела; воображает, будто это он убил выстрелом из аркебузы коннетабля Бурбона; переплавляет золотые оправы папских драгоценностей; одной рукой разводит огонь в плавильной печи, а другой стреляет из Фальконетов; одним из выстрелов смертельно ранит принца Оранского; возвращается во Флоренцию капитаном; едет в Мантую и работает там у мастера Никколо, миланца; изготавливает реликварий для герцога Мантуи и печать для его брата-кардинала; заболев лихорадкой, едет во Флоренцию и узнает там о смерти отца; Климент VII, который выкупил свою свободу, продав восемь кардинальских шапок, призывает его в Рим; там он чеканит для папы две монеты – одну с изображением Христа и надписью «Ессе Homo»[16], другую с изображением апостола Петра на море; когда его брат, раненный в уличной драке, умирает у него на руках, он заказывает для брата латинскую эпитафию, наносит смертельный удар его убийце и от преследования спасается у герцога Алессандро, чей дом стоял между Пьяцца Навона и Ротондой; папа сердится на него, но вскоре сменяет гнев на милость и назначает его своим булавоносцем; влюбляется в сицилианку Анджели-ку; участвует в магическом обряде; бросает в лицо серу Бенедетто ком грязи, в котором случайно оказывается камень, и Бенедетто падает наземь без чувств; думая, что Бенедетто умер, бежит в Неаполь, встречает благосклонный прием у вице-короля, узнаёт, что Бенедетто жив, и возвращается в Рим, к кардиналу Ипполито Медичи; приносит папе медаль с символическим изображением Мира и получает заказ на еще одну, с изображением Моисея; двумя ударами кинжала убивает золотых дел мастера Помпео, но благодаря заступничеству кардиналов Корна-ро и Медичи получает от папы Павла III охранный лист; сумев защититься от убийцы, которого нанял Пьерлуиджи Фарнезе, бежит во Флоренцию; отправляется вместе с Триболо в Венецию, и по пути, в Ферраре, у него происходит стычка с флорентийскими изгнанниками; навещает Сансовино; возвращается во Флоренцию, чеканит монеты для герцога Алессандро, ссорится с Оттавиано деи Медичи; уезжает в Рим, пообещав герцогу Алессандро отчеканить для него медаль, и получает от папы прощение за убийство Помпео; внезапно его сваливает тяжелая болезнь, от которой его лечит Франческо Фускони: он так плох, что разносится слух о его смерти, но он выздоравливает, выпив много воды; возвращается во Флоренцию, ссорится с герцогом Алессандро из-за Вазари; снова едет в Рим, где Латино Манетти удается очернить его перед папой; снова покидает Рим, решив отправиться во Францию; проезжая через Падую, делает медаль для Бембо; проезжает через Граубюнден, добирается до Парижа, где его принимает Франциск I, вместе с королевским двором отправляется в Лион и там заболевает; возвращается в Италию, встречает радушный прием у герцога Феррарского, прибывает в Рим; г-н де Монлюк, действуя от имени короля Франции, требует его у папы: перуджинец Джиро-ламо обвиняет его в присвоении части тех драгоценных камней, какие в свое время Климент VII поручил ему вынуть из оправ, и его заключают в замок Святого Ангела, откуда он пытается бежать, спустившись на связанных простынях, но падает с высоты бастиона и ломает ногу, его относят к сенатору Корнаро, который велит ухаживать за ним, однако папа требует выдать Челлини, и его переносят в одно из помещений Ватикана, а оттуда, среди ночи – в Торре ди Нона; он думает, что приговорен к смерти, читает Библию, пытается покончить с собой, но его удерживает невидимая рука, ему является видение, он сочиняет мадригал и рисует на стене; благодаря заступничеству кардинала д'Эсте его освобождают из тюрьмы; он уезжает во Францию; в Монте Рози отбивает нападение врагов, поджидавших его в засаде, и едет дальше, целый и невредимый; в Витербо навещает своих кузин-монахинь; в Сиене затевает ссору с почтовым смотрителем и убивает его; ненадолго останавливается во Флоренции, в доме на улице Кьяра дель Пополо, где он родился и где умер его отец; проезжая через Феррару, делает медаль для герцога Эрколе; преодолев перевал Мон-Сени, приезжает в Лион, добирается до Парижа, вместе с двором перебирается в Фонтенбло, с негодованием отвергает предложенное ему годовое жалованье в 500 экю и в бешенстве решает бежать, задумывает паломничество в Иерусалим, но через десять льё его ловят, доставляют обратно и определяют ему жалование в 700 экю; получает от Франциска I заказ на двенадцать серебряных статуй высотой в три локтя каждая; открывает мастерскую, где его посещает король; изготавливает модель в полную величину для статуи Юпитера; получает от короля вид на жительство и разрешение поселиться в замке Нель; безуспешно пытается получить серебро, потребное для изготовления статуи Юноны; король вновь посещает его мастерскую и заказывает ему различные работы для дворца в Фонтенбло; он показывает королю две модели дверей и модель фонтана, но навлекает на себя гнев г-жи д'Этамп из-за того, что прежде не показал их ей; против него выдвигают обвинение в содомии; он узнаёт, что работу над фонтаном перехватил у него При-матиччо и что г-жа д’Этамп предложила королю повесить его; ему удается оправдаться перед королем и запугать Приматиччо настолько, что тот отказывается от изготовления фонтана; король в третий раз посещает его мастерскую, приходит в восторг от Юпитера и приказывает выдать ему семь тысяч золотых экю, из которых он получает только тысячу, остальное уходит на военные нужды; король спрашивает его совета, как лучше укрепить Париж; из-за войны он лишается поддержки и не может больше продолжать начатые работы; благодаря заступничеству кардинала д'Эсте ему разрешают вернуться в Италию; приехав во Флоренцию, он видит, что его сестра впала в нищету; получает аудиенцию у великого герцога Козимо, который заказывает ему Персея; отыскивает подходящий дом, где можно выполнить эту работу, просит герцога подарить ему этот дом, и герцог соглашается. Это и есть дом на Виа делла Пергола.
«La casa eposta in via Lauro, in sul canto delle quattro case, et conflna collorto de'Nocenti, et e oggi di Luigi Rucellai di Roma. Lassunto in Fiorenze n'ha Lionardo Ginori. In prima era di Girolamo Salvadori. Io priego V.E. che sia contenta di mettermi in opera.
II divoto servitore di V. Eccelenzia
BENVENUTO CELLINI».[17]
Под этими строками имеется собственноручная приписка герцога:
«Veggasi qa chi sta a venderla, e ilprezzo che ne doman-dano; perchevogliamo compiacerne Benvenuto»[18].
He будем упоминать о множестве других приключений Бенвенуто, о выдинутых против него обвинениях, о его бегстве и о путешествии в Венецию, о его раздорах с Бан-динелли, а лучше перейдем сразу к отливке скульптуры Персея, главному событию этого периода его жизни, о котором он расскажет сам.
Все беды и злосчастья, какие есть на свете, свалились на Бенвенуто, и создание статуи, против которой так упорно выступали его соперники, оказалось под угрозой. В его доме вспыхнул пожар, и крыша мастерской едва не обрушилась. На улице разыгралась буря, начался ливень и подул такой неистовый ветер, что поддерживать огонь в плавильной печи стоило неимоверных усилий. Но вот, наконец, форма готова, бронза расплавлена, остается лишь вылить ее из котла в форму. И тут у бедняги Бенвенуто начинается такой приступ лихорадки, что он не может больше держаться на ногах и решает лечь в постель, предоставив подмастерьям завершить работу, от которой зависит все его будущее.
«И так, весьма недовольный, вынужденный поневоле уйти, я повернулся ко всем тем, кто мне помогал, каковых было около десяти или больше, из мастеров по плавке бронзы, и подручных, и крестьян, и собственных моих работников по мастерской, среди каковых был некий Бернардино Маннел-лини из Муджелло, которого я у себя воспитывал несколько лет; и сказанному я сказал, после того, как препоручил себя всем: „Смотри, Бернардино мой дорогой, соблюдай порядок, который я тебе показал, и делай быстро, насколько можешь, потому что металл будет скоро готов; ошибиться ты не можешь, а остальные эти честные люди быстро сделают желоба, и вы уверенно можете этими двумя кочергами ударить по обеим этим втулкам, и я уверен, что моя форма наполнится отлично; я чувствую себя так худо, как никогда не чувствовал с тех пор, как явился на свет, и уверен, что через несколько часов эта великая болезнь меня убьет“. Так, весьма недовольный, я расстался с ними и пошел в постель.
Улегшись в постель, я велел моим служанкам, чтобы они снесли в мастерскую всем поесть и попить, и говорил им: «Меня уже не будет в живых завтра утром». Они мне придавали, однако же, духу, говоря мне, что моя великая болезнь пройдет и что она меня постигла из-за чрезмерного труда. Когда я так провел два часа в этом великом борении лихорадки и беспрерывно чувствуя, что она у меня возрастает, и все время говорил: «Я чувствую, что я умираю», моя служанка, которая управляла всем домом, которую звали мона Фиоре да Кастель дель Рио; эта женщина была самая искусная, которая когда-либо рождалась, и настолько же самая сердечная, и беспрерывно меня журила, что я растерялся, а с другой стороны оказывала мне величайшие сердечности услужения, какие только можно оказывать. Однако же, видя меня в такой безмерной болезни и таким растерянным, при всем своем храбром сердце она не могла удержаться, чтобы некоторое количество слез не упало у нее из глаз; и все ж таки она, насколько могла, остерегалась, чтобы я их не увидел. Находясь в этих безмерных терзаниях, я вижу, что в комнату ко мне входит некий человек, каковой своей особою вид имел изогнутый, как прописное S; и начал говорить некоим звуком голоса печальным, удрученным, как те, кто дает душевное наставление тем, кто должен идти на казнь, и сказал: «О Бенвенуто, ваша работа испорчена, и этого ничем уже не поправить». Едва я услышал слова этого несчастного, я испустил крик такой безмерный, что его было бы слышно на огненном небе; и, встав с постели, взял свою одежду и начал одеваться; и служанкам, и моему мальчику, и всякому, кто ко мне подходил, чтобы помочь мне, всем я давал либо пинка, либо тумака и сетовал, говоря: «Ах, предатели, завистники! Это – предательство, учиненное с умыслом; но я клянусь Богом, что отлично в нем разберусь; и раньше, чем умереть, оставлю о себе такое свидетельство миру, что не один останется изумлен». Кончив одеваться, я направился с недоброй душой в мастерскую, я увидел всех этих людей, которых я покинул в таком воодушевлении; все стояли ошеломленные и растерянные. Я начал и сказал: «Ну-ка, слушайте меня, и раз вы не сумели или не пожелали повиноваться способу, который я вам указал, так повинуйтесь мне теперь, когда я с вами в присутствии моей работы, и пусть ни один не станет мне перечить, потому что такие вот случаи нуждаются в помощи, а не в совете». На эти мои слова мне ответил некий маэстро Алессандро Ластрикати и сказал: «Смотрите, Бенвенуто, вы хотите взяться исполнить предприятие, которого никак не дозволяет искусство и которого нельзя исполнить никоим образом». При этих словах я обернулся с такой яростью и готовый на худое, что и он и все остальные все в один голос сказали: «Ну, приказывайте, и все мы вам поможем во всем, что вы нам прикажете, насколько можно будет выдержать при жизни». И эти сердечные слова, я думаю, что они их сказали, думая, что я должен не замедлить упасть мертвым. Я тотчас же пошел взглянуть на горн и увидел, что металл весь сгустился, то что называется получилось тесто. Я сказал двум подручным, чтобы сходили насупротив, в дом к Капретте мяснику, за кучей дров из молодых дубков, которые были сухи уже больше года, каковые дрова мадонна Джиневра, жена сказанного Капретты, мне предлагала; и когда пришли первые охапки, я начал наполнять зольник. И так как дуб этого рода дает самый сильный огонь, чем все другие роды дров, ибо применяются дрова ольховые или сосновые для плавки, для пушек, потому что это огонь мягкий, так вот когда это тесто начало чувствовать этот ужасный огонь, оно начало светлеть и засверкало. С другой стороны, я торопил желоба, а других послал на крышу тушить пожар, каковой из-за пущей силы этого огня начался еще пуще; а со стороны огорода я велел водрузить всякие доски и другие ковры и полотнища, которые защищали меня от воды.
После того как я исправил все эти великие неистовства, я превеликим голосом говорил то тому, то этому: «Неси сюда, убери там!» Так что, увидав, что сказанное тесто начинает разжижаться, весь этот народ с такой охотой мне повиновался, что всякий делал за троих. Тогда я велел взять полсвинки олова, каковая весила около шестидесяти фунтов, и бросил ее на тесто в горне, каковое при остальной подмоге и дровами, и размешиванием то железами, то шестами, через небольшой промежуток времени оно стало жидким. И когда я увидел, что воскресил мертвого, вопреки ожиданию всех этих невежд, ко мне вернулась такая сила, что я уже не замечал, есть ли у меня еще лихорадка или страх смерти. Вдруг слышится грохот с превеликим сиянием огня, так что казалось прямо-таки, будто молния образовалась тут же в нашем присутствии; из-за какового необычного ужасающего страха всякий растерялся, и я больше других. Когда прошел этот великий грохот и блеск, мы начали снова смотреть друг другу в лицо; и увидав, что крышка горна треснула и поднялась таким образом, что бронза выливалась, я тотчас же велел открыть отверстия моей формы и в то же самое время велел ударить по обеим втулкам. И увидав, что металл не бежит с той быстротой, как обычно, сообразив, что причина, вероятно, потому, что выгорела примесь благодаря этому страшному огню, я велел взять все мои оловянные блюда, и чашки, и тарелки, каковых было около двухсот, и одну за другой я их ставил перед моими желобами, а часть их велел бросить в горн; так что, когда всякий увидел, что моя бронза отлично сделалась жидкой и что моя форма наполняется, все усердно и весело мне помогали и повиновались, а я то здесь, то там приказывал, помогал и говорил: «О Боже, ты, который твоим безмерным могуществом воскрес из мертвых и во славе взошел на небе-са»; так что вдруг моя форма наполнилась; ввиду чего я опустился на колени и всем сердцем возблагодарил Бога; затем повернулся к блюду салата, которое тут было на скамеечке и с большим аппетитом поел и выпил вместе со всем этим народом; затем пошел в постель, здравый и веселый, потому что было два часа до рассвета, и, как если бы я никогда ничем не болел, так сладко я отдыхал. Эта моя добрая служанка, без того, чтобы я ей что-нибудь говорил, снабдила меня жирным каплуночком; так что когда я встал с постели, а было это около обеденного часа, она весело вышла ко мне навстречу, говоря: "О, тот ли это самый человек, который чувствовал, что умирает? Мне кажется, что эти тумаки и пинки, которых вы нам надавали нынче ночью, когда вы были такой бешеный, что при этом бесовском неистовстве, которое вы выказывали, эта ваша столь непомерная лихорадка, вероятно испугавшись, чтобы вы не приколотили также и ее, бросилась бежать". И так вся моя бедная семе-юшка, отойдя от такого страха и от таких непомерных трудов, разом отправилась закупать, взамен этих оловянных блюд и чашек, всякую глиняную посуду, и все мы весело пообедали, и я не помню за всю свою жизнь, чтобы я когда-либо обедал с большим весельем или с лучшим аппетитом.
После обеда пришли ко мне все те, кто мне помогал, каковые весело радовались, благодаря Бога за все, что случилось, и говорили, что узнали и увидели такие вещи, каковые другими мастерами считались невозможными. Также и я, с некоторой гордостью, считая себя чуточку сведущим, этим хвалился; и, взявшись за кошелек, всем заплатил и угодил…
Оставив два дня остывать отлитую мою работу, я начал открывать ее потихоньку; и нашел, первым делом, что голова Медузы вышла отлично благодаря душникам, как я и говорил герцогу, что естество огня в том, чтобы идти кверху; затем я продолжил открывать остальное и нашел, что другая голова, то есть Персея, вышла также отлично; и она привела меня в гораздо большее удивление, потому что, как можно видеть, она намного ниже головы Медузы. И так как отверстия сказанной работы были расположены над головой Персея и у плеч, то я нашел, что с окончанием сказанной головы Персея как раз кончилась вся та бронза, какая была у меня в горне. И было удивительным делом, что не осталось ничего в литейном отверстии, а также не получилось никакой недохватки; так что это привело меня в такое удивление, что казалось прямо-таки, что это дело чудесное, поистине направленное и содеянное Богом. Я продолжал счастливо кончать ее открывать и все время находил, что все вышло отлично, пока не дошло до ступни правой ноги, которая опирается, где я нашел, что пятка вышла, и, идя дальше, увидел, что вся она полна, так что я, с одной стороны, очень радовался, а с другой стороны, я был этим почти что недоволен, единственно потому, что я сказал герцогу, что она не может выйти; однако же, кончая ее открывать, я нашел, что пальцы не вышли у сказанной ступни, и не только пальцы, но не хватало и повыше пальцев чуточку, так что недоставало почти половины; и хотя мне прибавлялась эта малость труда, я был этим весьма доволен, лишь бы показать герцогу, что я знаю то, что делаю. И хотя вышло гораздо больше этой ступни, нежели я думал, причиной тому было, что из-за сказанных столь различных обстоятельств металл нагрелся больше, чем дозволяет правило искусства; и еще потому, что мне пришлось подсоблять ему примесью, тем способом, как было сказано, этими оловянными блюдами, чего другие никогда еще не делали. И вот, увидев, что работа моя так хорошо вышла, я тотчас же отправился в Пизу повидать моего герцога; каковой оказал мне столь милостивейший прием, какой только можно себе представить, и таковой же оказала мне и герцогиня; и хотя этот их майордом известил их обо всем, их светлостям показалось чем-то еще более поразительным и чудесным услышать, как я рассказываю об этом своим голосом; и когда я дошел до этой ступни Персея, которая не вышла, как я об этом известил заранее его высокую светлость, я увидел, как он исполнился изумления и рассказал об этом герцогине, как я это сказал ему раньше. И вот, увидев этих всех государей столь приветливыми ко мне, я тогда попросил герцога, чтобы он позволил мне съездить в Рим. И он благосклонно отпустил меня и сказал, чтобы я возвращался поскорее кончать его Персея, и дал мне сопроводительное письмо к своему послу, каковым был Аверардо Серристори»[19]
В этом же доме 13 февраля 1571 года Бенвенуто Челлини скончался; похоронили его в церкви Сантиссима Ан-нунциата, о чем свидетельствует запись, найденная мной в архивах Академии изящных искусств.
«Февраля 15 дня 1571 года.
Похороны мессера Бенвенуто Челлини, ваятеля.
Сего дня был погребен вышеозначенный маэстро Бенвенуто Челлини, ваятель, и по его желанию погребение состоялось в нашем капитуле Аннунциата, с большой пышностью, в присутствии всей Академии и всего сообщества Изящных Искусств. Все пришли к его дому, встали там, как положено, затем чередой прошествовали монахи, после чего четыре академика подняли гроб и понесли, и так, сменяясь, перенесли его в церковь Аннунциата; когда закончилось отпевание, вошел монах, коему накануне было поручено произнести надгробное слово в честь означенного маэстро Бенвенуто, и слово это весьма понравилось собравшимся, каковые пришли на похороны не только затем, чтобы отдать последний долг умершему, но и в надежде услышать о нем хвалебные речи. Всю церемонию освещало великое множества свечей и факелов, как в церкви, так и в помещении капитула. Вот подсчет свечей, которые были выданы Академии. Консулы получили по свече весом в фунт; советники, секретари и камерлинги – по свече в восемь унций; проведитор – свечу весом в фунт; и наконец, все остальные, числом пятьдесят, – по свече в четыре унции».
Кто бы мог подумать, что после таких пышных похорон, все подробности которых перечислены так скрупулезно, сообщество Изящных Искусств забудет об одной-единственной мелочи – о том, что на могиле Бенвенуто Челлини надо написать его имя! И теперь из-за этого упущения ни один житель Флоренции не может показать место, где был погребен создатель «Персея».








