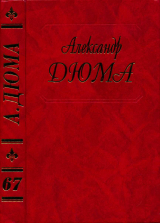
Текст книги "Вилла Пальмьери"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Зарубежная классика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 34 страниц)
После долгого и углубленного изучения Кошен и Лессинг заявили, что голова и обе руки статуи сделаны уже в новое время, а ноги были расколоты во многих местах; но все остальное на самом деле изваяно в древности, если не считать нескольких мелких фрагментов на торсе и кое-где еще.
Галль и Шпурцхейм пошли еще дальше: перейдя от формы к содержанию, от мысли к материи, от натурализма к идеализму, они ощупали череп Венеры и заявили, что если, к несчастью, этот череп вылеплен с натуры, то богиня любви, вне всякого сомнения, была слабоумной.
У меня нет возражений против реставрации. Мне в об-щем-то нравится, когда произведение искусства хорошо отреставрировано: ведь это доказывает, что гениальные люди существуют во все времена. По-моему, неведомого автора «Фавна» нисколько не бесчестит, что Микеланджело заново приделал руки его творению.
Не буду оспаривать суждение Галля и Шпурцхейма о невысоких умственных способностях богини, основанное на предположении, что голова статуи по форме полностью соответствует голове оригинала. Возможно, Юпитер создавал Венеру вовсе не для того, чтобы она открыла тайны мироздания, как Коперник, или изобрела громоотвод, как Франклин. Юпитер создал ее потому, что на небе недоставало богини красоты, а на земле – матери амуров. И если Венера из зала Трибуны прекрасна, других достоинств ей не требуется.
К несчастью, Венеру Медицейскую, на мой взгляд, нельзя назвать прекрасной. Во всяком случае, в ней нет той красоты, какой должна обладать возлюбленная Марса, Адониса и Анхиза, богиня Амафонта, Пафоса, Лесбоса, Книда и Киферы.
Венера Медицейская – это нифма из мифологического балета, застигнутая врасплох во время купания дерзким пастухом и принявшая театральную позу по указанию Ко-ралли или Мазилье.
Это впечатление еще усиливается тем, что Венера, казалось бы стремящаяся прикрыть все, не прикрывает решительно ничего.
О нет! Это не Венера древних, чаровница, которая сбросила к ногам одежды и отняла у Юноны и Паллады золотое яблоко! Не возлюбленная Вакха, мать Приапа, ветреная супруга Вулкана! Не богиня, к которой взывала Пасифая и которая воспламенила кровь в жилах Федры! Не божество, которому хотела уподобиться Клеопатра, когда она, полуобнаженная, сладострастно раскинувшаяся на тигровой шкуре, окруженная воскуряющими благовония амурами, плыла вверх по Кидну в позолоченной галере! Не божество, чьей власти не могла противиться Мессалина во время ночных оргий, когда она, скрыв свои черные волосы под белокурым париком, а свое царственное имя под именем блудницы, бросала исполненный похоти вызов солдатам из караульни и уличным носильщикам!
Статуя в зале Трибуны – это красивая, изящная, несколько жеманная девица; вы можете сколько угодно разглядывать ее в лорнет, но у вас ни на миг не возникнет желания оживить ее, как Пигмалион оживил Галатею. И уж во всяком случае, это не Венера.
Но хватит кощунствовать, пора перейти от мрамора к холсту, от античных шедевров к шедеврам нового времени: у этих есть хотя бы одно преимущество – нам известны имена их создателей. Правда, на цоколе статуи написано, что ее создал Клеомен, сын Аполлодора; но в один прекрасный день ученые пришли к выводу, что надпись явно относится к более позднему времени, чем сама статуя, и, скорее всего, сделана каким-то римским старьевщиком, который совершил этот подлог для того, чтобы выручить за свой товар лишние две-три сотни сестерциев!
Однако в борьбе за истину ученые идут до конца. Им мало ниспровергнуть, они хотят выстроить взамен свое, а это, увы, получается у них гораздо хуже. Если они отняли у статуи имя, значит, должны назвать ее заново; если объявили о ее незаконном происхождении, значит, должны подыскать ей отца. Казалось бы, нет ничего легче. Но беда в том, что насчет отцовства между ними существуют разногласия: одни заявили, что статуя – дитя Скопаса, другие – что ей дал жизнь Пракситель, третьи сочли ее дочерью Фидия. Некоторое время Венера Медицейская оставалась сиротой, теперь же у нее целых три отца. Выбирайте, какой вам больше нравится.
Перейдем к Рафаэлю: по заслугам и почет. Он был единогласно избран королем зала Трибуны: так поприветствуем его величество.
В одном только этом зале есть шесть картин Рафаэля, то есть, если не ошибаюсь, на две картины больше, чем во всем нашем Музее. Здесь представлены три периода его творчества, чтобы можно было видеть, как он совершенствовался, или, по мнению идеалистов, как он отклонялся от прямого пути.
Из двух «Святых семейств», относящихся к первому периоду, одно, по мнению знатоков, приписывается Рафаэлю без достаточных оснований. На этой картине Мадонна, младенец Иисус, и маленький Иоанн Креститель изображены на фоне пейзажа: слева, в глубине, виднеются развалины города, справа стоит небольшой домик, над которым склонилось дерево с тонким стволом и редкой листвой. Такие деревья мы видим на фоне всех картин Перуджино.
С этой картиной, называемой, по-моему, «Мадонна дель Поццо», мы поступим так же, как с Венерой Меди-цейской, то есть воздержимся от суждения по столь важному вопросу, хотя, на наш взгляд, картина вполне достойна мастера, которому ее приписывают. Нам кажется, что любой ученик Рафаэля прослыл бы великим живописцем, если бы создал одну только эту картину,
И правда, это одна из самых изумительных рафаэлевых композиций, какие только можно увидеть. Как мы сказали, она относится к первому периоду творчества мастера, или, точнее, к началу второго периода: наряду с идеализмом Перуджино здесь уже заметно увлечение формой, которое возникло у художника из Урбино, забывшего, что его прозвали Ангелом, при знакомстве с шедеврами античности.
Мадонна сидит на лужайке, усыпанной цветами, и поддерживает правой рукой младенца Иисуса, который, приникнув к ее груди неизъяснимо нежным и грациозным движением, протягивает левую руку маленькому Иоанну Крестителю, а тот показывает ему ленту с надписью «Ессе agnus Dei[38]».
Вся эта композиция в целом отличается восхитительной простотой и чудесным рисунком; колорит мягкий, нежный, игра света и тени превосходна.
Полагаю, если бы Рафаэль вернулся на землю, он был бы очень обижен тем, что авторство этой прекрасной картины приписывают кому-то другому.
Что касается портрета Мадцалены Дони, «Иоанна Крестителя в пустыне» и портрета Юлия II, то эти картины признаны шедеврами; стало быть, о них мы говорить не будем.
Есть здесь две картины Тициана, две его Венеры, а значит, два самых прекрасных его полотна.
Есть здесь «Святое семейство» Микеланджело: представьте себе небольшую картину кисти мастера, который создал «Страшный Суд»! «Святое семейство» было написано по заказу флорентийского дворянина по имени Аньоло Дони, возможно, супруга той самой женщины, портрет которой написал Рафаэль. Удивительная, заметим, эпоха, когда можно было заказать портрет Рафаэлю, а станковую картину – Микеланджело! К сожалению, присущая флорентийцам бережливость изменила Аньоло Дони, и он не договорился о цене заранее. Когда картина была закончена, Аньоло Дони спросил у Микеланджело, сколько ему следует заплатить за работу; художник потребовал семьдесят скудо. Заказчику показалось, что это слишком много, и он начал торговаться. Тогда Микеланджело поднял цену до ста сорока скудо. И Аньоло Дони поспешил заплатить, опасаясь, что если торг продолжится таким образом и цена картины будет каждый раз удваиваться, то картина окажется ему не по средствам.
Есть здесь еще «Мадонна на пьедестале со святым Франциском и святым Иоанном Евангелистом» Андреа дель Сарто; «Святое семейство со святой Екатериной» Паоло Веронезе; «Карл V после отречения» Ван Дейка; «Поклонение Мадонны младенцу Иисусу» Корреджо; «Иродиада, принимающая от палача голову Иоанна Крестителя»; и наконец, «Мадонна со святым Себастьяном и Иоанном Крестителем» Перуджино, а также «Вакханка» Аннибале Карраччи – два ярких образца соответственно религиозно-мистической и натуралистической школ.
Подобно Рую Гомесу, я пройду мимо этих картин, не останавливаясь у не самых лучших, быть может, хотя и замечательных произведений живописи, таких, как, например, портрет кардинала Беккаделли работы Тициана и портрет Франческо, герцога Урбинского, работы Бароччо, но задержусь ненадолго перед шедевром художника из Перуджи и шедевром художника из Болоньи; обе эти картины достойны того, чтобы сказать о них несколько слов, не только из-за их бесспорных достоинств, но еще и потому, что каждая из них отражает свое время: первая – эпоху религиозных верований, вторая – эпоху возврата к классической древности. Начнем с Перуджино.
Само имя автора указывает на то, что он полностью принадлежит эпохе веры и чувства, когда воспоминания об античности еще не заставили искусство свернуть с религиозного пути, на который его направили Чимабуэ, Джотто и Анджелико да Фьезоле. Понятно, что в этой картине больше всего впечатляет необычайная выразительность каждого из персонажей. Мадонна – это именно та женщина, которой суждено стать мистической супругой Божества; ее глаза полны любовью, которую она ощущает сейчас, и предчувствием своего будущего страдания; она прекрасна красотой девственницы и в то же время красотой матери.
Младенец Иисус изображен еще в соответствии с каноном примитивной школы, который вскоре изменится под влиянием Рафаэля: это божественное Дитя, белокурое, пухленькое, доверчивое, ласковое и благостное; у него нет нимба, но вокруг головы вьются золотистые кудри, свидетельствуя о его божественности.
Святой Иоанн Креститель взирает на них с великой любовью к Христу, которая дарована ему свыше и которую он унесет с собой на небо, не дав земным заблуждениям, страстям и корысти поколебать ее хоть на миг; чувствуется, что он счастливее апостола Павла, ибо всегда знал, что Христос больше, чем человек, и превосходит верностью апостола Петра, ибо никогда не станет отрицать, что Христос – Бог.
У святого Себастьяна руки связаны за спиной, а все тело утыкано стрелами: его мученичество завершается, и он уже ищет взглядом на небе того, за кого вскоре примет смерть на земле.
Все это создано в лучшую пору творчества Перуджино и отличается его особенной, неповторимой манерой: все здесь дышит простотой, искренней верой, кротостью и серьезностью. В фигурах Мадонны и младенца сразу распознаёшь нежную плоть женщины и ребенка; в фигурах Иоанна Крестителя и святого Себастьяна – крепкий костяк и мускулы мужчины; еще следует сказать о строгости колорита, благородстве рисунка и умело выстроенной перспективе.
А теперь перейдем к «Вакханке» Аннибале Карраччи.
Бывает, что скала, сорвавшись с горной кручи и катясь вниз, встречает на пути группу могучих елей или крепких лиственниц, которые останавливают ее падение. Пока молодые деревья, полные жизненных соков, способны удержать скалу, она остается на месте; но мало-помалу, одно за другим, деревья вянут, дряхлеют, засыхают и рассыпаются в прах; и тогда под действием силы тяжести скала вновь начинает движение вниз и вскоре исчезает в пропасти.
Так было и с итальянским искусством: сорвавшись с невероятных вершин, куда вознесли его великие мастера, оно неудержимо катилось вниз, к упадку, но встретило на своем пути пятерых Карраччи, планет той школы, солнцем которой был Доменикино: благодаря им искусство смогло продержаться еще полвека.
От великой эпохи Льва X и Юлия II остался один Микеланджело; подобно библейским старцам, пережившим целый мир, титан живописи и ваяния кончал свои дни в одиночестве и в молчании, возводя гробницы среди развалин.
И тут явились Карраччи; осмотревшись, они увидели, что пришли слишком поздно; их старшие собратья уже все изобрели, все усвоили!
Перуджино усвоил чувство, Тициан – колорит, Рафаэль – форму, Микеланджело – выразительность, Корреджо – изящество.
Карраччи поняли, что время самобытности прошло; начав работать в одном из направлений, которые принесли славу их предшественникам, они, в лучшем случае, достигнут того же уровня, но даже и тогда станут всего лишь подражателями; и потому они решили соединить в своей манере различные достоинства разных мастеров, рискуя остаться ниже всех этих гениев в том, что составляло их сильную сторону, зато надеясь превзойти их во второстепенных качествах. Не будучи цветами и не обладая их природным ароматом, они, подобно пчелам, создали мед.
Они приблизились к своим образцам настолько, насколько талант может приблизиться к гению, мастерство – к вере, разум – к чувству.
Их эпоха была уже совершенно языческой, а потому, оставив в небрежении художников-мистиков, они взяли в пример лишь художников-натуралистов. Это не помешало их картинам на религиозные сюжеты быть прекрасными и впечатляющими, однако на этих картинах торс у Христа, как у Лаокоона, и Мадонна у подножия креста скорбит, как Ниоба, проклинающая Юпитера, а не как смиренная Богоматерь, прославляющая Иегову.
И потому лучше всего им удается языческая живопись: их мифологические картины – почти всегда шедевры, к числу которых принадлежит и «Вакханка». Невозможно найти более подходящую сцену для воплощения заданного сюжета: женщина вся трепещет от наслаждения, каждый ее мускул напрягается в предвкушении разнузданной оргии: это сама Эригона в своей бесстыдной наготе; сатир, со своей стороны, соединяет в себе мощь кентавра и похотливость фавна; и даже маленькие амуры, рассеянные там и сям, своими жестами и выражениями лица дополняют общее впечатление вакханалии.
Все это написано с размахом, с великолепным знанием техники, с удивительным мастерством и вдобавок с такой смелостью в выборе красок, которая сама по себе служит оправданием их резкости. Одним словом, это выдающееся произведение жипописи.
А если подобная свобода кисти претит чьим-то целомудренным душам, то после созерцания «Вакханки» они могут очиститься, помолившись перед Мадонной Перуд-жино.
Две комнаты по соседству с залом Трибуны посвящены тосканской школе. Здесь имеются три или четыре чудесных творения Беато Анджелико, а также знаменитая «Голова Медузы» Леонардо да Винчи, которую художник написал для крестьянина из отцовской деревни и змеи на которой кажутся живыми; и наконец, портрет Бьянки Ка-пелло, о котором мы уже упоминали, когда рассказывали романтическую историю приемной дочери республики святого Марка.
Но, вероятно, самая любопытная вещь, какую можно увидеть в галерее Уффици и какой не может похвастать никакая другая галерея в мире, это замечательное собрание автопортретов художников – от Мазаччо до Беццоли.
Представьте себе триста пятьдесят портретов мастеров, созданных самими этими мастерами, такими, как Перуд-жино, Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Андреа дель Сарто, Альбани, Доменикино, Сальватор Роза, Спаньолетто, Веласкес, Рубенс; и в каждом портрете навеки запечатлелись характер, чувство, гений художника, причем не такие, какими они видятся жалкому подражателю или слабому копиисту, но схваченные с натуры, но написанные кистью, подобно тому как Руссо в «Исповеди» и Альфьери в «Мемуарах» увековечили себя с помощью пера!
Должен признаться: зал автопортретов – мой любимый зал в галерее Уффици. Я часто проводил там целые часы, пытаясь найти, если можно так выразиться, психологическую нить, которая связывала личность художника с его творчеством, и почти всегда мне это удавалось; всмотритесь в лица Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело, Доменикино и Сальватора Розы – и вы сразу поймете, что перед вами действительно создатели «Тайной Вечери», «Мадонны в кресле», «Моисея», «Последнего причастия святого Иеронима» и «Клятвы Катилины».
Еще один совет: поскорее обойдите стороной зал французской живописи. Должно быть, какой-то скверный шутник дал ему такое название. Правда, там есть одна довольно хорошая вещь Пуссена, но вряд ли она сможет вознаградить вас за созерцание двух десятков картин, которые иначе как мазней не назовешь.
Но задержитесь в прилегающем коридоре перед терракотовым «Вакхом» Микеланджело, который был продан мастером как античный: эта скульптура исполнена вдохновения и тонкого понимания сюжета.
Но попросите открыть для вас зал, где рядом с маской фавна, первым опытом юного Микеланджело, стоит бюст Брута, незавершенное творение Микеланджело-старика. Один современный скульптор взялся завершить этот бюст, но прервал работу над ним и уехал в Париж, чтобы вступить в заговор против Наполеона. Его имя было Че-ракки; он погиб на эшафоте, и с тех пор никто больше не осмеливался коснуться этой наводящей ужас глыбы мрамора.
Но загляните в зал Ниобы, и вы увидите самое душераздирающее выражение материнского горя, самый достоверный страх смерти; вы увидите пятнадцать мраморных статуй[39], которые плачут, рыдают, дрожат, пытаются бежать; вы увидите отчаяние более глубокое, чем у Лаоко-она, ибо Лаокоон умирает вместе со своими детьми, а несчастной Ниобе приходится смотреть, как они гибнут.
Затем, если хотите, вы можете посетить зал драгоценностей, этрусский музей, медальный кабинет; сомневаюсь, однако, что вы получите от этого большое удовольствие.
VIII
ТЯГА К КРОВИ
Выйдя из галереи Уффици и начав спускаться по лестнице, мы вынуждены были остановиться из-за наплыва людей, устремлявшихся на второй этаж, в зал судебных заседаний по уголовным делам; у дверей образовался затор, толпа набилась на лестнице, все яростно расталкивали друг друга, стараясь пробраться на места для публики. При этом стоял невероятный шум – большая редкость для Флоренции, где народ обычно тих и спокоен, и в людском гомоне можно было разобрать одно, тысячеустно повторяемое имя: «Антонио Чолли! Антонио Чолли!»
Я стал спрашивать, что тут происходит, но те, к кому я обращался, думали только об одном – как бы поскорее попасть в зал, и отвечать на вопросы им было некогда; с другой стороны, мне не хотелось погибать в этой чудовищной давке, и я уже было решил уйти, так и не узнав, в чем дело, как вдруг заметил одного из лучших адвокатов Флоренции, одного из самых образованных и самых умных людей в Италии, синьора Винченцо Сальваньоли. Я подал ему сигнал бедствия, он сразу понял его и ответил жестом, означавшим: «Пробирайтесь ко мне!» Я поспешил последовать его совету, и нам удалось сойтись в углу лестничной площадки.
– Что случилось? – спросил я. – Во Флоренции мятеж?
– Неужели вы не знаете?
– Не знаю чего?
– Не знаете, какое дело слушается сегодня?
– Нет.
– Вы слышали, чье имя твердят все вокруг?
– Да, Антонио Чолли. Ну и что? Кто этот человек?
– Этот человек – глава Общества крови, предводитель ливорнских убийц, которого вместе с четырьмя сообщниками задержали н а месте преступления.
– Вот как! А могу я присутствовать на суде над этим человеком?
– Идемте со мной, я адвокат, и у меня есть привилегии: я проведу вас через боковую дверь и усажу на одно из служебных мест.
– Тысячу раз спасибо.
В самом деле, то, что сказал мне синьор Сальваньоли, чрезвычайно разожгло мое любопытство. Вот уже больше года ходили слухи об ужасных убийствах, совершаемых на улицах Ливорно, беспричинных убийствах, которым не могли найти объяснения и виновники которых оставались неизвестны. А совершались они так: перед мирным горожанином, перед женщиной, спешившей домой в поздний час, перед играющим ребенком вдруг вырастала фигура с вымазанным сажей или скрытым маской лицом; горожанин, женщина или ребенок вскрикивали и, пошатнувшись, падали в лужу собственной крови, а в это время убийца, не задерживаясь для того, чтобы ограбить или раздеть жертву, заворачивал за угол улицы и исчезал.
Люди, знавшие убитых, говорили, что у них не было врагов. Значит, ненависть не могла быть причиной убийства.
Убивали дряхлых старух, которым оставалось жить считанные дни и которые только и делали, что торопили смерть. Значит, об убийстве из ревности речи быть не могло.
Убивали несчастных детей, просивших подаяние. Значит, убийства совершались не из корыстных побуждений.
И это повторялось изо дня в день: ни один вечер в Ливорно не проходил без того, чтобы мостовая в том или другом месте не обагрилась кровью, ни одна ночь не заканчивалась без того, чтобы тревожный колокол братства Милосердия не прозвонил дважды или трижды, призывая его членов оказать помощь умирающему или подобрать чей-то труп.
Люди не знали, что и думать, и терялись в догадках.
Говорили, будто убийства совершают портовые грузчики из Генуи, чтобы повредить работе ливорнского порта.
Говорили, будто один из надзирателей каторжной тюрьмы подкуплен и по ночам выпускает каторжников на свободу.
А еще говорили, будто в городе действует тайное общество, члены которого дали обет во всем повиноваться своему главарю; что в этом обществе состоят пять или шесть человек и первый пункт его устава предписывает ежедневно проливать кровь.
Последнее предположение было самым невероятным, но оно оказалось единственно верным.
Главарем общества был сапожник по имени Антонио Чолли, проживавший на Виа делл' Ольо; он сам организовал эту необычную ассоциацию.
За нанесенные раны, в зависимости от их тяжести, полагалась награда. Чолли, единственный член общества, у которого водились деньги, поскольку его услугами пользовались многие и его ремесло приносило определенный доход, установил следующий тариф: за небольшую рану он выдавал пять паоло, за отрезанный палец – десять, за тяжелую рану – пятнадцать, а за убитого – цехин.
Однако он не требовал, чтобы его подчиненные убивали: ему было достаточно, чтобы пролилась кровь.
Как говорили в народе, эта чудовищная забава продлилась полтора года.
И вот однажды вечером, 18 января 1840 года, когда один человек был убит, а двое других ранены, полиции удалось арестовать одного из убийц; это был подмастерье сапожника, по имени Анджоло Геттини; задержал его Лоренцо Нобили, нижний чин полиции, городской стражник, как их называют в Ливорно. Анджоло Геттини поранил ему кинжалом верхнюю губу, но рана оказалась легкой, полицейский сумел схватить Геттини и повалить его на землю. Геттини был арестован, а за ним и вся банда. В ней было пять человек: главарь, Антонио Чолли, и его сообщники – вышеупомянутый Геттини, Одоардо Мелли-ни, Луиджи Бьянкини, по прозвищу Нос, и Антонио Чен-тини, по прозвищу Капуцин.
Вот этих людей и должны были судить в зале, куда сейчас ломилась толпа: им вменялось в вину lascivia di sangue, то есть тяга к крови.
Lascivia di sangue! Выражение, достойное Данте, не правда ли?
Я двинулся вслед за моим вожатым и вошел в зал. Синьор Сальваньоли, как он и обещал, устроил меня на одно из служебных мест, откуда я мог отлично все видеть и слышать; а поскольку обвиняемых в зале еще не было, я стал осматриваться кругом: ведь мне впервые в жизни довелось оказаться в зале уголовного суда.
Зал был новый, отделка его закончилась совсем недавно; как мне показалось, он совершенно не подходил для сцен, которые должны были в нем разыгрываться; беленые стены, солнечный свет, льющийся в широкие окна, зеленые лепные украшения – все это придавало ему веселый вид, составлявший разительный контраст с его суровым предназначением. Я вспомнил сумрачные коридоры нашего старого Дворца правосудия, его угрюмые подвальные комнаты, где собираются наши присяжные, и, наконец, распятие над головой председателя суда, символ земного правосудия и одновременно божественного милосердия; даже эти залы, где судят преступников, подумалось мне, красноречиво свидетельствуют о разнице характеров северного и южного народов.
Мгновение спустя в зал вошли секретарь и члены суда, а затем прокурор. Все они заняли свои места. Через несколько минут открылась боковая дверь, один за другим вошли обвиняемые в сопровождении жандармов и сели на скамьи слева от председателя суда, лицом к товарищу прокурора; напротив них расположились адвокаты.
Все обвиняемые были молоды; ни у кого из них лицо не носило отпечаток звериной жестокости, которую мы ищем в лицах убийц, особенно убийц прирожденных; напротив, это были довольно красивые парни, а один, судя по его физиономии, даже обладал незаурядным умом.
Их появление в зале вызвало чрезвычайно большое волнение. Я уже упоминал о странных историях, которые про них рассказывали. В зале послышался негодующий ропот; трое обвиняемых обернулись, а потом посмотрели друг на друга и рассмеялись, словно не понимая причины этого шума.
Председатель суда призвал всех к молчанию; затем прокурор, слегка помедлив, чтобы дать присутствующим время удовлетворить любопытство, встал и начал зачитывать обвинительное заключение, которое я привожу здесь почти дословно:
«Одно убийство, два ранения, а также нападение, совершенное в Ливорно вечером 18 января 1840 года и усугубленное вооруженным сопротивлением полиции, каковое учинил сапожник Анджоло Геттини, вызвали скорбь и смятение среди добрых и трудолюбивых жителей нашего многолюдного города.
В самом деле, можно ли совладать с ужасом, охватывающим нас при виде убийства? Можно ли унять жалость, которую вызывают у нас жертвы злодеяния? Можно ли сохранять спокойствие, когда безопасность целого города находится под угрозой?
Поэтому легко понять чувство тревоги и страха, которое охватывало ливорнцев, когда под звон колокола, призывавшего благочестивых братьев из ордена Милосердия на помощь раненым и умирающим, люди пересказывали друг другу страшные подробности кровавого преступления, совершенного в тот роковой вечер.
Вот факты, относящиеся к этому вечеру: суду предлагается рассмотреть лишь данные факты, и ничего более.
Восемнадцатого января, выпив, по своему обыкновению, вина за ужином, Антонио Чолли отправился в сад Бикки, в кабачок, где он встретился со своими постоянными собутыльниками; они сели за стол и снова начали пить; один только Чолли выпил около трех фьясок, то есть шесть с лишним бутылок вина.
После этого обвиняемые сделали вид, будто им захотелось устроить маскарад: они взяли закопченную сковороду и вымазали себе лица сажей; затем обвиняемые спросили, нет ли где-нибудь поблизости бала, чтобы провести на нем остаток вечера, и вышли из сада Бикки.
Оттуда они направились в таверну «Порта аль Маре», где выпили еще несколько стаканов вина.
Под конец, они пришли в кафе «Каппанара» и заказали там кувшин пунша.
Все это время обвиняемых сопровождали четверо приятелей, которых они встретили в саду Бикки и которые, не подозревая, чем закончится этот вечер, тоже намазались сажей и пошли за ними с веселыми криками и гиканьем.
Однако, оказавшись в кафе "Каппанара”, эти четверо – Бастиани, Винченти и братья Бикки, случайно присоединившиеся к банде, решили, что они достаточно подурачились, и распрощались с Чолли, Геттини, Бьянкини, Чентини и Меллини. Это произошло приблизительно за десять минут до первого убийства, жертвой которого стал Лемми.
Перейдем теперь к тому, что было установлено следствием.
Восемнадцатого января, около половины десятого вечера, Джованни Лемми, шестидесяти лет, находясь в нескольких шагах от двери своего дома, под аркадой, ведущей в сад Монтриелли, на Борго деи Каппучини, подвергся яростному нападению преступников, которые тут же нанесли ему одну за другой пять ран: первую – в живот (именно эта рана, нанесенная четырехгранным клинком и повредившая тонкий кишечник, была признана смертельной); вторую, обычным ножом, – в правое плечо; третью – также в правое плечо, но с внешней стороны (как установлено, эта рана, затронувшая надкостницу и повредившая мышцы, тоже была нанесена ножом); четвертую, вызвавшую перелом седьмого ребра и затронувшую легкое (эта рана, как и первая, была нанесена четырехгранным клинком и, наряду с первой, была признана смертельной); наконец, пятую – в левое плечо, с разрывом дельтовидной мышцы (эта рана была признана тяжелой, а орудием здесь послужил обычный нож).
Через день, 20 января 1840 года, в пять часов пополудни, вышеозначенный Лемми скончался от ран, находясь в ливорнской больнице.
Совершив это убийство, злодеи бросили свою жертву и пошли дальше по Борго деи Каппучини; у Пирамиды двое отделились от шайки и, исполненные дурных намерений, двинулись навстречу некоему Джованни Вануччи, беседовавшему с другом; однако, увидев, как к Вануччи и его другу подошел еще один человек, убийцы рассудили, что троих им не одолеть, и вернулись к своим сообщникам. Впоследствии Джованни Вануччи заявил, что, увидев, как к нему приближаются двое с вымазанными сажей лицами и с явно враждебными намерениями, он стал молить о заступничестве Мадонну ди Монтенеро, обещая сделать ей щедрое пожертвование, и на следующий день поспешил в церковь, чтобы отблагодарить святой образ.
Затем убийцы свернули с Борго деи Каппучини на Корсо Реале и направились к Вилле Аттиас. Примерно через двести пятьдесят шагов один из них отделился от остальной шайки и вошел во двор дома Джузеппе Пратачи, по прозвищу Почтальон; увидев Пратачи у дверей, он подошел к нему и нанес ему рану в правую часть поясничной области (эта рана, нанесенная четырехгранным клинком, была признана тяжелой: раненый потерял на сорок дней трудоспособность и почти две недели находился при смерти).
Дойдя до Виллы Аттиас и оказавшись напротив Виа Леопольде, на том месте у где по праздникам воздвигают трибуну для государя, пятеро одержимых заметили Гаэтано Каррера и набросились на него, но Гаэтано Каррера оказался сильным человеком: первого из нападавших он отбросил на землю ударом кулака, а от остальных спасся бегством.
Через несколько минут, неподалеку от места, где была совершена неудачная попытка нападения, обвиняемые столкнулись с семидесятилетним Мадзини, которого они сразу же взяли в кольцо и которому один из них нанес спереди удар четырехгранным клинком в область паха; рана, к счастью, оказалась неопасной, так как клинок натолкнулся на бандаж, который вышеупомянутый Мадзини носил из-за мучившей его грыжи. Однако удар был так силен, что Мадзини упал навзничь, взывая о помощи; и тогда, то ли испугавшись, что на его крики сбегутся полицейские, охраняющие этот квартал, то ли посчитав его рану более тяжелой, чем она была на самом деле, убийцы больше его не тронули и обратились в бегство.
Но, как мы сказали, Мадзини был лишь легко ранен; поэтому он поднялся на ноги и стал преследовать убийц, испуская крик: 'Помогите! УбиваютГ На Виа Леопольдо он встретил полицейский дозор и указал на беглецов; полицейские тут же бросились в погоню и настигли двоих; одному удалось вырваться, другой попытался оказать сопротивление и ударил сержанта Нобили в лицо стилетом. Этот удар рассек Нобили верхнюю губу, но тот не выпустил из рук убийцу и, повалив его на землю, вынудил сдаться. Падая, убийца отбросил оружие так далеко, как только смог, однако его нашли: это был четырехгранный клинок, по всей вероятности тот самый, которым были нанесены две раны Лем-ми и одна – Мадзини.








