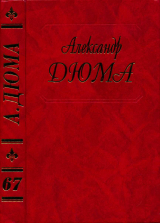
Текст книги "Вилла Пальмьери"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Зарубежная классика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 34 страниц)
Ларрей сдержал слово: несмотря на холод, на трудные условия, операция продлилась не больше двух минут.
Наполеон приказал, чтобы Зайончека перевезли на одном из первых плотов, переправлявшихся через реку. И раненый был благополучно доставлен на противоположный берег.
Поляки по очереди несли его на носилках. Операция была сделана с таким замечательным искусством, что раненого не постигло ни одно из осложнений, каких следует опасаться в подобном случае. В течение тринадцати дней, когда стольким несчастным уже недоставало сил бороться за собственную жизнь, солдаты Зайончека, несмотря на голод, холод и вражеский огонь, боролись за жизнь своего генерала. На тринадцатый день они вместе с ним вошли в Вильну.
Потом отступление сделалось таким быстрым и беспорядочным, что следовать за армией стало уже невозможно. Раненый сам приказал своим верным товарищам оставить его, и они поместили генерала в какой-то дом, где его и обнаружили русские, когда заняли город.
Едва царь Александр узнал, что за добыча ему досталась, он сразу же приказал обходиться с пленным со всей возможной заботливостью. Зайончека оставили в Вильне до тех пор, пока он не оправился окончательно.
Вслед за подписанием Парижского договора Александр отдал приказ о преобразовании польской армии, командовать которой он поручил великому князю Константину.
Зайончека произвели в чин генерала от инфантерии.
Год спустя часть Польши, отошедшая к России, была преобразована в Царство Польское. Александр, мечтавший даровать свободу своей обширной империи, пожелал в качестве опыта дать конституцию Польше и, чтобы завоевать еще большую любовь своих новых подданных, назначил своим наместником Зайончека.
Одиннадцать лет спустя, 28 июля 1826 года, Зайончек умер, пребывая в ранге вице-короля, в то время как Константин, родной брат императора, был всего лишь главнокомандующим армией.
Прославленный старец, осыпанный всеми почестями и наградами, скончался в возрасте семидесяти четырех лет.
Так сбылось последнее пророчество Красного Человечка.
Чудесный талисман, завещанный Зайончеком его дочери, бережно хранится в семье вместе с этим преданием, вещественным свидетельством которого он останется навечно.
XVI
ТРИНАДЦАТОЕ И ВОСЕМНАДЦАТОЕ ИЮЛЯ
Я дописал строки, которые вы только что прочли, и без промедления покатил в загородный дом его высочества принца де Монфора, где мне предстояло отужинать в узком кругу с ним и двумя его сыновьями, принцами Жеромом и Наполеоном, несколько месяцев назад покинувшими двор своего дяди, его величества короля Вюртембергского, чтобы провести год у отца.
Я имел честь быть представленным им сразу же после их приезда.
Не смею верить, что нас с принцем Наполеоном сблизила взаимная симпатия; поэтому скажу лишь, что меня привлекли в нем достоинства, весьма необычные для человека, которому еще не исполнилось двадцати лет. Достоинства эти – глубокий и проницательный ум, возвышенная, поэтическая душа, разностороннее и свободное от сословных ограничений воспитание и, наконец, удивительно точные познания о современном положении Европы.
К тому же это один из тех людей, которых никогда не сможет унизить утрата высокого положения. Гордый своим именем, он не присоединяет к нему никакого титула; его зовут просто Наполеон Бонапарт, и он не носит никаких орденских лент, крестов или звезд, потому что не может носить крест Почетного легиона.
Нередко, прогуливаясь на обширной террасе перед домом принца де Монфора, с высоты которой видна Флоренция с ее древними республиканскими святынями, мы с улыбкой рассуждали о капризах фортуны, за одно столетие меняющей судьбы городов, а за один день – судьбы людей. Нередко нам случалось говорить о теперешнем положении Франции, но ни разу горькие воспоминания, связанные с ней, или чувство обиды по отношению к ее народу не омрачили спокойное и безмятежное лицо благородного молодого человека.
Итак, мне предстояло отужинать в тесной компании с его отцом, его братом и с ним самим, и этот ужин был для меня, как всегда, праздником.
Еще издали я заметил обоих братьев, ожидавших меня на крыльце; я выпрыгнул из кареты и поспешил к ним. На сердце у меня было спокойно и радостно; оба принца одновременно протянули мне руку, однако лица их выражали печаль и озабоченность, что повергло меня в удивление.
– Что это с вами, монсеньеры? – со смехом спросил я.
– Нас огорчает, что мы видим вас в таком веселом расположении духа, – ответил принц Наполеон.
– Вы же знаете, дорогой принц, как мне приятно вас видеть; поэтому вас не должна удивлять веселость, которая мной овладевает, когда я удостаиваюсь чести бывать здесь.
– Нет, мы не удивлены, но ваша веселость доказывает, что вы еще не знаете страшную новость, а нам с братом так хотелось бы, чтобы вы услышали ее от кого-нибудь другого.
– Бог ты мой, что же это за новость? Надеюсь, она не касается вас лично, монсеньер?
– Нет, но вот вы потеряли одного из людей, которые вам дороже всего на свете.
В моей голове молнией промелькнули две мысли: о моих детях и о наследном принце.
Но речь не могла идти о моих детях: если бы с ними что-то случилось, я узнал бы об этом в первую очередь и раньше всех.
– Герцог Орлеанский? – с тревогой спросил я.
– Он погиб, выпав на ходу из кареты, – ответил мне принц Жером.
Должно быть, лицо у меня сильно побледнело; я почувствовал, что меня не держат ноги, и, закрыв лицо руками, плечом оперся о принца Наполеона.
Как они оба и предполагали, удар был жестоким и тяжким.
Принц Наполеон понял, что теперь было у меня на душе.
– О Господи! – воскликнул он. – Не надо так отчаиваться: сообщение пока еще неофициальное, и, возможно, оно не соответствует действительности.
– Ах, монсеньер, – ответил я, – когда подобные слухи распространяются о таком принце, как герцог Орлеанский, на смерть, увы, можно положиться, ибо слухи эти всегда оказываются верными.
Я снова протянул руку племянникам императора, которые только что со слезами на глазах сообщили мне о гибели старшего сына Луи Филиппа, а затем направился в уединенный уголок сада, чтобы не стесняясь поплакать.
Смерть! Это и без того страшное сочетание букв в иных случаях вызывает ужас еще больший, чем всегда! Умереть в тридцать один год, умереть, когда ты так молод, так красив, так благороден, так великодушен, когда перед тобой такое будущее! Умереть, будучи герцогом Орлеанским, наследным принцем, умереть, когда в будущем тебя ждет французский трон!
– Ах, мой принц, бедный мой принц! – вслух произнес я, а сердце мое тихо добавило: «… Дорогой мой принц!»
Несомненно, его любили многие, и всеобщая скорбь, всеобщий горестный вопль уже стали доказательством этой любви, но мало кто знал его так, как я, и мало кто любил его так, как я… Могу утверждать это со всей ответственностью.
Зачем я это пишу, зачем говорю это? Не знаю. Поэт словно колокол: когда по нему ударяют, он не может не издать звон; когда его пронзает боль, он не может не испустить стон.
Это заменяет у него молитву.
Итак, герцог Орлеанский умер… Признаюсь, одним этим словом для меня было уничтожено все. Я больше ничего не видел, ничего не слышал, и только стук моего сердца повторял: «Умер! Умер!! Умер!!!»
Подойдя к принцу Наполеону, я спросил его:
– И когда же это случилось? В какой день? Каким образом?
– Тринадцатого июля, в четыре часа пополудни; он выпал из кареты.
Я вернулся в тот уголок сада, откуда только что пришел.
Тринадцатое июля! Чем я занимался в этот день? Быть может, я испытал некое предчувствие? Быть может, некий голос возвестил мне об этом великом несчастье? Ничего этого я не помнил; нет, этот день я провел так же, как другие дни, и, может быть, даже веселее, чем другие. Бог мой! В этот день, когда он умирал, я, быть может, смеялся; в этот день я, без сомнения, побывал на прогулке, в театре, на балу, как и в любой другой день.
Ах! Одна из величайших горестей человечества – это наш близорукий взгляд, не видящий далее горизонта, наш рассудок, лишенный пророческого дара, наше сердце, неспособное ничего предчувствовать заранее! Все это плачет, кричит, жалуется, когда мы уже знаем, что случилось, но все это не в состоянии предугадать, что нас ожидает.
На наше несчастье, мы слепы и глухи!
И однако, перебирая в памяти минувшие дни, я кое-что вспомнил. Это была необычная история: 27 июня принц Наполеон и я отплыли из Ливорно, собираясь посетить остров Эльбу; мы отправились в это путешествие вдвоем, не считая слуги принца, и, хотя нам предстояло проплыть шестьдесят миль, наняли всего лишь небольшую барку с четырьмя гребцами.
По странному совпадению, барка называлась «Герцог Рейхштадтский».
Мы осмотрели остров подробнейшим образом, и все это время нас окружала атмосфера непрерывного праздника. Наполеон для жителей острова Эльба – это божество. За те девять месяцев, что он был здесь государем, он сделал для них больше, чем пожелал сделать сам Господь Бог с того дня, как он поднял их остров со дна морского.
И потому принц Наполеон, живой портрет своего дяди, был с благоговейным восторгом принят всем здешним населением. Губернатор предоставил в его распоряжение свои кареты, своих лошадей и своих егерей. Поскольку мы оба были заядлыми охотниками, то последний из даров губернатора доставил нам огромную радость, и уже на следующий день после прибытия на Эльбу мы отправились на Пьянозу, маленький островок, получивший такое характерное название за свою небольшую высоту над уровнем моря.
Позднее, когда я приступлю к описанию этой части моих путешествий, я расскажу, какой увлекательной и чарующей была для меня эта поездка, да еще вдвоем с племянником императора, на затерянный островок в краю, где все вокруг хранило воспоминания о грозном изгнаннике.
Когда мы плыли туда, на горизонте показалась флотилия; нам удалось насчитать девять кораблей. На гафеле одного из них висел трехцветный флаг… Это была французская флотилия.
Прибыв на Пьянозу, мы занялись охотой, а вернувшись на берег, увидели двух бедных рыбаков, ожидавших нас там. Что им было нужно от нас? Читатель узнает это из нижеследующего письма:
«Ваше Величество!
Когда я подойду к вратам рая и у меня спросят, чем я заслужил право войти туда, я отвечу:
"Не имея возможности творить добро своими руками, я порою призывал на помощь королеву Франции, и всякий раз королева Франции совершала доброе дело, которое я, слабый и ничтожныйу не мог совершить сам".
Позвольте же мне, мадам, прежде всего поблагодарить Вас за ту бедную римлянку, о дочери которой вы позаботились и которая всю жизнь будет молиться – нет, не за Вас, ибо это Ваш удел молиться за других, – а за тех, кто Вам дорог.
И вот 28 июня этого года один из них проплывал вдоль берегов острова Эльба, командуя великолепной флотилией, которая шла, по-моему, с запада на восток, подгоняемая дыханьем Господа; это был Ваш третий сын, мадам, победитель сражения при Сан-Хуан-де-Ульоа, паломник на Святую Елену – принц де Жуанвиль.
Сам я в это время находился на утлом суденышке, затерянном среди бесконечных морских просторов, и глядел то на море, зеркало неба, то на небо, зеркало Господа; затем, узнав, что с этой флотилией у самого горизонта плывет один из ваших сыновей, я подумал о Вашем Величестве и сказал себе: воистину, благословенна среди жен та, старшего сына которой зовут герцог Орлеанский, второго – герцог Немурский, третьего – принц Жуан-вильский, а четвертого – гергоц Омальский, и все они – прекрасные, благородные молодые люди, каждый из которых может присоединить к своему имени название победоносного сражения.
Погруженный в эти мысли, я приплыл к маленькому острову, название которого вряд ли известно Вашему Величеству: он именуется остров Пьяноза. Богу было угодно, мадам, чтобы Вас благословляли в этом забытом уголке земли, и сейчас я Вам объясню, почему.
Там, на этом неведомом островке находились два бедных рыбака, впавших в беспросветное отчаяние: французская флотилия, проходя возле их берегов, зацепила и увлекла за собой их сети, то есть единственное их достояние, лишив единственной надежды их семьи.
Они узнали, что я француз, подошли ко мне и рассказали о своем несчастье. По их словам, теперь они разорены, и, чтобы не умереть с голоду, им остается лишь просить подаяние.
Тогда я спросил их, приходилось ли им слышать о королеве по имени Мария Амелия.
Они ответили, что это их соотечественница и что о ней здесь отзываются как о святой.
И тогда я посоветовал им написать прошение, которое прилагаю к этому письму и которое губернаторы острова Эльба и острова Пьяноза снабдили имеющим законную силу заверением, и сказал беднягам, чтобы они не теряли надежды.
В самом деле, мадам, я не сомневаюсь, что Вы соблаговолите передать прошение этих бедных людей господину адмиралу Дюперре. При Вашей поддержке это прошение возымеет должное действие.
А я, мадам, буду горд и счастлив тем, что мне еще раз удалось стать посредником между человеческим горем и Вашим Величеством».
Подумать только: в тот день, когда умер герцог Орлеанский, в тот час, когда умер герцог Орлеанский, я писал это письмо его матери!!!…
Как только закончился ужин, я попросил у короля Жерома разрешение удалиться: мне нужно было как можно скорее узнать подробности происшедшего, а затем, если роковое известие подтвердится, отгородиться от окружающего мира и побыть наедине с собой. Все, что мне осталось от принца, который любил меня, – это мои воспоминания, и теперь я спешил на свидание с ними.
Принц Наполеон пожелал сопровождать меня. Мы приказали кучеру везти нас в Кашины. Летом, в шесть часов вечера, Кашины становятся местом, где бывает вся Флоренция. Там, разумеется, будут и атташе французского посольства. И от них, конечно же, мы получим официальные сведения…
И действительно, там нам все подтвердили. Как же получилось, что через пять дней после этого события о нем уже стало известно здесь, если почте нужна неделя, чтобы преодолеть расстояние между Парижем и Флоренцией? Сейчас я вам это объясню.
Телеграф донес весть о случившемся до Ле-Пон-де-Бо-вуазена. Там командующий корпусом карабинеров короля Карла Альберта, решив, что о таком важном событии надо без промедления доложить правительству, отправил депешу эстафетой. Так, передаваемая от курьера к курьеру, весть эта перевалила через Альпы, спустилась в Турин и наконец добралась до Генуи. «Генуэзская газета» опубликовала ее в том виде, в каком она была получена по телеграфу, без всяких комментариев или разъяснений, но в колонке официальных новостей. Итак, сомневаться в услышанном не приходилось, и надеяться больше было не на что.
Все были глубоко потрясены. Такова непостижимая власть народной любви: затаенная, полная светлых надежд нежность, которую Франция испытывала к наследному принцу, которая сопровождала его в мирных путешествиях по Европе, в военных экспедициях в Африку, которая встречала его по возвращении домой, каким-то образом преодолела границы, проникла в другие страны и, быть может, в тот день заставила и в Германии, и в Италии, и в Англии, и в Испании самых разных людей почувствовать одинаковую скорбь.
Впору было подумать, что бедный принц, только что ушедший из жизни, был не только надеждой Франции, но и мессией для целого мира.
Но теперь все было кончено. Взгляды, прежде с напряженным ожиданием следившие за ним, были устремлены теперь на его гроб.
Бывало, что мир надевал траур по прошлому; в этот раз он надел траур по будущему.
Оставив завсегдатаев Кашин изощряться в догадках о том, как такое могло произойти, я уехал оттуда. Какое мне было дело до подробностей, если катастрофа в самом деле произошла?
Вернувшись домой, я обнаружил на своем столе письмо к королеве, которое можно было отправить только с посольской почтой, то есть на следующий день, 19 июля, – письмо, в котором я называл ее счастливейшей из матерей.
Мгновение я колебался: стоит ли заводить речь о чужом и, в сущности, не таком уж страшном горе, когда в семье свое горе, тяжкое, глубокое, непоправимое? Но я знал королеву: предложить ей совершить доброе дело означало пролить целительный бальзам на ее душу. Вот только вместо того, чтобы послать письмо на ее имя, я адресовал его герцогу Омальскому.
Не помню, что я ему написал. Такие послания пишутся без черновика, ведь они наполнены сердечной болью и увлажнены слезами.
Следует сказать, что с монсеньером герцогом Омаль-ским я был знаком ближе, чем с его братьями, если не считать наследника престола. Меня представил ему на скачках в Шантийи сам наследный принц.
Наследный принц питал к герцогу Омальскому нежную привязанность и глубокое уважение. Это под его началом юный полковник совершал свои первые шаги на военном поприще, и, когда на перевале Музайя он принял боевое крещение, наследный принц стал его крестным.
Как-то раз, во время одной из тех долгих бесед, когда мы с герцогом Орлеанским говорили обо всем на свете и когда он, устав быть принцем, становился просто человеком, я услышал от него одну из тех волнующих историй, которые в письменном изложении теряют всю свою прелесть; к тому же принц был восхитительный рассказчик, и в непринужденном разговоре его красноречие достигало, если можно так выразиться, самого высокого уровня. Наконец, он умел прервать свой рассказ, чтобы выслушать собеседника, – свойство, нечасто встречающееся у обыкновенных людей, и уж вовсе невиданное у принцев.
В голосе герцога Орлеанского, в его улыбке, в его взгляде было какое-то магнетическое, покоряющее обаяние. Ни у кого, включая и самых обворожительных женщин, я не встречал даже отдаленного подобия такого взгляда и такой улыбки, нигде больше не доводилось мне слышать такой голос.
В каком бы расположении духа ни находился принц, когда вы обращались к нему, всякий раз вы уходили от него совершенно очарованным. Трудно сказать, что вас так пленяло в нем: его ум или его сердце. Должно быть, и то и другое, ибо его ум почти всегда был заодно с его сердцем.
Господь свидетель, что я не говорил всех этих слов при его жизни. Но если со мной случалась беда, я шел к нему; если у меня случалась радость, я шел к нему, и он делил со мной и беду, и радость. В гробнице, на которой я пишу эти строки, останется частица моего сердца.
Вот история, рассказанная им в тот день.
Дело было на берегах Шиффы, накануне того дня, когда предполагалось перейти перевал Музайя. Там происходило ожесточенное столкновение между нашими солдатами и арабами. Наследный принц несколько раз посылал на место схватки адъютантов с приказами; затем потребовалось передать еще один приказ, притом незамедлительно, поскольку бой разгорался все жарче; тогда он обратился к офицерам своего штаба и спросил, чья теперь очередь ехать.
– Моя, – ответил герцог Омальский и шагнул вперед.
Принц взглянул на поле битвы и понял, какой опасности подвергается сейчас его брат. Напомним, что в то время герцогу Омальскому едва исполнилось восемнадцать лет; сердцем это был мужчина, но годами – еще дитя.
– Ты ошибаешься, д'Омаль, сейчас не твоя очередь, – произнес герцог Орлеанский.
Герцог Омальский улыбнулся: он разгадал мысли брата.
– Куда нужно ехать и что нужно сказать? – спросил он, натягивая поводья лошади.
Герцог Орлеанский вздохнул, но он понимал, что честью поступаться нельзя, а принцы должны хранить свою честь еще бережнее, чем другие люди.
Он крепко пожал руку брата и передал ему приказ, который следовало отвезти.
Герцог Омальский галопом взял с места, и вскоре фигура всадника растворилась в дыму, на подступах к полю битвы.
Герцог Орлеанский провожал брата взглядом, пока его еще можно было различить, а потом так и остался стоять не сводя глаз с того места, где он исчез из виду.
Минуту спустя из-за пелены дыма показалась лошадь без всадника. Герцог Орлеанский ощутил, как по всему его телу пробежала дрожь: лошадь была той же масти, что и та, на какой уехал герцог Омальский.
У него мелькнула страшная мысль: его брат убит, причем убит в тот момент, когда он доставлял отданный им приказ!
Он судорожно вцепился в седло, а из глаз его брызнули две крупные слезы и скатились по щекам.
– Монсеньер, – сказал ему кто-то на ухо, – на лошади красный чепрак!
И герцог Орлеанский вздохнул полной грудью: на лошади герцога Омальского был синий чепрак.
Обернувшись, он обнял и прижал к груди того, кто так хорошо его понял. Герцог Орлеанский назвал мне имя этого человека, но оно не сохранилось у меня в памяти. Это был один из его адъютантов, возможно Бертен де Во, или Шабо-Латур, или Эльхинген.
Через десять минут герцог Омальский, целый и невредимый, с отвагой и хладнокровием закаленного воина выполнив задание, вернулся к брату.
Я предупреждал, что в моем пересказе эта история не производит особого впечатления, но когда ее рассказывал сам принц и голос у него дрожал, а на глаза навертывались слезы, она трогала до глубины души.
Ах, если бы мне было позволено описать эту жизнь, такую короткую и в то же время так богатую событиями, и восстановить один за другим каждый из дней, свидетелем которых я был за четырнадцать лет, дней порою мрачных, порою безмятежных, а порою блистательных! Если бы мне дано было право сделать его частную жизнь общественным достоянием – люди преклонили бы колена перед этим добрым, чистым, великодушным сердцем, точно перед алтарем.
Слишком многое ему было отпущено Господом. Небо оскудело, щедро расточив ему свои добродетели. Поэтому Господь прибрал его вместе с ними, и теперь осиротела земля.
Вы только представьте: четырнадцать лет подряд я просил у него то вспомоществования для бедных, то свободы для заключенных, то помилования для приговоренных к смерти, и ни разу, ни разу мне не было отказано в моей просьбе.
Этот человек был для меня всем, хотя для себя лично я у него ничего не просил![47]
Люди приходили ко мне в поисках правды, иногда предъявляя какие-то требования, иногда обращаясь с просьбами; приходили вступиться за своих товарищей старые боевые вояки и юные школяры.
– Хорошо, – говорил я им, – в первый же раз, как увижу принца, я поговорю с ним о вас.
И их желания исполнялись, если, конечно, это не противоречило справедливости.
Ибо точность суждений была свойственна его уму в той же степени, как спрведливость – его сердцу; доброта соединялась в нем с величием. Он был отзывчив, как Генрих IV, и проницателен, как Людовик XIV.
Я написал не только герцогу Омальскому, но и королеве; разумеется, не для того, чтобы попытаться ее утешить, – избави Бог! Даже в Библии сказано, что для матери, потерявшей ребенка, нет утешения. Рахиль не хочет утешиться, ибо ее детей больше нет. (Et noluit consolari quia non sunt.)
В моем письме было, если не ошибаюсь, четыре строчки. Вот что я ей писал:
«Плачьте, мадам, плачьте. Вся Франция плачет вместе с Вами.
В моей жизни было два горя: первое я испытал в тот день, когда потерял мать; второе – в тот день, когда Вы потеряли сына».
Супруге наследного принца, герцогине Орлеанской, вдове, лишившейся одновременно и мужа, и трона, я, помнится, не написал ничего и ограничился тем, что послал ей такую молитву для ее сына:
«О отец мой, пребывающий теперь на небесах, помогите мне стать таким, каким Вы были на земле, и я не попрошу у Господа ничего другого для того, чтобы снискать славу самому и дать счастье Франции».
Два слова об этом ребенке и об августейшей вдове. Второго января нынешнего года я пришел к наследному принцу, чтобы поздравить его с Новым годом. Поговорив со мной несколько минут, он спросил:
– А вы знакомы с графом Парижским?
– Да, монсеньер, я уже имел честь дважды видеться с его высочеством, – ответил я и напомнил принцу, при каких обстоятельствах это произошло.
– И все же, – продолжал принц, – я сейчас пошлю за ним, чтобы вы могли поприветствовать его.
Он вышел и минуту спустя вернулся, ведя сына за руку; затем, подойдя с ним ко мне, он произнес серьезным тоном, который всегда придавал его дружеским шуткам такое очарование:
– Подайте руку этому господину: это друг папы, а у папы не так уж много друзей.
– Это не так, монсеньер, – возразил я. – В отличие от других наследных принцев, у вашего высочества есть друзья, но нет прислужников.
Герцог Орлеанский улыбнулся; по знаку отца граф Парижский подал мне свою маленькую ручку, и я поцеловал ее.
– Что вы пожелаете моему сыну? – спросил меня принц.
– Как можно позже стать королем, монсеньер.
– Вы правы. Это скверное ремесло!
– Я не потому так сказал, монсеньер, а потому, что он может стать королем только после смерти вашего высочества.
– О, я могу умереть хоть сейчас, – произнес он с грустью, которая так часто появлялась на его лице и звучала в его голосе. – Мать сумеет воспитать его так, как если бы я был рядом с ним.
Затем, показав на спальню герцогини, словно ему было видно сквозь стены, где именно она находилась, он сказал:
– Мне удивительно повезло.
Думаю, просто невозможно испытывать большее уважение, большую нежность, большее почтение и большее доверие, чем те чувства, какие герцог Орлеанский испытывал к герцогине. Он нашел в ней часть тех высоких достоинств, какими обладал сам. Когда он говорил о ней, а это случалось часто, тихая радость переполняла его сердце, как вода переполняет сосуд.
Вернемся, однако, во Флоренцию.
Вечером того же дня я отнес три траурных послания в посольство. Когда я вошел к г-ну Беллоку, он был весь в слезах. Ему еще не прислали официальной депеши, но, зная, что «Генуэзская газета» обычно оказывается самой осведомленной газетой в Италии, он не сомневался в правдивости полученного сообщения.
Таким образом, я вернулся домой, еще более уверившись в этой страшной правде.
В письме королеве я написал, что только дважды в жизни испытал горе. Так оно и было. Я мог бы еще добавить, что в первом горе я был не одинок: когда умерла моя мать, наследный принц выразил мне самое нежное участие. Вот как получилось, что имена двух дорогих мне существ, которые теперь видятся мне оба, когда я обращаю взор на небеса, оказались связаны в моих воспоминаниях одно с другим.
Первого августа 1838 года меня известили, что у моей матери случился второй апоплексический удар. (Первый у нее был всего за три дня до представления «Генриха III».)
Я бегом бросился в Рульское предместье, где жила моя мать, и застал ее лежащей без сознания.
И однако, вняв моим крикам, моим слезам, моим рыданиям, а главное, чутью материнского сердца, которое умирает в матери лишь после ее смерти, она с Божьего соизволения открыла глаза, посмотрела в мою сторону и узнала меня.
Это было все, о чем я осмеливался просить в первые минуты; но когда мне была дарована эта милость, я попросил о чуде: я попросил, чтобы моя мать осталась жива.
Если когда-либо сын возносил горячие молитвы и проливал слезы отчаяния, склонившись над умирающим, то я могу сказать, что это были молитвы, которые возносил я, и слезы, которые текли из моих глаз, когда я склонился над моей матерью.
Однако на этот раз я, наверно, просил слишком многого, и Господь отвратил лик свой: страшное развитие болезни было заметно каждую минуту.
Мне нужно было излить кому-нибудь душу. Я взял перо и написал о случившемся наследному принцу. Почему именно ему, а не кому-либо другому? Да потому, что я любил его больше, чем кого-либо другого.
Я написал ему, что у одра умирающей матери я молю Бога сохранить ему отца и мать.
Отослав письмо, я вернулся на свое место и вновь стал смотреть на любимое лицо, на котором отражался ход агонии.
Час спустя перед домом остановилась карета; я не услышал, как она подъехала.
Чей-то голос произнес:
«От наследного принца».
Я встал, вышел в соседнюю комнату и увидел там придворного лакея, обычно вводившего меня в покои принца.
– Его высочество, – обратился он ко мне, – желает справиться о здоровье госпожи Дюма.
– Ах! Ей плохо, очень плохо: она обречена. Скажите ему об этом и поблагодарите его.
Вместо того чтобы немедленно отправиться с этим поручением, лакей на секунду замер в нерешительности.
– В чем дело, друг мой? – спросил я его.
– Видите ли, сударь, я не знаю, как вам об этом сказать, но если не скажу, вы, быть может, рассердитесь. Дело в том, что принц здесь.
– Что значит «здесь»?
– У ваших дверей, в карете.
Я выбежал на улицу. Дверца кареты была открыта. Он протянул мне обе руки, и я, уронив голову ему на колени, заплакал.
Сначала он подумал, что мать живет со мной, на улице Риволи. Он приехал туда, поднялся на пятый этаж и, поняв, что меня там нет, добрался до тихой улочки в Руль-ском предместье.
Он сказал мне все это, чтобы оправдаться за свой поздний приезд – бедный принц с благородным сердцем!
Не знаю, сколько времени я оставался рядом с ним.
Знаю только, что ночь была ясная и светлая, и в окно противоположной дверцы кареты я сквозь слезы видел сияющие на небе звезды.
Полгода спустя настал его черед плакать, и мне пришлось отдать ему печальный визит. Принцесса Мария, умершая в тот момент, когда она рисовала надгробие, отправилась на небеса, чтобы возвестить там его скорый приход.
И вот сегодня нам приходится оплакивать его.
Ах! Смерть выбирает лучших, и она никогда не ошибается.
Я рассказал вам о первом большом горе в моей жизни.
Бедный принц! Надо сказать, редко кто смотрит в грядущее с таким недоверием, как смотрел он; впору было подумать, будто еще в раннем детстве ему было откровение, что он долго не проживет. Сколько ни твердили все кругом, что его ждет великое будущее, сам он не переставал сомневаться в этом.
Я прибыл в Париж через несколько дней после покушения, совершенного Кениссе, и поспешил в павильон Марсан. Обычно туда был мой первый визит по приезде в город и последний перед отъездом.
– А! Вот и вы, вечный странник! – сказал мне принц.
– Да, монсеньер. Сегодня я пришел по особому поводу: хочу выразить вам сочувствие в связи с новым посягательством на жизнь нашего юного полковника.
– А! Да, в самом деле. Что ж, – сказал он, смеясь, – видите, какое воздаяние получают принцы в тысяча восемьсот сорок первом году от Рождества Христова.
– Однако Провидение неустанно заботится о том, чтобы подобное воздаяние миновало вас. А значит, ваше высочество должно оставить все опасения, – ответил я.
– Да, да, – пробормотал принц, машинально взявшись за пуговицу моего фрака, – да, Провидение хранит нас, в этом нет сомнений. И все же, – со вздохом продолжал он, – и все же, поверьте, это так печально, когда ты жив лишь благодаря чуду!
И вот Провидение ослабило свои заботы.
Утром следующего дня я получил письмо от нашего посла.
В этом письме содержалась депеша, которую г-н Беллок только что получил по телеграфу:
«Сегодня утром, в одиннадцать часов, наследный принц выпал из кареты; вечером, в половине пятого, он скончался.








