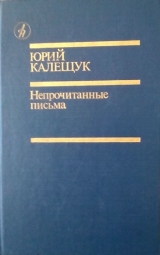
Текст книги "Непрочитанные письма"
Автор книги: Юрий Калещук
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 41 страниц)
ГЛАВА ВОСЬМАЯ. СЕГОДНЯ И ЕЖЕДНЕВНО
С той поры как Шиков уехал с десятого номера, прошло чуть больше месяца. Наверное, это немало. Во всяком случае, от его нерешительности и вялого прожектерства почти ничего не осталось, и причиной тому была, скорее, та нежданная ответственность за буровую, которая свалилась на него. Теперь он знал, что есть вещи, которые зависят только от него, от его знания, интуиции, расторопности и терпения, умения предугадывать события и умения ждать, ладить с людьми и отдавать им распоряжения. Что-то сохранилось в нем еще от того лихого помбура, каким был он, наверное, в вахте Зульфира, но уже он знал, что в игре, которая называется «Делай, как я», ему недолго быть первым, и знал еще, что дело не только в том, чтобы быть первым, а в том, чтобы стать нужным, необходимым, а это возможно лишь тогда, когда в тебя поверят; мы в него поверили.
Хотя нет, не так это было, не совсем так, не сразу.
Не важно, в конце концов, что по прямой до моря тридцать километров, – река, петляя, проходит сто, пока отыскивает стоки и русла.
К Шикову каждый относился по-своему. Гриша принял его, пожалуй, скорее других, но и в том была простодушная предусмотрительность, неумирающее желание доказать, что было, было, может быть, все – иная работа, иные отношения. И тут уж не для себя он старался: девятнадцатилетний скептик Вовка Макаров – вот кому важно было это доказать. Вовка встретил нового мастера настороженно; Калязин, для которого уже давно начальники любых рангов четко подразделялись на две категории – на тех, кто может перевести его в бурильщики, и на тех, кто не может, – решил, что Шиков наверняка не может, и утратил к нему интерес; Морозов был доброжелательно-снисходителен и всерьез Шикова не принимал – но он и к Панову относился почти так же.
И все же существенным было вот что: при всей неопределенности сроков назначения и полномочий сменного мастера для Шикова это было реальное дело – в том смысле, что оно позволяло реализовать себя, – и здесь было достаточно простора и для тревоги, и для любопытства.
Слишком часто, задыхаясь в вечном конфликте желаемого и возможного, объясняя свои неудачи и свою неудовлетворенность, мы склонны обвинять неуправляемость обстоятельств, подчиненность неумным людям и скоротечность времени. Мы привыкли искать себе оправдания и так преуспели в этом, что уже не задумываемся: да в том ли дело? в том ли? Мы словоохотливо объясняем: нас вяжут по рукам и ногам обстоятельства, стреноживает время, подстерегают неудачи, а чемодан с рукописями украден в троллейбусе на остановке «Серебряный бор», – но время мы сожгли в бесплодной болтовне, а сделать так нас заставило наше неумение делать иначе, а рукописей никогда не было – ни листа, ни строчки. Шиков знал, что у него не больше недели – и все было до него и будет после него, стоит ли начинать? Но эта неделя была его...
До проекта осталось шестьсот метров и все интервалы с отбором керна. Мы сидим в балке мастера и считаем: здесь вахта, здесь четыре вахты, здесь две... Нормально! На месяц раньше срока можем закончить скважину!
– На три недели...
– На месяц! – Шиков резко проводит карандашом по бумаге, ломается стержень, карандаш выскальзывает из рук и закатывается под железную кровать Панова. Шиков шарит под нею и вдруг вытаскивает тяжелый ящик с задравшейся крышкой.
– Глядите... Да тут целый клад!
– Склад?
– Пожалуй, склад...
Промасленные железные банки тушенки стояли плотно, одна к одной, как патроны в обойме. А сверху в накат уложены стеклянные литровки компота. Шиков сжимает усики металлического кольца, открывает крышку. «Ассорти».
– Так он про консервы не говорил, – задумчиво произносит Гриша. – Он про хлеб говорил. Хлеба, мол, нет ни крошки. И верно – хлеба ни крошки.
Варфоломеич открывает вторую банку.
– За здоровье Панова!
Мы смеемся, прихлебываем компот, а Гриша все не может успокоиться, крутит головой, бормочет:
– А как говорил! Как говорил!..
– Артист, – вторит Калязин. – Штирлиц.
– Начальники – они все такие, – авторитетно заявляет девятнадцатилетний скептик Вовка Макаров. – Им нужно, чтоб люди были как болгарские помидоры: один к одному, кожура толстая, а внутри вода.
Шиков валится на кровать, дрыгая ногами от восторга. Варфоломеич одобрительно поглядывает на Макарова.
– Ну, Вовка! Крой! Хотя и без козырей, но масть длинная!
– Всякие люди бывают, – осторожно замечает Гриша. – Мой отец, к примеру, так он...
– И что – отец? – распаляется Вовка. – Тебе он – отец, другому – Иван Иваныч. И каждый – за себя, и каждый – только о себе!
– Вот это ты зря, Вовка, – морщится Варфоломеич.
– Зря, – повторяет Гриша.
Кто-то тяжело бежит по заледенелым доскам, распахивается дверь – Морозов. Молча подходит к столу, берет початую банку компота, жадно пьет, и липкие струи стекают по подбородку. Потом говорит – буднично и скучно:
– Инструмент оборвался.
– Так. – Шиков невольно встает с места.
– Упало давление. Пошли на подъем. Подняли четырнадцать свечей. На пятнадцатой – инструмент ка-ак прыгнет! И все. Тыща триста с чем-то метров на забое. Промыло резьбу – по ней и обрыв.
– Так, – снова повторяет Шиков и тянется к рации: надо сообщить на базу.
– Да погоди ты, – останавливает его Варфоломеич. – Успеешь. Ты сначала попробуй поймать инструмент, навернись, восстанови циркуляцию, а потом докладывай.
– Тогда и докладывать будет нечего.
– А я о чем говорю?
– Виктор, – спрашивает Гриша. – А ты сразу пошел на подъем, когда давление упало?
Морозов нехотя, через силу произносит:
– То-то и оно, что не сразу. Не заметил я сразу. Всухую бурил.
– У тебя же вахта молодая, неопытная, – понимающе говорит Шиков. – Конечно, могли не уследить...
– При чем здесь вахта? – морщится Морозов. – Я проглядел. Точка.
– Все дело в растворе, – говорит Гриша. – Разве там стенки? Они же поползли. Инструмент прихвачен – тут и говорить не о чем.
– Не каркай, Гриша, – отмахивается Шиков.
– Все нам припомнится, – продолжает Гриша. – И то, что трубы, как дрова, волокли. И то, что...
– Гриша, – говорит Шиков. – Допустим, ты прав. Ну, а что с того, что сейчас ты прав? Раньше думать надо было...
– Это ты мне говоришь? – Гриша поднимается. – Пошли, Виктор. Будем ловить инструмент.
– Обойдусь, точка.
Поймать инструмент – заменить бракованную трубку и, спустив свечи до контакта с оставшимися на забое, навернуться осторожным вращением ротора – удалось относительно быстро. Но это ничего не дало. Гриша оказался прав: инструмент был прихвачен, сжат обвалившимися стенками скважины. Ствол перестал быть желобом для инструмента, а превратился в ловушку. Это уже авария, и Шиков настроил рацию, принялся вызывать «горку». База дала ряд уклончивых указаний: промыть скважину, пытаться освободиться, но нагрузок больших не давать и ротором, сохрани боже, не крутить...
Полоска тумана метра три высотою: фонарь соседней буровой вышки виден, только когда стоишь на «погулянке». Балки размыты, их затопило сероватое молоко. Тени заиндевевшего вездехода и трактора мертво застыли у крайнего балка.
Это октябрьский полдень.
Гриша молча ходит вокруг ротора – бездействие угнетает его еще больше, чем отсутствие результата, – потом решительно становится к тормозу. От лебедки поднимается запах паленой шерсти, пол вздрагивает под ногами, беснуются стрелки гидравлического индикатора веса, но инструмент неподвижен.
– Осторожнее, Григорий, – шепчет Калязин.
Тот, конечно, не слышит, но словно откликается:
– Вот только сейчас...
Он включает ротор. Снова пахнет паленой шерстью – Гриша увеличивает нагрузку. Нет, бесполезно. Гриша в сердцах вырубает ротор, и тут...
Все это заняло мгновение – квадрат стремительно раскрутился в замер, но буровой шланг и тали были уже переплетены, перекручены, словно моток ниток, которыми всласть поиграл полный сил и жизнерадостного нетерпения молодой котяра.
Гриша недоуменно смотрит на Калязина, тот на Гришу.
– Пружина, – неожиданно сообщает Вовка Макаров. – Конец прихвачен, и вращение ротором не давало вращения инструменту, он только пружину набирал. А когда ты ротор выключил, пружина распрямилась.
– Верно! – радостно говорит Гриша, хотя, вообще-то, радоваться нечему. – Чувствуется школа Калягина.
– Да он учился, когда я уже не преподавал в этом проклятом ПТУ, – бурчит Калязин. – Вечно ты, Григорий...
– Скромничаешь, Калязин. А ты молодец, Вовка. Сразу догадался... Дал я маху. – Он запрокидывает голову, разглядывая путаницу тросов и шлангов. – Да-а...
– Может, попробовать вспомогательной лебедкой? – предлагает Калязин. – Зацепить кермак...
– Где ты его зацепишь? – грустно говорит Гриша.
– Нет, не удалось Артему устроить брата в депо, – разочарованно произносит Шиков. – Все-таки крутанул ротором? Не удержался?
– Не удержался...
– Что ж, внес разнообразие в унылые аварийные будни. А то подумаешь – прихват. Прихватов мы не видали? Видали. А вот такое, Гриша, я в первый раз вижу.
– В последний. – Гриша поворачивается к Калягину: – Подашь мне трос. – И идет к трапу, ведущему на полати.
Но до полатей не доходит. Пройдя три или четыре марша, поравнявшись с буровым шлангом, он перелезает ограждение и, примерившись, прыгает на шланг, цепляясь за его металлическую оплетку. Все это происходит на пятнадцатиметровой высоте.
– Сегодня и ежедневно, – замечает Шиков. – Выступление воздушного акробата Григория Подосинина с труппой ученых помбуров.
Гриша спускается по шлангу на вертлюг, обмотав вокруг него несколько витков троса, сбрасывает вниз петлю и по штанге квадрата соскальзывает на ротор.
Шиков облегченно вздыхает.
– Бурные аплодисменты, переходящие в нотацию.
Кермак – в петлю, ворчит вспомогательная лебедка, и через десять секунд тали на месте. Шланг тоже на месте.
– Неплохо бы, конечно, Гриша, – задумчиво произносит Шиков, – накостылять тебе по шее... Ладно, потом. В свободное от работы время. Сейчас нам предстоит менее вдохновенное занятие. Попробуем ввести графит и поставить нефтяную ванну.
Но и это не приносит удачи.
– По-моему, где-то еще пробита резьба, – говорит Шиков. – Не доходит нефть до пробки. Надо бы ниже попробовать отвернуться...
– И я так думаю, – говорит Гриша.
– Думаешь-то ты правильно, – вздыхает Шиков. – А вот делаешь... Ну, дернул тебя черт ротор включать, а? Так и этого ему было мало – он еще цирк устроил. Считаешь, ты и в самом деле от обезьяны произошел? Тоже мне, основа дарвинизма.
– Так я что? – оправдывается Гриша. – Дал маху, верно. А после-то – иначе же нельзя было. Иначе мы бы вахту провозились, распутывая таля. Я виноват – вот и полез. И потом – что тут особенного? Разминка. Я могу по оттяжке на кронблок подняться. Свободное дело. Не веришь, Володя? Спорим?
– Валяй. Только оттуда уже не спускайся. Сиди на кронблоке и учи правила техники безопасности.
– Не, я бы так не сумел, – говорит Вовка Макаров. – Когда ты на шланг прыгать стал, я просто глаза зажмурил...
– А кто бы сумел? – подтверждает Калязин. – Я ни одного бурильщика не знаю, который бы такое сумел. А этот...
– И все-таки стоило накостылять тебе по шее, – повторяет Шиков. – Пришлось бы, правда, на ротор вставать, а это тоже нарушение...
– Вообще-то, Григорий, ты бы осторожнее, – говорит Калязин. – Осторожнее, вообще-то. Все ж таки – буровая. Комплекс механизмов.
– А я думал сначала, – добродушно говорит Шиков, – что буровая – это механизированный эшафот. Серьезно. Когда первый раз на буровую попал – так и подумал. Во-первых, что? Подцепили мужика элеватором – и наверх: гляди на белый свет, радуйся в последний раз. Потом через мельницу – и в раствор. Прогнали три-четыре цикла от устья до забоя – и все время жмут: «Говори! Говори только правду!»
– А что он должен сказать? – оторопело спрашивает Калязин.
– Кто?
– Ну, тот мужик.
– Какой?
– Ну, тот.
– О чем ты, Калязин?
– Ну тебя! Опять: то один, то другой...
– Что про тринадцатый слышно, Володя? – спрашивает Гриша.
– Шестьдесят пять метров до проекта. Это на восемь утра было. Наверное, уже добурили...
– Наверное.
А у нас – без перемен. Все те же шестьсот до проекта. Вахте Уразумбетова удалось отвернуться на восемнадцатой свече. Заменили еще одну бракованную трубку. Снова состыковались. И снова принялись закачивать нефть. Удельный вес раствора упал. В желобах лопаются маслянистые пузыри. Прошел еще день.
В три часа ночи инструмент оторвался от забоя и вязко пополз вверх...
К вертолету спешат и исчезают в снежном тумане пятеро – вахта Уразумбетова летит на отгулы.
– Вот теперь и мы скоро... Когда эти вернутся.
Едва вертолет улетает, поднимается метель. Сначала кажется даже, что это никак не могут уняться, вернуться на землю взбаламученные винтами снежные крошки. Но вертолета уже давно не слышно, а снег метет, метет, метет...
– Опять нам, Гриша, через восемь, – говорит Морозов. – И теперь, наверное, надолго.
Пока не прилетит вахта Ослина. А она не прилетит, пока не установится погода.
Ломы, лопаты, кувалды, секач, крючки, квачи, щетки, шаблоны, фильтры, цепные ключи.
Та-ак. Граненого лома нет. Наверное, остался на приемном мосту. А точнее? И куда запропастилась кувалда с деревянной ручкой? Ручка сломалась? Вам только дай что в руки. Вы бы и железную сломали...
Время берет свое – теперь при приеме вахты я становлюсь ворчлив, как Панов, и занудлив, как Калязин.
...Ну, тебе бы я этот лом даже подержать не дал. Знаешь, что это за лом? На нем Игорь плавал, понял? Так-ак. Секач... Ага, вот он. Надо заточить. Одного короткого крючка нет. Между прочим, это самый удобный крючок. У превенторной головки? Зачем он вам там понадобился? Поди и принеси. Ну и лезь под буровую. Да не морочь мне голову! Когда ты будешь принимать у меня вахту – тогда я принесу. Качай-качай. Да не буду я бурильщику говорить! Я просто не приму у тебя вахту – и все. Та-ак... Как этот здоровенный ключ называется? «Вулкан». А ты думал – «Слон»? Тоже ничего. Ты поднять его можешь? Ну вот, а говорил – можешь. Его только Гришка поднимет. Или Петро. Морозов? Морозов, пожалуй, тоже осилит... Машинный ключ... Ну, от машины тут только название. Трещин нет, та-ак... Пальцы зашплинтованы. Рабочий канал – есть. Страховой – вот он. Зажимы, зажимы... Раз, два, три... Нормально. Та-ак... Этот сухарь надо заменить. Ладно, это я сам. Ну, все.
Через восемь часов мы встречаемся снова, и лента разговора разматывается в обратном порядке.
Розовощекие мальчики морозовской вахты обзавелись бородками, говорят медлительными густыми голосами. Мой сменщик деловито пересчитывает ломы и лопаты, по-хозяйски перевешивает поближе запасные шпильки элеватора – правильно, сейчас подъем будет, – уверенно выбирает и кладет на подсвечник короткий крючок. Через восемь часов, в полночь, он снисходительно бросает мне: «Пока!» – и уходит степенной неторопливой походкой. В восемь утра я снова сдаю ему вахту, он добр и розов, с любопытством разглядывает синеватые столбики керна, нюхает их, пытается провести ногтем по шершавой поверхности породы. «Песчаник! – небрежно заявляет он. – Коллекторные пласты!» В четыре часа, передавая мне шланг с паром, он сообщает: «На левых козлах две трубки – не бери. Резьбы сбиты, я проверял». В полночь он спрашивает: «Сколько пробурили?» – и я отвечаю: «Тридцать семь метров двадцать сантиметров». Идет медленное бурение, мы считаем уже и сантиметры. В восемь утра он только машет рукой и спускается по трапу, переставляя ноги, как ватные; в четыре я различаю его с трудом, а он улыбается, поглаживая бородку, но в полночь спрашивает сиплым голосом: «Не прилетели?»
Нет, не прилетели.
День, ночь – эти понятия давно утратили для нас всякий смысл. Вахта и не вахта – вот два состояния, в которых мы пребываем. В какой-то из дней мы идем после ночной смены – вернее, не идем, а бредем – и видим, как приоткрывается светлый край неба и что-то сверкает, предвещая солнце.
– А мы этого солнца не увидим, – говорит Вовка Макаров, раскладывая спальный мешок. – Когда мы снова встанем на вахту, солнце уже зайдет...
Дома Калязин с недовольным видом разглядывает свое лицо в маленькое зеркальце от бритвенного прибора. Снимает сапоги и, постучав нога о ногу, забирается в спальник, накрывается с головой, утробным, гнусавым голосом напевая:
– Ну, что ей до меня? Она была в Париже. И я вчера узнал – не только в нем одном...
– Калязин! – восторженно кричит Вовка Макаров. – Ты меня заколебал!
– Ничего, Вовка, – откликается Калязин. – Увидим мы еще солнце... Увидим... Вот прилетит вертолет...
В четыре идем по мосткам, держась друг за друга. Ничего не видно. Метель.
Метров двадцать все-таки пробурили. Скоро второй интервал с отбором керна: разве этого мало?
Стоило нам побурить немного, как снова все стало хорошо и появилась надежда, что скважину мы вот-вот закончим – ну и ладно, что «через восемь», ну и ладно, что задержка с перевахтовкой. Зато побурим, зато скважину сдадим с ускорением, а улетать на отгулы будем уже с десятого номера, там и аэропорт под боком, база рядом – центр! Что же еще нам надо?..
«Что же нам надо? – шепчу я, прислонившись к свече и глядя, как над стрелой тракторного крана замер стылый осколок солнца. – Что?» Я смотрю минуту, пять, десять и не могу понять, поднимается солнце или опускается, не могу вспомнить, в какую вахту мы вышли, в утреннюю или дневную, и что означает это солнце – восход или закат, начало вахты или ее конец. «Что же нам надо?» – хочу спросить я у Гриши, подхожу к нему и слышу, как Калязин хрипло кричит:
– Надо пойти воду качнуть! А то стемнеет скоро – к центробежке не проберешься! Пойти качнуть воду надо!
Гриша оторопело глядит на Калязина.
– Ты чего? Солнце только взошло. Да и мы еще двух часов не отпахали. Мы же с утра сегодня. Ты чего, Калязин?
Калязин обескураженно молчит, потом легонько отстраняет Гришу от тормоза, перехватывает рукоятку.
– Дай, я немного, а?
– Ну.
– Калязин умолкает и будто каменеет даже. О чем вспоминает он, когда рука его трогает эту дурацкую палку – тормоз лебедки? Прошедшие вахты? Ненаступившие вахты?
Когда появляется смена, я по привычке начинаю перебирать ломы, лопаты, крючки, фильтры, шаблоны, но розовый мальчик останавливает меня и радостно выпаливает:
– Они прилетели! На «горке» уже! Сюда вездеходом едут! Живем!
– Живем.
Теперь, когда впереди целых шестнадцать часов отдыха, мы неожиданно открываем, сколь разнообразен наш досуг. Можно, как Гриша, мастерить галоши из толстой резины неизвестного происхождения и назначения. Можно, как Калязин, ломать голову над дилеммой: сначала поспать, а потом заштопать брезентовку, или сначала зашить, а потом поспать? Можно, как Вовка, нажать клавишу магнитофона и уткнуться в смятый обрывок газеты, завалявшийся на дне рюкзака: «Год назад Одесский пивоваренный завод № 2 снял с расчетного счета Кодымского райпотребсоюза полторы тысячи рублей – за отгруженное пиво: 2640 бутылок в 132 ящиках. Кодымчане ждут пиво. Ждут месяц, ждут два... Пива нет. И денег тоже. Запросили завод. Ответ был лаконичным: «Завод деньги за пиво получил, а где само пиво, нас не...» Обрыв. Жалко. Интересный сюжет. Гриша говорит:
– Может, к Шикову сходим? Давно не были.
– Давно.
Кажется, месяц прошел. А ведь всего шесть вахт, четверо суток.
– Приехала вахта, Володя? – спрашивает Гриша.
– Приехала, – отвечает за Шикова Варфоломеич, а тот только машет рукой, неопределенно и незаконченно.
– Что-нибудь случилось? – тревожится Гриша. – Что?
– A-а... Вахта... – цедит Шиков. – Глаза б на них не глядели...
– Ослина они где-то потеряли, – поясняет Варфоломеич. – То ли в Салехарде отстал, то ли в Каменном набрался.
– Придется, – с усилием говорит Шиков. – Придется, Гриша, опять через восемь выходить. Вахта есть – и вахты нет. Бурильщика нет. Ну, Ослин... Погоди, – перебивает его Гриша. – А кроме бурильщика – все на месте?
– Все, – отвечает Варфоломеич. – Один даже лишний. Новенький, с «горки». Какой-то солдатик.
– Тогда вот что, – говорит Гриша. – Солдатика давай в мою вахту. Бурильщиком в ослинскую ставь Калязина.
– А я что ему говорю! – восклицает Варфоломеич.
– Ну, как я его поставлю? – растерянно говорит Шиков. – Гаврилыч его не ставил, Панов не ставил – а я поставлю.
– Когда-то же надо его ставить, – продолжает Гриша. – Его же бурильщиком в экспедицию брали... Ты мастер. Решай.
– А я что ему говорю!
– Мастер, – вздыхает Шиков. – Не успел на буровую прилететь – авария. У Гаврилыча не было, у Панова не было, а я только прилетел – и сразу прихват. Не-ет, – решительно говорит Шиков, поднимается и идет с нами.
Калязин так и не решил дилемму. Он и шить вроде начал, нитку в иголку вдел и два стежка положил, потом бросил шитье и в спальник зарылся.
– Калязин, – говорит ему Шиков. – Слышишь, Калязин? Тебе с полуночи выходить...
– Зачем? – не сразу отвечает Калязин. – Вахта же прилетела.
– Бурильщик не прилетел. Ты пойдешь бурильщиком.
Калязин вскакивает, глаза вытаращены.
– Бурильщиком? А это... А это... Пожалуйста! – радостно кричит он. – Пожалуйста!
– Спи давай. Прости, что разбудил.
– Сейчас-сейчас... – Калязин тянется за брезентовкой, берет иглу и. снова принимается шить. – Сейчас...
– Спи, – говорю я ему. – Уже семь вечера.
– Успею... Ты меня разбуди, а?
– Разбужу. И чайком побалую.
– Вот-вот.
Мы меняем его в восемь утра, на ногах он еле держится, но с буровой уходить не торопится, все пытается что-то втолковать Грише, ревниво вглядывается, как тот начал подъем, инстинктивно подергивает плечами, когда муфта всплывает над ротором и пора включать автоматический ключ, мотает головой, показывая, куда ставить свечи, и в конце концов Гриша не выдерживает:
– Шел бы ты спать, Калязин! Что ты топчешься, как черт по бочкам?..
Он уходит, ворча и оглядываясь, а к концу вахты появляется снова:
– Решил днем осмотреть, как тут и что. А то ночью видно плохо, да и во время вахты не всегда возможность есть...
Через несколько дней доберется до буровой Ослин, и Калязину снова придется вернуться в помбуры, – но ведь это будет только через несколько дней.
– До чего же ты любознательный, Калязин, – вздыхает Гриша.
– Школа Григория Подосинина.
– Ладно тебе.
Оба они смеются, и мы с Вовкой Макаровым смеемся. Солдатик ничего не понимает, но, глядя на нас, тоже принимается хохотать.
Пусть смеется. Мы ему потом объясним.







