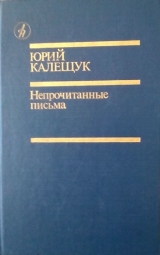
Текст книги "Непрочитанные письма"
Автор книги: Юрий Калещук
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 41 страниц)

Калещук Юрий Яковлевич
Непрочитанные письма

МЕСЯЦ УЛЕТАЮЩИХ ПТИЦ
ГЛАВА ПЕРВАЯ. КОРАБЛИ НА РАССВЕТЕ
– Пошли в аэропорт, ага? – снова предполагает Годжа. – В футбол сыграем...
За окнами туман, не виден даже пузатый стакан емкости для дизтоплива, который всего-то метрах в тридцати. Вездеход, увязший по фары, похож на перевернутое корыто, брошенное в затухающий костер, – над ним поднимаются ленивые белесые клубы. До аэропорта – четырех ржавых балков, неловко, прилепившихся друг к другу, небрежно укатанной песчаной полосы вдоль берега моря и скворечни-диспетчерской с высокой антенной – полкилометра по пружинящему брезентовому рукаву, через который качают соляр.
Холодно и сыро; мы лежим, зарывшись в спальники, и ждем, когда закипит чайник. Сквозь туман с буровой доносятся глухие нервные удары.
– Погода нелетная, бортов не будет, ага. Прямо на полосе и сыграем.
– Да не дойти сейчас до порта, Годжа.
– Вот еще. Толян каждый день ходит. Он же в порту живет. Рядом с радистами... – Годжа вздыхает и, выпроставшись из спального мешка, пытается натянуть мокрые сапоги. – Прошлый раз они Баку поймали... Чисто-чисто было слышно. Сводку погоды передавали. «Температура воды в Каспийском море – двадцать пять градусов»! Представляешь?
Под вялое шипение чайника я встаю, открываю пачку вьетнамского чая. Годжа гремит ведром, доставая из него масло, хлеб и консервы, – и в тамбуре тотчас же поднимается суматоха, нетерпеливо скулит и скребется в дверь коротконогое патлатое существо, в котором трудно пока предположить собаку.
– Пошли в порт, Ева. – говорит, открывая дверь, Годжа. – Я тебя с Нордом познакомлю.
Резко взмывает рев дизелей, дробно ударяясь о стекла. Годжа прислушивается.
– Опять подъем начали... Никак эти сто метров непропороть! Неделю топчемся. Почти две тысячи отпахали – а сотню взять не можем...
Ну вот: еще сто метров, еще две тысячи, вира – майна, устье – забой, работа, до работы, после работы – одно и то же на севере и на юге, на западе и востоке, в стихах и прозе, в пустыне и за Полярным кругом. Меня не было здесь, когда турбобур, сдирая мох и разбрасывая мерзлую землю, прошел самый первый метр, но, быть может, и впрямь в этом нет ничего необычного – в конце концов, в тот же день я в то же мгновение от разных причалов без нас уходили корабли, и ширилась непреодолимая полоска тусклой воды, и вот уже не дотянуться – не хватает рук, и вот уже не увидеть – не хватает взгляда, а нас с вами не было ни на причалах, ни на кораблях, и мы даже не знали, что корабли уходят...
– Робу получил? – заглядывает в дверь мастер. – Держи каску. Вишь, какую я тебе сыскал – белая.
– Как у этих, в кино, – восхищенно говорит Годжа.
– Или у тех? – насмешливо произносит мастер. – А? Поглядим, какой она после вахты станет. Теперь вот что, – он протягивает мне замусоленный обрывок плаката, – запомни это, чтоб без никаких. Осознал?
«Обязательный минимум проверки состояния техники безопасности при приеме-сдаче вахты, – читаю я. – Третий помощник бурильщика (буровой рабочий). Работы запрещаются, если: а) машинный ключ – имеются трещины на теле ключа; растянуты шарниры челюстей, пальцы шарниров не...»
Выходить будешь с четырех, в вахте Подосинина.
«...не зашплинтованы; нет вертлюгов крепления рабочего и страхового канатов; отсутствует...»
– Осознавай. До вахты два часа.
Белая каска не дает Годже покоя, он вертит ее в руках, прощелкивает костяшками пальцев.
– Ни на одной буровой таких нет, повезло тебе, ага. Теперь-то все сладится...
Мы знакомы неполные сутки, он моложе меня на добрый десяток лет, но с первого мига усвоил не то чтобы покровительственный, а скорее успокоительный тон, из чего я заключаю, что все мои старания держаться несуетно и независимо, пожалуй, тщетны, и нервозность ожидания, умноженная незнанием предстоящего, отчетливо заметна стороннему глазу. Вот только белой каски мне еще не хватало. Нахлобучиваю ее на голову. Ей-ей, вид абсолютно дурацкий.
– Местная достопримечательность» – бормочу я.
– Что ты сказал? – переспрашивает Годжа.
Я повторяю.
– Досто?.. – недоверчиво тянет Годжа. – А я думал, это слово иначе звучит. По радио только и слышишь: «Гости осмотрели гостепримечательности столицы». Ну, это в смысле – такие места, которые лишь гостям примечательны.
Он наливает чай, нюхает его зачем-то, добавляет варенья.
– Возьмем сто метров – в отпуск пойду, я два года дома не был, ага. Бесплатный билет меня подвел...
– Билет?
– Ну. После техникума меня оператором по добыче нефти назначили. Все бы ничего, а до работы на четырех автобусах добираться. Стал искать что поближе. Нашел. Не по специальности, правда, зато рядом, на железной дороге. Год проработал, получил отпуск и бесплатный билет – езжай, куда хочешь. А тут все: Тюмень! Тюмень! Решил поглядеть, что за Тюмень такая, ага. Приехал. Гляжу. Железная дорога есть – устроился. А надо мной хихикают: «Ну, Годжа, как только ласточки улетят, и ты улетишь. Ты же растение ю-у-у-ужное!» Это еще мы посмотрим, кто тут растение, говорю. Первый снег выпал – я по нему босиком. Ничего.
– Ничего?
– Ну, сначала, конечно, чего, а потом – ничего. Растираюсь – и ничего.
– Так это про тебя писали, что ты в один день в двух морях искупался – утром в Карском, вечером в Каспийском? Я еще подумал, когда читал: «Вот псих!»
– Почему псих? Человек правду написал. Почему же псих? Купался, ага. Ну, не в один день – я в тот раз неделю до дому добирался...
– А как ты сюда попал?
– Да так. Пошли морозы, все укутались, а я в фуфаечке бегаю. Старший диспетчер у пульта в ушанке сидит и всякий раз, когда ему алекнуть надо, ухо меховое задирает. Ухожу я от вас, говорю я ему, скучно мне с вами, ага. Тот обрадовался: «А я что говорил!..» Прямо светится весь от счастья, что все он вот так предугадал. Спорить с ним, что ли? Вот еще. Я документы забрал – и в Карскую экспедицию. Ее как раз тогда организовали...
– Совсем рядом с домом, Годжа.
– На четырех самолетах, ага. – Он набрасывает на худые плечи защитную куртку и становится похож на птицу. – Все же пойду к радистам. Может, снова Баку поймают...
Кажется, впервые за последние пять дней никуда не надо спешить. По крайней мере, до вахты.
Пять дней назад я лежал в темном чулане на детской холодной клеенке, с ног до головы опутанный проводами и облепленный датчиками, и непонятно откуда возникал металлический голос, недовольно бормочущий странные вопросы, от которых начинала хрустеть на зубах придорожная пыль, а уши заполнял свистящий клекот вертолета, идущего на посадку. Потом психолог мрачно бросил на стол карандаш и желтоватый листок с тускло оттиснутыми бессмысленными строчками: госенвыкжлэерифзусэл... Щелкнув секундомером, он предложил зачеркнуть все «к» и «р». К стене был придвинут ящик с уступами, образующими три ступеньки. «Теперь бегите, – сказал психолог. – Раз-два-три, три-два-раз, вверх-вниз, вниз-вверх». Затем опять включил секундомер, протянув новый листок: акзивкуэфуюжбмяамбшрое... «Раз-два-три, три-два-раз, раз-два-три, три-два-раз, вверх-вниз, вниз-вверх!..» Пять дней назад отдел кадров Карской нефтегазоразведочной экспедиции, обретавшийся на окраине Тюмени, выдал мне направление: «На медицинское освидетельствование в лабораторию физиологии труда. Возраст – 36 лет. Специальность – помощник бурильщика». Лаборатория физиологии труда находилась в небольшой квартирке обыкновенного жилого дома и изучала возможности адаптации организма к условиям Крайнего Севера, по договору с нею работали врачи разных больниц, и во всех концах города на всех белых порогах я натыкался или обгонял одну и ту же стайку молодых «организмов». Сначала мы просто кивали друг другу на бегу, потом расспрашивали, приостанавливаясь: «Ну, как? Лютует?», или кричали: «Беги, там еще наши – успеешь!» – беготня приближала к общему делу, а значит, и неизбежно сближала; в Тюмени в те дни стояла континентальная жара, перемежающаяся тропическими ливнями, и это были метеодополнения к условиям погони за фиолетовым штампиком «годен».
Позже, когда все пороги и кабинеты были позади и напряжение погони сменилось напряженной пустотой ожидания, когда даже монастырская тишина областной библиотеки была пронизана ожиданием, для меня наступила странная пора объяснений с самим собою. Мою трудовую книжку, распухшую от вкладышей, кадровики берут в руки с содроганием. Сроки командировок обычно бывают замкнуты между необходимостью возвращения и невозможностью примириться с тем, что ты никогда не узнаешь, что же случится здесь в другие, не твои уже дни, – и когда эта раздвоенность становится особенно невыносимой, в трудовой книжке появляется очередной штамп, я в графе «Занимаемая должность» слово «спецкор» мирно соседствует со словами «матрос», «учитель», «грузчик»... Однако простейшее, служебное или, скорее, профессиональное объяснение, пожалуй, не так уж полно, в нем есть некое лукавство, ибо в каждом из нас неистребимо мужское тщеславие «как-же-это-я-и-не-смогу?».
Можно было бы извлечь из памяти мучительную музыку чужих стихов, приспосабливая их к своим куцым и прозаическим планам: «В один ненастный день, в тоске нечеловечьей, не вынеся тягот, под скрежет якорей, мы всходим на корабль, и происходит встреча безмерности мечты с предельностью морей...» – однако все тяготы моего предшествующего состояния сводились к довольно интересной и отнюдь не сидячей работе, а перманентные споры с редактором вряд ли могли послужить причиной «нечеловечьей тоски». Уже давно подросли, окончили школу – вот они шуршат страницами в монастырской тишине читального зала – девочки и мальчики, родившиеся в тот год, когда действие любой повести следовало начинать на вокзале и когда движение и было действием. Что ж, такое уже бывало, и потертое удостоверение давно не существующей газеты «Молодой целинник» с желтоватым пятном на месте фотографии (целиноградский рынок, ателье «Моментальное фото»: цена – три рубля, стойкость изображения – неделя) хранится как память о лучших днях. Но уже прошедших.
«За причалами, молами начинается мир. А уже мы не молоды. И Колумбы – не мы. Но обманчиво светел затухающий вальс. Корабли на рассвете уплывают без нас...» Только это проще всего – согласиться, будто все предрешено, образом жизни, профессией, привычным житейским ритмом, возрастом, в конце концов. «Как-же-это-я-и-не-смогу?..» Нет, я хотел бы узнать – пускай это малость, – смогу ли научиться делать то, что так нравилось, когда это умело делали другие, а я только дышал в их спины, только следил за движениями рук и, кажется, все понимал, а уходя отогреваться в балок, торопливо записывал: «Бурильщик гнал таль-блок вверх на огромной скорости, но тормозил элеватор точно у люльки верхового; не видя, не слыша, как закрылись воротца элеватора, но чувствуя, зная это наверняка, он мчал свечу вниз, останавливая ее у самых клиньев...» Что знал и чувствовал в этот миг верховой? помбур? буровой рабочий? Наверное, и это я мог бы предположить – в буровых бригадах бывал не раз, кое-что видел и слышал. Но теперь, когда приказ о зачислении подписан, назначен день вылета на Харасавэй экспедиционного Ан-24, в душе неожиданно поселился холодноватый неуют: бурение – занятие артельное, и то, что не сделал один, вынуждены делать другие, а потому не слишком ли беспечно, самонадеянно, эгоистично заставлять других расплачиваться за свое паршивое мужское тщеславие? Хотя... сомнения эти запоздалы и бесплодны.
Часы, оставшиеся до отлета, я потратил на одну из самых романтических книг – вузовский учебник «Технология бурения нефтяных и газовых скважин».
Утро было пасмурным. По слухам, рейс отложили до вечера, но верить в это не хотелось: хотя здесь еще шел дождь, небо светлело, и, по утешительной привычке всех аэропортовских бичей, думалось, что в этот час небо светлеет везде. И оно светлело везде. Короткий разбег, взлет, Тюмень – Мыс Каменный, полторы тысячи километров, песчаная полоска вдоль губы, посадка. Теперь предстояло пересечь полуостров с юго-востока на северо-запад. От воды к воде, от Обской губы к открытому морю, а внизу тоже бесконечная вода: озера, речки, ручьи и редкие буро-зеленые пятна, которые вряд ли можно назвать сушей. Паренек в кресле рядом сосредоточенно читал «Территорию», я заглядывал ему через плечо, искал и находил знакомые строчки: «А теперь задайте себе вопрос: почему вас не было на тех тракторных санях и не ваше лицо обжигал морозный февральский ветер? Может быть, именно это поможет ответить на недовольство, которым мучаем мы себя во время бессонницы в серый предутренний час, когда светлеют окна, гаснут звезды, а мир и людские души обнажены сном или тишиной...» Самолет развернулся, августовское солнце прошило его насквозь сначала слева направо, а потом справа налево, рваное пламя газового факела трепетало над самой землей, в распадок медленно и неуклюже сползал спичечный коробок вездехода, лениво пылил самосвал, огибая песчаный мыс, тусклое жирное пятно расплылось вокруг вышки, балки, стоявшие в стороне, были похожи на пакетики рафинада в синей дорожной упаковке. «Вот мы и дома, – сказал сосед, закрывая книгу и заглядывая в блистер. – Буровая на месте. И Норд встречает: значит, порядок». В вихре песка, поднятого винтами, отчаянный пес старался перегнать самолет; когда тот начал выруливать на стоянку, пес держался впереди, невозмутимо отступая, словно аэродромный лоцман «фолоу-ми». «Факел видишь? – спросил сосед. – Это база. Или «горка», – как хочешь зови. А твоя буровая, «десятка», – вот она».
Справа таилось море, вдоль берега забитое льдами; слева, в распадке между двумя холмами, поднималась буровая вышка. По серой нитке, слабо натянутой между озером и буровой, шагал человек, нервно покачивая руками; на северных откосах и внизу, где зарождалась хилая речушка, лежали грязные сугробы.
Потом сугробы исчезли, обнажив на склонах сопок сухую острую траву, а в распадке расцвели торопливые бледно-голубые и желтые цветы...
Рассеялся туман, и буровая – два ряда балков, между которыми проложены деревянные мостки, вышка с дизельным сараем и насосной, соединенная с балками шатким подобием тротуаров, – кажется надежным островком живого тепла среди холодного однообразия тундры; резво полощется над вышкой выцветший флаг, вялятся на антенне спинки муксунов и язей, дымятся трубы, поднятые из скважины, и протяжно звенят, став на подсвечник. В окне столовой мелькает белый фартук, раскручиваются катушки магнитофона, и какие-то оболтусы надрывают свои слабенькие голоса: «Листья закрюжжжят, листья закрюжжжят – и улетят, очень мне нужжжен, очень мне нужжжен синий твой взгляд...» Старательно светит солнце, на мостках сидят двое, прилаживают на валенки самодельные галоши, один спрашивает у другого: «Ты на «горке» был?» – «He-а. Чего я там не видел? Там суета одна».
Кажется, пора заняться инструкцией по технике безопасности:
«...или снят страховой канат; на заделке канатов менее трех зажимов, канаты повреждены, диаметр каната менее 16 мм; сработаны сухари; б) полы, проходы, лестницы на буровой – отсутствуют ступеньки, перила...»
Читаю, повторяю, хотя никак не могу вспомнить, как он выглядит, этот машинный ключ.
Лениво дымя, четверо молча наблюдают за тем, как я напяливаю на себя брезентовую робу, новенькую, со склеенными штанинами и рукавами. Эти-то четверо – мрачный крепыш, мальчик с залихватским чубом, кудрявый мужичонка с длинной шеей и постным лицом, ослепительный красавец в черной от мазута кацавейке – давно уже переоделись.
– Рукава внизу шнурками перевяжи, – советует крепыш. – Чтоб раствор не попадал. Вот так. Зовут меня Петро.
– Каска есть? Ого, Гаврилыч парадную не пожалел. Ну, а подшлемник я тебе достану, – говорит мальчик и протягивает руку: – Ибрагим. Или Игорь зови – я привык.
– Или баскарма, – хихикнув, добавляет красавец.
– Будешь вахту принимать – проверь ломы и лопаты, Калязин. – И кудрявый почему-то повторяет фразу в обратном порядке: – Лопаты и ломы проверь, когда принимать вахту будешь.
– В Самаре не бывал? – спрашивает красавец. – Ну, я угорел. Вот это ты напрасно. – Отступив на шаг и щелкнув каблуками, он величественно сообщает: – Михаил.
– Иначе говоря, Мишаня, – невозмутимо поясняет Ибрагим.
– Готовы? – заглядывает в сушилку рослый парень с хитрыми глазами; брезентовая роба сидит на нем, как ратные доспехи. – Тогда пошли. А то опять Ослин будет лалакать.
– Толяна нет.
– Да вот он. Идет. Опять цветочки тащит... Ну, бес.
«Бес» бородат, лукав и весел, букетик несет осторожно, как стакан, наполненный до краев водою.
– Калязин, ты пойдешь с Игорем, – распоряжается рослый парень. – Помоги ему. Да и поучишься заодно...
– Это мне-то учиться? – морщится Калязин. – Я, Гриша, бурильщиком семь лет работал и в экспедицию по шестому, между прочим, разряду принят.
Обычные, каждодневные слова, я даже смысла их не улавливаю, просто запоминаю машинально.
– Начнутся «четверки» – останешься на нижних полатях, а Игорь отправится на верхние, – терпеливо разъясняет рослый парень. – К вечеру ветер будет, не иначе. – Поворачивается ко мне: – Подосинин. Григорий. А вообще-то, знакомиться после будем. Возьми верхонки, – он протягивает мне брезентовые рукавицы. – Ты пока это... с Петром начнешь работать. У ротора. Концы гонять будем. Пока на вира. Ну, это просто. Понял, да?
Сначала из скважины надо вытянуть все свечи (каждая свеча – комплект из двух или трех труб), потом увесистые туши утяжеленных бурильных труб и турбобур вслед за ними. Все так просто, я видел это тысячу раз: разматывается барабан лебедки, спускается вниз элеватор, хомут для захвата труб, – значит, мне нужно встать на стол ротора и оттолкнуть элеватор, чтобы он не задел, не повредил муфту свечи, висящей на клиньях, потом, одной рукой придерживая строп, другой подтянуть элеватор и захлопнуть стальные воротца...
Но «собачка» не закрывается. Она встает на дыбы, беснуется, показывает язык, злобно урчит, жалобно взвизгивает, никак не желая смиренно улечься в пазы и замкнуть элеватор. Петро терпеливо ждет, потом кладет свою руку на мою – назад, вверх, вперед, щелк!
– Нормально.
Грохочут дизели, таль-блок тащит инструмент наверх, обнажая дымящиеся бока очередной свечи, по которой стекает раствор. «Лей!» – говорит Гриша, и я хватаю шланг, струя бьет по трубе, смывая глину, верхонки сразу же промокают, вода хлюпает под ногами, хлюпает в сапогах; «чах-чах-чах-чах!» – сипло бормочет автоматический ключ, раскрепляя свечи; Петро толкает на муфту разрезанный вдоль железный бочонок, который игриво зовут «юбкой». Где-то была щеколда – где? где? где? – я же помню, как «юбка» запахивалась на лету, едва коснувшись трубы. Где же щеколда? где? Под «юбкой» бурлит раствор, бьет в щели, и желтые струи, острые, как спицы, настигают повсюду. Вроде удалось... Теперь надо взять крючок и поставить свечу на подсвечник. Да что она, живая, что ли?! Свеча болтает меня над ротором, нет, лучше бы она была резиновая или ватная – пожалуй, лучше ватная. Петро коротко говорит: «Пусти!» – и подталкивает свечу еле заметным движением кисти, и вот уже свеча стоит как вкопанная на своем месте, в батарее других – все так просто, только от лихого стереотипа «как-же-это-я-и-не-смогу?» остается лишь потная растерзанная оболочка, а от инструкций, воспоминаний, сомнений и скоротечных книжных познаний – слипшийся бумажный комок, плотно заполнивший подчерепное пространство.
Гриша замер у тормоза и, не поворачивая головы, не отрываясь, разглядывает щит гидравлического индикатора веса; Петро после каждой свечи выходит на козырек, посматривает на пустынную тундру, на пустое небо, на туманное море, но едва элеватор нависает над ротором, как Петро уже здесь и спокойно, невозмутимо, без спешки и Суеты делает свое дело – он все всегда успевает.
Год спустя мы сидели с Гришей за бутылкой отпускного вина, и он говорил мне: «Я в тот день чуть шею себе не сломал. Шея затекла, а повернуться я не мог. Некуда повернуться. Везде ты – на арене выступаешь. Петру хорошо – он на козырек выйдет и давится там от смеха. А я не могу, у меня рука на тормозе. – И он улыбнулся, сверкнув своими хитрыми глазами: – Ну, ты хорош был... Олег Попов». – «А я-то думал...» – «Ну, и правильно думал. Мы и хотели чтобы ты так думал. Будто я своей первой вахты не помню! Петро не помнит! Помним, все помним...»
С маху закрыв воротца – это надо же! – отступаю назад, невероятно довольный собой. Спотыкаюсь о шланг. Падаю.
– Тише ты, – говорит Гриша. – Свечи переломаешь.
Сколько прошло времени? Наверное, вахта подходит к концу. Скорее бы. Хотя нет – ведь ужин в половине восьмого, а еще никто не ходил. Неужели даже трех часов не прошло? Не может быть... Солнце... Нет, по солнцу не поймешь. Оно висят как пришитое. Прибитое гвоздями. Из скважины выползает свеча, и раствор светлеет, высыхая. Петро смотрит на часы.
– Сколько?
– Начало шестого.
Всего один час?!
– Стоп, – говорит Гриша. – Четырехдюймовые трубы пошли. Надо клинья менять.
Оказывается, дует ветер. В полнеба цветет тройная радуга.
– Это что, – говорит Гриша. – Тут сияния бывают – слова не подберешь. Змеи по небу так и ходят, так и ходят. Или еще миражи. Раз я город видел. Большой, весь огнями залит. Машины идут, люди куда-то спешат...
– Музыка играет, – подхватывает Петро насмешливо.
– Нет, насчет музыки не скажу.
– Вот это ты зря.
За взлетной полосой копошатся тракторы, пытаясь поднять вышку. Там будет еще одна буровая, тринадцатый номер. На «горке» рассыпаются брызги электросварки – монтируют каркас механических мастерских. Вглубь полуострова плывет вертолет с подвеской.
– Гляди, у гусей какое-то толковище. Во-он за тем озерцом. Видишь, Петро?
– Родительское собрание. Толкуют, как им своих пацанов брать в науку.
– Пусковое совещание, ага.
– Пора. Они же когда начали их высиживать? В середине июня. Мы как раз на «десятке» забуривались. Теперь облетывать пацанов готовятся.
– Ну. Дорога-то у них долгая.
Петро и Гриша продолжают оживленно обсуждать поведение гусей. Я никаких птиц не вижу. Далеко они, что ли? Калязин сосредоточенно перебирает ключи, крючки, стропы, шпильки, потом распускает на пряди обрезок пеньки, мастерит кисточку. Сокрушается:
– Какой квач пропал – вот жалость! Я его из морской травы делал.
Достает из-под верстака изогнутый прут, вздыхает.
– Крючок поправить надо, – говорит он мне и, насколько я понимаю, для «лучшего усвоения материала» повторяет: – Поправить надо крючок. Бери кувалду, Юра. Кувалду, Юра, бери. Крючок на элеватор клади, на элеватор клади крючок...
– Давай наверх, Калязин, – говорит Гриша. И ухмыляется: – Наверх, Калязин, давай.
– Там и одному делать нечего, – заявляет Калязин независимо. – Я в насосную пойду – клапана менять надо.
Петро удивленно поднимает брови, качает головой. Гриша хмуро улыбается:
– «Четверки» гибкие, да они длиннее на двенадцать метров, да если еще ветерок разгуляется... Одному Игорю не удержать.
– Я бурильщик, Гриша. Бурильщик я. А не верховой.
И Калязин уходит.
Петро поворачивается ко мне:
– Попробуешь? На нижние полати иди. Сейчас я туда Мишаню пришлю – покажет, как и что.
Полати нижние, но идти надо наверх.
В двадцати пяти метрах над ротором – первая люлька верхового, нижняя, в тридцати пяти – вторая. Буровой инструмент комбинированный: пятидюймовые свечи – двадцать четыре метра, комплект из двух труб: четырехдюймовые – тридцать шесть, три трубы, соединенные в одну свечу для экономии времени при спуске или подъеме.
Один поворот трапа, второй, третий... Высокая вышка. Балки далеко внизу. Аэропорт внизу. И новая буровая за взлетной полосой внизу. И птицы – вот они – тоже внизу.
Только море вровень.
На горизонте дымы. Далеко за «горкой» два силуэта у берега. Корабли стоят под разгрузкой.
Однако при чем здесь корабли? Таль-блок всплывает над полатями, едва не задевая ограждение, и стотонная вышка ходит ходуном.
– Один конец перебрасывай, – говорит Мишаня. – Подтягивай его к себе. – Теперь вместе давай. Р-р-раз!
Свеча скользит за «палец» – металлический выступ, запирающий батарею бурильных труб.
Я тут как-то стою, зимой дело было, а бурильщик легость упустил. «Лови!» – кричит. Я, дурак, хватаю. А верхонки мокрые от раствора, к металлу пристыли. И меня понесло. Я пальцы разжал – и обратно на полати. А верхонки так и несутся к кронблоку. Ну, я угорел.
– Эгей! – доносится сверху.
Это Ибрагим.
– А чего кричит? Чего кричит? Эй, Ибрагим! Чего кричишь, баскарма?
Ибрагим спускается к нам, молча достает портсигар. Он невысок, но непостижимым образом умудряется смотреть сверху вниз, чуть откинув назад голову – словно всадник на пешего. Молча курим. И, только поставив ногу на ступеньку трапа, чтобы вернуться к себе, Ибрагим говорит:
– Когда я крючком трубу перетаскиваю на место в батарее – шкимарями ее поддерживайте.
Полати защищены поясом из бурукрытия, толстой прорезиненной ткани, но это – «вид сбоку». Атмосферы хватает. После вахты Ибрагим скажет: «Сегодня ветер был против нас – все время свечу из рук рвал». Дело было не только в ветре, теперь я понимаю это, спасибо, Игорь. А тогда думал, что вместе с Мишаней и впрямь тебе маленечко помогаю... Конечно, между понятиями «желание помочь» и «умение помочь» – приличное расстояние, и все же оно преодолимо. Об этом я тоже узнаю позднее, но сначала почувствую, сколь необходимо здесь ощущение того, что ты не один, что ты рядом и вместе с другими.
– Поддержива-а-а-ай!
У ротора внизу Петро. Отсюда, сверху, его движения напоминают медлительный и плавный танец. Раз-два-три – вперед, шаг в сторону, три-два-раз – назад, с подседом и плавно, шаг в сторону, разворот, шаг в сторону. Батарея растет, заполняя подсвечник. Кажется, туда не воткнешь и спячку.
Последняя свеча. Турбобур.
– Надо на долото взглянуть, – бормочет Мишаня. – Ослин чуть не всю вахту упирался – пяти метров не взял.
Вокруг ротора мрачно расхаживает мастер, руки назад, тяжелый подбородок вперед, капюшон куртки поднят, лица почти не видно – будто монах из зарубежной фильмы про старинную жизнь, полную интриг, приключений, любви и дуэлей на шпагах, из фильмы тех лет, когда слово это было еще женского рода.
Стальные щетки сдирают с долота породу, сильная струя воды смывает раствор, обнажая на выступах глубокие царапины, одна лапа чуть не начисто стерта, словно на забое турбобур елозил по металлу.
Все это настроения мастеру не поднимает.
– Придется долбить. Возьмите долото поуже – попробуем пройти метров пятьдесят, потом будем расхаживать ствол до проектного диаметра.
Калязин хлопочет у верстака, с грохотом роняет стальные переводники, ставит их на место, грозит пальцем: ни-ни. Подтаскивает долото, долго роется в карманах, достает складную линейку, с подчеркнутым старанием вымеряет диаметр.
– Семерка. Пойдет. Гаврилыч?
– Валяйте.
Мастер уходит, ссутулившись, шаркая сапогами; Гриша смотрит ему вслед, говорит Калязину:
– Ты это... долото убери. У него шарошки заклинены. Другое возьмем.
Калязин недоверчиво трогает шарошки, круглые зубчатые ножи, которыми долото вгрызается в породу. Так и эдак – ни с места.
– Я его еще две вахты назад выбросил, – говорит Гриша. – Понял, да?
Калязин вновь лезет за складным метром.
– Ужинать идите, – нетерпеливо говорит Гриша.
Консервированные щи с тушенкой, тушенка с пюре из сушеной картошки – нечто вроде глины, разведенной рыбьим жиром, консервированный компот. Это ужин. Впрочем, для ночной вахты – это обед, а для утренней – завтрак.
Ну, а теперь спуск бурового инструмента. И вновь бунтует «собачка» на воротцах элеватора, снова свечи болтают меня, как хотят, барахлит автоматический ключ («Машинный давай!» – ну да, вот он, машинный ключ, – железная клешня, подвешенная на тросе), опять туман, и опять солнце, подсвечник пустеет, два ряда осталось, один, кто-то хватает за руку, я поднимаю глаза и вижу, что на буровой стало тесно, – ночная вахта пришла. Смена.
– Послушай, дай крючок, а? – говорит Годжа. – Ночевать ты здесь, что ли, собрался?
– Как Баку?
– Поймали, ага. Знаешь, песня какая была: «Представить страшно мне теперь, что я не в ту открыл бы две-е-ерь...»
– Не ту.
– Не в ту, ага. Хорошая песня.
– Приходи к нам в балок чай пить, – говорит мне Ибрагим.
Чай? Неужели они еще собираются пить чай? До спальника бы добраться.
– Это что, – говорит Гриша. – Вот у нас в Грозном – с трех тысяч за вахту концы гоняли. И еще забуриться успевали, долото отработать.
– С трех тысяч? – насмешливо спрашивает Петро.
– С трех. А когда и с трех с половиной.
Солнце, едва коснувшись моря, снова отправляется в путь. Наверное, это один из последних дней, когда оно так, без передышки, – август все-таки.
По трапу неторопливо спускается вниз маленькая фигурка. Инструмент на забое. Сейчас пойдет бурение.
Нет, чай после вахты значительно вкуснее чая до вахты. Точно говорю.
Сидим на рундуках вокруг табурета, уставленного кружками. Калязин, отвернувшись к стене, листает «Справочник бурового мастера». У порога, так и не сняв новенький, необмятый ватник, притулился на корточках толстогубый парень с сонным лицом. Неудобная поза не мешает ему держаться несколько покровительственно.
– А Толян где? – спрашивает он. – Я, можно сказать, специально повидать его приехал.
– Что, завтра обратно на «горку», Валера?
– He-а. Я у вас теперь старшим дизелистом буду.
– Ну, я угорел, – восхищенно говорит Мишаня.
– А ты все в «помазках» ходишь? Ну что ж: помощник дизелиста, если дизелист Толян, – это тоже почетно, ха-ха.
– Привезут в навигацию машины – на «Урал» уйду, – говорит Мишаня. – Или на «Ураган».
– Валяй, – великодушно разрешает Валера. – Только не прогадай. Как-никак, у вас десятый номер, «надежда мыса Харасавэй»! Не читали? Я газету привез – там все про вас сказано.
– Все?
– Ну, почти все.
– А Толяна ты давно знаешь? – спрашивает Ибрагим. Еще бы. Мы с ним когда на Ямал приперлись? В шестьдесят третьем. Тут тогда комплексная экспедиция была, на берегу губы. Нам едва по шестнадцать было. Мы с ним северные набирали по два раза. Под потолок.
Северная надбавка – это десять процентов к окладу: первые три года – каждые полгода, потом раз в год. За пять лет набегает восемьдесят процентов. Это предел. Дальше – стоп, хоть сто лет работай. Но при любой перемене работы, исключая перевод, надбавки аннулируются, и надо все начинать сначала.
– Сейчас на третий пошли?
– Ну.
– У меня скоро два года будет, – пошевелив губами, сообщает Ибрагим. – Через семь месяцев... Нет, через восемь.
– Басмач ты, Ибрагим. Женился – и от жены на полюс.
– Зачем от жены? – обижается Ибрагим. – Зачем на полюс? Ты, Миша, неправильный человек. Не совсем правильный.







