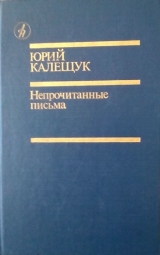
Текст книги "Непрочитанные письма"
Автор книги: Юрий Калещук
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 41 страниц)
ГЛАВА ПЯТАЯ. ПРОЩАНИЕ
Цементный туман, скрежет металла о металл, когда лопата скользит по дну железного корыта. Потом Петро и Ибрагим меняют нас.
На душе муторно. До нас доносятся лишь отголоски бурных споров на «горке» о судьбе десятого номера. Тундра притихла – то ли затаилась, то ли иссякла, – но в ее молчании и неподвижности есть что-то тревожное. Скорее всего, нашу скважину законсервируют до холодов: когда тундру схватит мороз, можно будет продолжать работы в относительной безопасности. Перед тем как ставить скважину на консервацию, надо непременно успеть спустить колонну до забоя и зацементировать ее, иначе стенки ствола обрушатся, вся работа бригады пойдет насмарку. Но даже это не самое страшное. Открытый ствол – это опасность пластовых перетоков, перетоки приведут к непредсказуемому изменению пластовых давлений, которые осложнят дальнейшее разбуривание здешних площадей.
Инструмент на забое, забой все тот же – тысяча девятьсот восемьдесят метров. Идет проработка скважины и выравнивание раствора. Время от времени Гриша, Петро или Калязин «шевелят» инструмент – приподнимают его на несколько метров над забоем и опускают. Но это так, попутно. Главное, что мы должны сделать за вахту, – затарить два двадцатитонных смесителя и еще тонн пятьдесят засыпать в мешки. Цемента потребуется много. Наши соседи на тринадцатом номере споро пробурили пятьсот метров и сейчас спускают кондуктор, обсадную колонну. Это я знаю от Шикова, он пропадает там каждый свободный час.
В последние дни лета, по среднеевропейскому календарю, стоит теплая, хотя и переменчивая погода, но ночи уже стали гуще. Ночное небо такое сильное и зловещее, цвета столь полнозвучны и так резко отделены друг от друга, что, видя лежащую под этим небом неправильную пустынную равнину, начинаешь думать о том, что ты не на Земле и время течет здесь по-другому. Петро прочитал в старом номере какого-то журнала про письмо, посланное в другую Галактику, которое будет идти к адресату двести сорок тысяч лет, а ответ на него сможет вернуться еще через двести сорок тысяч... Ну, ладно. Это просто хандра, просто неизвестность, просто будничные хлопоты. Все будет еще по-другому. Не может не быть. Уже поспел виноград, уже бродит вино, которое мы будем пить на нашем празднике. Завтра дети пойдут в школу, отправится в шестой класс и мой Сережка. Я не знаю, кем он станет, он и сам не знает еще, кем он хочет стать. Я в шестом классе хотел быть моряком, я долго хотел им быть – до встречи с окулистом: левый глаз – 0,2, правый – 0,3. «У причала причудливо притаились суда. К ним, причастные судьбами, мы приходим сюда. Только убраны трапы, и привычен приказ: пароходы утрами уплывают без нас. За причалами, молами начинается мир...» Корветы, фрегаты, пассаты, фордевинды, марсели и лиссели! Одни названия звучат, как музыка. Меридианы и параллели, неведомые воды и незнаемые земли. Нет, этого никогда уже больше не будет. И все же я должен сказать сыну, и непременно скажу, когда вернусь: «Знаешь, Серый, геология – не самое плохое занятие на земле».
Но мало ли не самых плохих занятий на земле? Невозможность желаемого нелепа, даже если желаемое состоит в том, чтобы через две точки провести две прямые линии вопреки законам геометрии. Жизни отпущен предел, но дело, которое любишь, размывает границы суток, то убыстряя бег времени, то совсем останавливая его. На обжитой, истоптанной планете нет неоткрытых пространств – неведомые острова и континенты спрятаны в нас самих...
Спасаясь от пыли, мы с Мишаней забираемся в кабину машины, сиротливо стоящей против приемного моста. Цемент просачивается и сюда, но все-таки можно дышать. Словно на экране немого кино, то пропадают, то возникают в разрывах цементного облака Петро и Ибрагим.
– «Десятку» закончим – попрошусь на машину, – говорит Мишаня.
В кабине он не унимается ни на секунду: все ощупывает, крутит, включает и выключает свет, дворники, пытается вставить ключ от своей «Волги» в гнездо зажигания, трогает плафон, открывает и закрывает его, вновь пытается вставить ключ зажигания, любовно поглаживает приборный щиток.
– Хорошая тачка. Двадцать три кэмэ прошла... А ведь так и сгниет здесь. – Он открывает дверцу, выбрасывает окурок. – Пошли! Подменим ребят.
Обрезок солнца торчит из моря. Время уходит, уходит и не возвращается, оно дробится на часы и минуты, а еще – на мучительные шаги по вязкой няше, на сомкнутые трубы в сведенных от напряжения руках и повороты цепного ключа, на нудное копание в холодном двигателе агрегата и хриплые толчки его ожившего сердца, на торопливые удары молотков, сколачивающих деревянный настил, на новые шаги по истерзанной тундре, по скользким доскам, по раскачивающимся бочкам, на вовремя протянутые руки, когда ты оступился... Нет, все это оставалось, это не уходило.
Вездеход, груженный мешками с цементом, привез подвахту – троих пареньков в неправдоподобно чистых, робах, перетянутых широкими ремнями. Мешки тяжелые, как свинец, – сначала таскаем их, прижав к животу, потом сил хватает только на то, чтобы, согнувшись в три погибели и вцепившись в полые края, волочь их по доскам.
Солнце исчезло, только там, где оно было минуту назад, разливается по серой бумаге малиновая акварель и, впитываясь, застывает, тускнеет, теряет переменчивый блеск движения.
– Работка, – хрипит Калязин. – Меня, между прочим, бурильщиком в экспедицию принимали, по шестому разряду...
– Это ты вовремя вспомнил, – говорит Ибрагим, помогая Калязину взять очередной мешок.
– Слушай, в нем центнер, не меньше. Ты мне по дружбе, баскарма? Красота...
– Не по дружбе, а по шестому разряду.
Мешки твердые, как камень. Но когда вездеход отправляется за новым грузом и у нас наступает передышка, мы валимся на эти свинцово-каменные мешки, как на пуховую перину, и молча лежим, глядя в огромное небо.
Хотел того Панов или не хотел, но одно доброе дело он сделал: после ссоры с ним мы все как-то сблизились, стали терпимее друг к другу. Калязин, правда, не может никак примириться с тем, что застрял в верховых, ворчит, канючит или, щеголяя командными нотками в голосе, дает советы и указания всем и каждому по любому поводу. Пару вахт назад мы заменяли с ним шланг манифольда. Когда висишь на двадцатиметровой высоте, одной рукой вцепившись в ограждение узенькой площадки, а в другой держишь гаечный ключ и пытаешься ухватить им ребра болта, выслушивать «руководящие указания» не так уж сподручно, и в конце концов я взмолился: «Да не в ПТУ же мы, Калязин, и парт здесь нет, и классной доски, и ты уже не мастер производственного обучения!» Он неожиданно растерялся и пробормотал: «Привычка это. Привычка. Я знаешь сколько лет бурильщиком был? Семь. А быть бурильщиком – это командовать. Командовать это». И так погрустнел, что мне даже жалко его стало. А Калязин добавил: «Григорий, конечно... Из него толк будет, но когда еще? Он за все сам берется, а надо, чтоб другие... Другие чтоб». Гриша... – тихо говорит Петро. – Ты бы поосторожнее с Пановым, а? Конечно, он еще то золотце, но чтоб крови попортить, много ума не надо. А ты вечно в бутылку лезешь. У тебя же башка – дай бог, ты еще столько сделать сможешь. Неохота, чтоб о самодурка ты ее расшибал...
– Куда же тут денешься? Впереди море и позади море. Ну, и по бокам болото.
Слышится какой-то скрип, царапанье, кряхтение – и над краем настила показывается голова. Мишаня протягивает руку и помогает пришельцу подняться к нам.
– А-а, – произносит он, узнав одного из наших помощников с вездехода. – Тебя что – в залог оставили?
– Не, я поговорить... Как тут у вас?
– Что – как?
– Ну, вообще...
– Вообще-то у нас хорошо, – говорит Мишаня, плутовато ухмыляясь. – В натуре. Важнейший объект пятилетки. Пристальное внимание общественности. Передний край. Романтика трудных дорог. Дорогу осилит идущий. Надежда – твой компас земной, а удача, как ты сам понимаешь, награда за смелость...
– Не пыли, чадо. Чего пугаешь ребенка? – И Толян обращается к нашему ночному гостю: – Давно демобилизовался?
– Месяц как.
– А здесь?
– Второй день.
– Ну так! – восхищенно говорит Мишаня. – Еще сто семьдесят восемь дней – и первую лычку пришьешь.
– Какую лычку?
– Надбавку северную. За то, что белый медведь тебя не успел съесть. Десять процентов от тарифной ставки.
– А как здесь вообще... заработать можно?
– Ну, на штатские штаны, думаю, заработаешь, – великодушно обещает Мишаня. – Не сразу, конечно... Тебя по третьему приняли?
– По третьему.
– Тогда считай. Тарифная ставка у тебя девяносто восемь рэ. Ямальский коэффициент один и восемь. Ну, еще ноль пять колесных. Значит, всего два и три. Умножай. Что-то вроде двухсот двадцати пяти рублей. Но ты руки подожди подставлять. У тебя аппетит нормальный? Нормальный, откуда ему взяться ненормальному-то? Значит, будешь ходить в котлопункт три раза в день – два пятьдесят долой. Но это ты еще не наешься – чаю тебе захочется, ну, а к нему сахару, хлеба, масла. Компот «Ассорти» завезут – возьмешь? Возьмешь. Я всегда беру. И Калязин берет, а он тебе не кто-нибудь, его по шестому разряду приняли. Да все берут! Короче – трешка в день. Самое малое, в натуре. Итого двести двадцать пять минус подоходный... дети есть? Хотя откуда у тебя дети... Минус бездетный, минус девяносто на харч – рублей этак девяносто пять получишь на руки. Хотя нет – больше. Тебе там что-нибудь за ночные вахты набежит – в общем, сотня. Такой, брат, расклад...
Расклад ошеломляет паренька. Забраться на Север, за семидесятую параллель, – и получать сотню в месяц? Паренек заглядывает Мишане в глаза – может, его разыграли?
– А проверку устроили в кадрах – как в космонавты набирали, – бормочет он. – У нас двоих медкомиссия зарубила.
Азивкуэфуюжбмяабшрое... Вверх-вниз, вниз-вверх, раз-два-три, три-два-раз, дышите – не дышите. «Ну, как? Лютует?» – «Беги, там еще наши, успеешь!..»
– Жалели?
– Кто?
– Ну, те, которых зарубили.
– А то. Один земляк мой, тоже с Меленков...
– Все мы тут земляки.
– А вот там, на сопке, – совсем упавшим голосом говорит паренек, – какой-то крест. Это чья-то могила?
– Нет, – отвечает Петро. – Это реперный знак, высота над уровнем Балтийского моря. К этим отметкам привязываются все сооружения на земле – наша буровая, к примеру...
– А откуда они?
– Геодезисты ставили. Вот эти мужики всегда первыми приходят...
– В натуре.
– А вы?
– Мы? До нас тут сейсмики прошли, вышкари...
Где-то далеко, вдоль берега моря, ползет тусклый огонек – светят фары приближающегося вездехода. После вахты мы натаскали воды в железную бочку из-под солярки и опустили в нее толстую нихромовую спираль на длинном черном кабеле. Вскоре вода забурлила. Еще полчаса назад у меня не было уверенности, что удастся снять робу, – но ничего, помогая друг другу, мы расковыряли свои цементные панцири, и это было словно освобождение. Плескание в теплой воде возвращало в какие-то незапамятные или, точнее, затерянные в памяти времена, для выражения восторга у нас не хватало слов, мы старались перекричать друг друга, и это было единственное, что удавалось сделать каждому. Ибрагим прыгал на одной ноге, пытаясь вылить воду, попавшую в ухо; Калязин сладострастно мычал, закрыв глаза; Гриша усердно и обстоятельно скоблил обрывком рыбацкой сетки каждый квадратный сантиметр своего огромного мускулистого тела, – узлы мышц перекатывались под кожей, как котята под одеялом.
– Гриша, ты подковы гнешь?
– Зачем?
– Врешь, Гришка! – кричит Ибрагим. – Кто монтажку дугой согнул?
– A-а... Так это ж для дела. Скоба нужна была.
– Для де-е-ла...
– Я – что, – говорит Гриша, отфыркиваясь. – Вот в армии у меня дружок был. Танк! Однажды мы вдвоем с ним в вокзальном буфете от дюжины амбалов оборону держали. Пока патруль не подоспел и не забрал.
– Кого, Гриша?
– Нас, конечно!
– Ну, вы и орете, – говорит Шиков, откидывая полог. – На тринадцатом номере слышно.
– Вовка, будь другом, поставь чайник, а?
– А у меня, между прочим, новость есть.
– Потом, после чая, ладно?
– Смотрите.
И когда чай налит, а хлеб намазан маслом, а масло посыпано сахаром – вот тогда:
– Давай, выкладывай свою новость...
– Мастер вернулся...
– Гаврилыч?!
– Вот что, мужики, – говорит, входя, мастер. – Скважину ставим на консервацию. Это решение окончательное.
– Насовсем вернулся, Гаврилыч? – спрашивает Гриша.
– Покончим с десятым номером – пойду в отпуск. Кстати, я был в кадрах: тебе, Петро, отпуск подписан, за два года. И тебе, Ибрагим. И тебе, Толян.
– Вместе полетим, Толик? – спрашивает Ибрагим.
– Не знаю.
– А нас куда? – спрашивает Гриша.
– Пока неизвестно. Предполагали – на седьмой номер, но там река разлилась – только на лодках можно на буровую попасть.
– Вот и ладно, – усмехается Мишаня. – Будут платить нам островной коэффициент – два запятая ноль.
Но на этот раз шутка его не имеет успеха.
– Кто там будет мастером? – спрашивает Гриша. – Панов?
– Панов.
– А как наша вахта? – нервозно спрашивает Калязин. – Наша вахта как?
– Там установка меньше, «Бу-восемьдесят»... Так что второй верховой не нужен. Бурильщик – Подосинин. Ты, Калязин, пойдешь первым помбуром. Буррабочий у вас есть... Ну, как ты, жив? – спрашивает мастер у меня. – Как там трещины на теле ключа? Шарниры челюстей растянуты?
– «Пальцы» зашплинтованы.
– Ага, осознал. Ладно... Так что буррабочий у вас есть. А верховым к вам в вахту пойдет, – Гаврилыч делает многозначительную паузу, – ученик Калязина...
– Что?! – восклицает пораженный Мишаня. – Ученик? Ученик профессора Калязина?
– Вовка Макаров из ПТУ-девять, – улыбается мастер. – Ну, где наш Калязин преподавал...
Калязин морщится, с притворным недовольством трясет головой, но он не в силах скрыть свое скромное торжество: конечно, первый помбур – это не бурильщик, но второй верховой – это даже не первый помбур, так что дело вроде бы двинулось...
– Ну, вот, – заключает мастер. – Вахта в полном составе.
– Не-а, – говорит Гриша. – Если Панов – я тоже в отпуск пойду, тоже два года не был.
– Да что вы с ним не поделили? – раздраженно говорит мастер. – Мужик как мужик. Ну, горлопан. Так у него ж тоже самолюбие.
– He-а, – говорит Гриша. – Я на это не записывался.
Шиков сосредоточенно разглядывает сырое пятно на потолке, похожее на лемминга с оттопыренными ушами.
– Говорят, еще одну буровую бригаду создавать будут, – сообщает он. – Хотя что с того? Приедем туда – а там тоже Панов. Только фамилия у него другая.
– А ты предложи себя в мастера, – ехидно замечает Гаврилыч. – Сразу дело пойдет: и метры, и нефть. И все довольны. Даже распоряжения будешь отдавать с японской учтивостью: «О, высокопочтенный Гриша, не затруднит ли вас встать на вашу высокую вахту?», «О, почтенный диспетчер, не соблаговолите ли вы прислать исправный турбобур или пойти к почтенным чертям, пожалуйста?»
Состояние мастера двойственно. Его удручает нелепый финал так славно стартовавшей «десятки», и примириться с ним он пока не может, «не осознаёт», по его же выражению, этого факта. И поведение Панова не вызывает в нем ничего, кроме раздражения. Но остаться, начать все сначала? Это нереально, это не по силам сейчас, и ощущение бессилия не добавляет Гаврилычу оптимизма или добродушия. Он тоже привык чаще всего «спускать собак» сразу, не утруждая себя выяснением обстоятельств. Правда, отойдя, почти всегда давал понять, что был неправ, что готов признать правоту чужую, но за вздорную свою вспыльчивость все же заслужил кличку Теща. А вообще-то с ним ладили, потому что он умел ценить работу и знал в ней толк.
– Может быть, дело и не в Панове, – говорит Шиков. – Может, просто во мне самом.
Он уходит, за ним поднимается Гаврилыч, за Гаврилычем, конечно, Калязин. Мишаня лежит поверх спальника и спит или делает вид, что спит. Наверное, уже утро.
– Как все-таки быстро время идет... – говорит Ибрагим. – Помнишь, мы в ночную ходили, а солнце даже не присаживалось? А сейчас... Я когда приехал первый раз, меня в вахту Морозова поставили, в ночную смену. Морозов мне говорит: «Ты сегодня прилетел – отдыхай, завтра с нами выйдешь». Ну, там чай-пай, какао-макао, тары-бары – они на вахту собираются, а солнце как светило, так и светит. Спи, говорят мне, отдыхай. Какой спи, говорю, я ночью спать буду. Смеются: уже ночь, говорят, ты на солнце не смотри, ты на столовую смотри. Если столовая закрыта – значит ночь, спи. Да-а... Как время идет... Ты в Узбекистане бывал?
– Только в Самарканде.
– О! Ты в Бухару приезжай, в Гиждуван ко мне приезжай. Знаешь, Юра, какой это город! Ты когда-нибудь спал в саду?
– Не помню.
– Значит, не спал. А я жил в саду. Тутовник по крыше скребется, яблоки в окна стучат, виноград сон охраняет... Ты открываешь глаза – мать сидит за низеньким столиком и раскатывает тесто, а лицо у нее какое!
Тускло светится малиновая змейка спирали самодельной электроплиты. Пахнет уходящей сыростью, погасшими сигаретами и перекипевшим чаем. В балке тихо, звуки с буровой доносятся глухо и размыто, как сквозь сон, звуки странные, не слышанные прежде: «У-лу-лу-лу-лу-у... У -а х!!! У-лу-лу-лу-лу-у... У-ах!!!»
– Что это?
– Противовес ходит по желобу, – отвечает Ибрагим. – Колонну начали спускать.
– А-а...
Лезу в рюкзак за сигаретами и натыкаюсь на мягкий прямоугольник книжки. Достаю. «Орсон Уэллс». Я положил ее в дорогу – когда это было?..
– Игорь, – спрашиваю я, – а кем был Панов до того, как стать сменным мастером?
– Бурильщиком.
– Хорошим?
– Зачем хорошим? – сердится Ибрагим. – Просто бурильщиком. Во вспомогательной вахте. – Он прикуривает от спирали, и та долго чадит, обугливая табачные крошки. – Знаешь, у нас про таких говорят: для себя спит, для других сны видит.
– Себе на уме, что ли?
– Он когда в вахте был – так я даже не знал, что у него голос есть. Думал – немой. А сейчас... Хорошо, у Гришки терпение...
«У-лу-лу-лу-лу-у... У-ах!.. У-лу-лу-лу-лу-у... У-ах!»
– Только бы ветра не было, – прислушиваясь, бормочет Ибрагим.
Открываю книгу и, с трудом составляя слова в предложения, читаю: «Классическая раскадровка уничтожает своего рода обоюдную свободу человека и среды. Она подменяет свободную раскадровку насильственной, где логика кадров по отношению к действию полностью уничтожает нашу свободу. Свобода эта уже не может ощущаться, раз она не может проявиться в действии. Вместо аналитической мизансцены, разрывающей действие, как разрывают цыпленка, раскадровка Уэллса охватывает события, вероятно, имеющие смысл, но без его выявления как такового, то есть не уничтожая с этой целью его естественные связи с соприкасающимися реалиями...»
Свобода не может ощущаться, раз она не может проявиться в действии.
Это раз.
События имеют смысл, но смысл этот неясен, ибо связи с реальностью противоречивы, непредсказуемы и неуправляемы – но именно поэтому они и естественны, то есть реальны.
Это два.
Нам предстоит дело, в успехе которого мы не уверены. Нам предстоит дело, успех в котором перечеркнет возможность выполнения первоначальной задачи, поставленной перед бригадой, – неуспех просто исключит из реальности все уже сделанное бригадой на десятой буровой.
Это три.
«У-лу-лу-лу-лу-у.м У-ах! У-лу-лу-лу-лу-у... У-ах!!!
А это – четыре: торопливый, сбивчивый монолог буровой охватывает события, выявляя смысл и уточняя наше место в пространстве и времени.
Противовес ходит вверх-вниз по железному желобу, заряжая трос, тремя витками наброшенный на нижний конец десяти метрового цилиндра. Медленно вращается труба, утапливая в муфте голубоватые нити резьбы. Конечно, ветер, и конечно, от приемного моста. Было бы странно, если бы было иначе.
Скрипит барабан лебедки. Колонна сползает вниз, расплескивая кисель раствора. Очередная труба вползает по козырьку и застывает, нацелившись в жестяной плакат: «При спуске инструмента регулярно доливай скважину».
Вдвоем с Петром раскачиваем элеватор, стараясь, подгадав под порыв ветра, набросить его на трубу, – есть! Шиков разматывает шкимарь, привязанный к проушине элеватора. На непривычно пустом подсвечнике – инструмент разобран и уложен на стеллажи – молча стоит Гаврилыч, по обыкновению, надвинув до глаз капюшон брезентовой куртки. Только Панова что-то не видать. A-а, вот и он – вглядывается в частую спираль резьбы и надувает щеки, готовясь скомандовать.
– Тяните от козырька, – говорит Гриша.
Тянем. Шкимарь ускользает. Петро, удерживая веревку одной рукой, цепляется другой за поручень трапа. Ветер, набирая силу, неторопливо поднимается по козырьку.
– Держите так.
«У-лу-лу-лу-лу-у... У-ах!..»
Скрип барабана. Плеск раствора. Щелканье замка. Скороговорка противовеса. «Держите так». Порыв ветра. Медленное вращение колонны. «Тяните от подсвечника!»
Теперь умножим на сорок восемь. Прибавим три. Три отнимем. Последние два действия представляются бессмысленными, но что делать, если три трубы оказались бракованными и нам пришлось выбросить их обратно на мостки? Что же получается в итоге? Сорок восемь? Разделим на восемь – шесть труб в час. Каждые десять минут: скрип барабана, плеск раствора, неподатливость элеватора, щелканье замка, погоня за равновесием, мыльная увертливость шкимаря, торжествующее бормотание чугунной чушки в стальном желобе...
– Держите так!
В тусклом свете залепленных глиной фонарей робко пляшет еще неуверенный снег.
На пороге сушилки нас ждет Валера, в меру небритый и невероятно загадочный.
– Где же ты пропадал? – кричит Мишаня. – Старшой называется! Исчез – и никому ни слова. Калязин просто извелся – ты же обещал ему объяснить, почему бубна – бубна, а пика – пика...
– На седьмом я был. На седьмой едем, мужики.
– И как там? – спрашивает Гриша.
– Ничего. Дизеля вроде новые. Оборудование – тоже. Речка рядом. Между прочим, Варфоломеич уже там.
– С рыбой?!
– Ну.
– Лемминги есть? – спрашивает Петро.
– Видел. Один даже в балке у меня жил, Яшка-артиллерист. Дурной – тушенку не ест.
– Еще что знаешь?
– А я все знаю.
– Все?!
– Ну, почти все.
– Давай все.
– Отправимся туда тремя партиями. Одна вахта сразу после цементажа – вертолетом. Основная группа вместе со всем бригадным барахлом – баржей. Ну, и вездеход пойдет... Это от «горки» километров тридцать. Два часа, около того...
Дни побежали, как безумные олени. Один день называется Спуск Колонны, другой – Цементаж, третий – Ожидание Затвердения Цемента... И все дни называются – Прощание. Были дни со снегом, были дни с солнцем, были с дождем... Но не все ли равно, какие дни там, откуда уезжаешь? Гаврилыч понуро разглядывает ГТН – геолого-технический наряд: «Проектная глубина – 3200 м. Проектный горизонт – юра. Интервалы отбора керна...» До этих интервалов так и не добурились – первый должен быть после двух пятидесяти.
– Так на Самотлоре, говоришь, за неделю скважины бурят?
«...Цель бурения: разведка на нефть и газ...»
– Но там же не разведка. И для буровых специальные площадки готовят. Лежневка, отсыпка... Там оползней не бывало.
– Да-а... Ну, ничего, – вздыхает Гаврилыч. – Ничего...
Мало ли что бывало? Бывало, со льда озера забуривались – и успевали. Газ вскрывали, как консервные банки. По радио про себя слушали, в газетах читали – бывало. И – бились над десятью метрами месяц, и – теряли в скважине инструмент, и – терялись в поисках выхода.
Но находили.
– Вернемся мы сюда, – твердо говорит Гаврилыч. – Вернемся.
Только что вертолет увез одну из вахт на седьмой номер. Поднимаются из распадка и скользят, не в силах одолеть подъем, тракторы – они волокут на прицепе смеситель. Что там дальше, за этой сопкой? Снова распадки и снова бесцветные сопки – с пирамидками триангуляционных знаков и без них? Медленно растет трава и торопливо отцветают цветы, слепо глядят в небо бельма озер и незаметно течет река – Еще-Какая-То-Яха? Что же там, дальше?
Десятая буровая похожа на новогоднюю елку в конце января: иглы осыпались, обнажив забытую игрушку и сморщенное яблоко, рваные бумажные ленты кажутся истлевшими остатками одежд. Каротажка лежит на боку там, где стояла, выставив колеса и демонстрируя первоклассную резину. Мы смотрим на взлетную полосу. Серый самолет с розовым брюхом стоит возле метеостанции, рядом люди. Отсюда не различить, кто. Море затянуло бродячими льдами, и среди них, как утюг на рваной простыне, деловито топчется неуклюжий теплоход с высокими черными бортами. Тракторы наконец берут перевал. Покачивая крыльями, «аннушка» уходит над нашими головами к юго-востоку.
– Ладно тебе, Подосинин, – примирительно говорит Панов. – Ну, не повезло нам. Понимаешь – не повезло. И все тут. Кто же знал, что тундра поедет... Слепой случай – и только.
– Нет, это не случай, – говорит Гриша. – Это закономерность.
– И что ты за человек, Подосинин!
– Может быть, случай, – задумчиво произносит Мишаня. – А может, и закономерность... Тут как посмотреть... Вот у меня как было? Работал я на ЗИЛе сто тридцатом. Да а... Тут как раз получка. Понятно, пошел в «Рассвет». Словил приход – потянуло на подвиг. В общем, являюсь домой через два дня. Жена начинает обнюхивать. «Экстра», говорит, это ладно. Могу, говорит, понять. Но «Джи-джи»! Я, говорит, таких вульгарных духов не переношу. Пардон, говорю, я в Свердловск ездил – срочный груз, то-се, какие там духи. Она: покажи путевку. Я мы путевки диспетчеру сдаем. Она: неси, и все. Ладно. Иду в диспетчерскую. Знакомый там у меня был. Не то чтобы вместе пили, но... В общем, говорю ему: так и так, исключают из ячейки общества. Ну, тот посмеялся, путевку принес. Дома все нормально. Какое-то время. Я не возникаю, и она молчит. А тут этот, из диспетчерской, подходит. Дело, говорит, есть. Хорошему человеку надо помочь. Понятно, говорю, что хорошему. Плохим-то зачем помогать – им и так хорошо. А чем – дровами? Ага, говорит, дровами. Понятно, что за дрова. Финские. И вот ведь как не повезло. Перед самым постом ГАИ правый передний спустил. А в ГАИ народ любознательный – куда и чего... – Мишаня поворачивается к Панову: – И вот тут какое дело, Михалыч. Во всей этой муторге закономерность только одна – получка. Мне ее тогда дважды в месяц давали – пятого и двадцатого. А все остальное – чистая же случайность! Верно, Михалыч?
– Ладно, – угрожающе говорит Панов. – Я с вами по-хорошему, а вы... Ладно.
– Выступаешь, Михалыч, – разочарованно произносит Мишаня. – Не пыли. Зря. Я все равно на машину ухожу.
– Нужен ты кому. И ты, Подосинин, не очень-то. Скоро, между прочим, Морозов из отпуска приедет. Ты, кажется, уже забыл? Забыл? Ну, я тебе напомню. Снова в помбуры пойдешь, поворочаешь трубы...
– Ты работой меня не пугай...
– Я не пугаю... Я напоминаю.
– Тебя зовут, Михалыч.
Наступает утро, когда на десятой буровой мы остаемся вчетвером: Гриша, Калязин, я и наш новый верховой, Вовка Макаров, девятнадцатилетний малый с редкой бороденкой, которую он старательно теребит и оглаживает, надеясь ускорить ее рост. Мы скатываем по козырьку переводники, элеваторы, подтаскиваем их крючками ближе к краю приемного моста, чтобы удобнее было грузить. За нами должен прийти вездеход. Гриша обходит буровую медленными шагами – мимо желобов, мерников, насосов, мимо дизелей и лебедки, – за ним семенит, едва поспевая, Калязин. Вовка Макаров провожает взглядом своего бывшего учителя, ехидно замечая:
– Ну, этот Калязин. Деловой. Меня прямо-таки заколебал.
Сидим на трубах, курим, посматриваем в сторону «горки» – не видно ли вездехода, посматриваем в сторону тринадцатой буровой, пытаясь угадать, чем могут там сейчас заниматься, разглядываем вывороченную движением тундры тушу «мертвяка», толстостенную трубу, забитую грязным льдом. Оттяжка, крепившая фонарь вышки к «мертвяку», бессильно провисла. С моря к озерам, за сопки, тяжело проплывают армады гусей, возвращаясь с утренней кормежки. Тихо на буровой. Как никогда тихо. Даже Евиного тявканья не слышно – унес Еву Толян в аэропорт перед отлетом. Вездеход, похожий на зеленого жука, ползет по берегу. На всякий случай еще раз обходим буровую, заглядываем в пустые, уже утратившие жилой дух балки. На дверях вагончиков самодельные деревянные таблички: «Вахта Юрия Киреева», «Вахта Гали Уразумбетова», «Вахта Геннадия Ослина», «Вахта Виктора Морозова»...
– Гриша, – спрашиваю я, – а почему на нашем балке написано: «Вахта Морозова»?
– Потому что здесь живет вахта Морозова, – спокойно отвечает Гриша и повторяет: – Потому что это вахта Морозова. Петро, Ибрагим, Толян – они же из морозовской вахты. Морозов – это бурильщик. Он в отпуске. Скоро вернется.
Вездеход лихо разворачивается, сдает назад, к мосткам.
Вот теперь – все.
Нас болтает, как траулер в шторм. Брезентовый полог откинут, и мы смотрим на удаляющуюся, исчезающую с глаз десятую буровую: серые застывшие потоки сброшенного раствора, опрокинутый кузов каротажного агрегата, полузатопленный стакан емкости для дизтоплива, ржавый остов вышки, словно покосившееся надгробье с разбросанными вокруг голубыми черепками цветочных ваз – нет, на жилье балки уже ре похожи...
Отступление в историю с геологией
Помните ли вы еще вертолет, залетевший на десятую буровую как-то под вечер, вертолет, из которого вышли двое: один был увешан фотокамерами, другой держал в руках амбарную книгу. Они улетели через три минуты, а Гриша спросил у меня тогда: «Коллеги, что ли?»
Гриша ошибался – это не были корреспонденты. Но о том, кто были они, я узнал только год спустя.
Год спустя на душном летнем перекрестке в Тюмени я столкнулся с Толяном. Мы долго мычали что-то восторженное и неопределенное, а потом, записавшись в конторе экспедиции на харасавэйский рейс, набрели, изнемогая от жары и неумения разговаривать, на пивной ларек. Пиво было, но не было кружек (в Тюмени всегда что-нибудь не так). Толпа вяло передвигалась, позвякивая банками и склянками. Толян с неожиданной резвостью перебежал дорогу, и, нырнув в хозмаг, появился оттуда с каким-то странным предметом жуткого синего цвета, похожим по форме на футляр от подзорной трубы.
Оказалось, действительно, футляр, только не от подзорной трубы, а от ершика для чистки унитаза. Ершик мы подарили, а в футляр вошло ровно три литра пива.
Отойдя шагов на сто в сторону, мы сели на сгоревшую траву, и через десять минут пива не стало, но речь мы обрели...
Через два дня мы вновь летели на Харасавэй, как всегда, застряв на последнем перегоне – в Мысу Каменном. Над Обской губой, над Карским морем бродили туманы, погоды не было пять дней, мы слонялись по поселку и от нечего делать пересчитывали аэропортовских псов, – судя по пристальному вниманию, с каким они следили за нашими передвижениями, собаки занимались тем же. Погода посадила в Мысу два встречных потока – тюменский и харасавэйский рейсы, это, по меньшей мере, втрое увеличило население аэропорта. Среди восьми десятков метеожертв было шесть человек, резко выделявшихся тем, что они отвоевали себе угол под фикусом, разложили спальные мешки и держались на своем островке обособленно и независимо. По-моему, они даже ели вовремя. Шестерку составляли хрупкие существа в сапогах с подковками и бесчисленными ремешками. «Кто это?» – спросил я у Толяна, который знал всех и которого все знали от Нарыкар до Тамбея и от Антипаюты до Долгой Губы. «Это? A-а, мерзлотницы. Вот и их предводительша идет. Привет, Алла! Как дела, чадо?»







