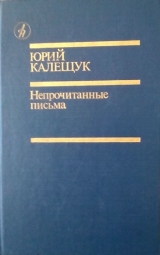
Текст книги "Непрочитанные письма"
Автор книги: Юрий Калещук
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 41 страниц)
В один прекрасный день я написал два заявления. Первое: «Главному редактору журнала «Смена». Прошу освободить меня от должности заведующего отделом рабочей молодежи». Второе: «Начальнику Карской нефтегазоразведочной экспедиции. Прошу принять меня на должность бурового рабочего в состав вверенной Вам экспедиции».
Через месяц я стоял на подсвечнике буровой вышки «Уралмаш ЗД», расположившейся на берегу уже истратившей себя речушки, стремившейся к Карскому морю, до него тоже рукой подать, однако мне было не до моря: задрав голову, я тупо смотрел, как к ротору приближается, раскачиваясь и роняя капли раствора, тяжелый элеватор, – и с нескрываемым отвращением к себе думал о том, что в своих сочинениях я чаще всего любил описывать именно эту операцию, вира-майна, спуск-подъем бурового инструмента. Конечно, издевался я над собой, в такие минуты всегда что-то куда-то движется, и это даже слепой заметит. Или заяц. Говорят, что зрение зайца устроено таким образом, что он видит предметы только в движении, потому-то, пытаясь спастись, он замирает, полагая, что становится невидим. Заяц. Дурак. Ба-а-а-анс! – элеватор саданул по муфте торчащей из скважины трубы, и бурильщик Гриша Подосинин покосился на меня: «Спишь?!» Кое-как я справился с воротцами элеватора и, хлюпая давно промокшими сапогами, возвратился на подсвечник. Конец первой вахты я помню урывками, фрагментами, обрезями, как тяжелый сон из кошмарных фантазий Сальвадора Дали. Но прошла неделя, минула другая, пролетела третья, и однажды, придя на вахту, я неожиданно обнаружил, что все или почти все металлические предметы, коих в достатке на буровой и которые, как мне казалось, вступили в сговор, чтобы сжить меня со свету, ведут себя вполне лояльно, а иные даже дружелюбно или хотя бы приветливо. Но уже я не мог забыть и теперь никогда не забуду, что видеть, как работают другие, это вовсе не то, что работать вместе с ними...
Каждый день изнурительной, бурлацкой работы в одной лямке с этими людьми приносил радость полнокровного мужского бытия, а длительные ритуальные чаепития после вахты приобщали к таинствам и прямоте их непростых судеб. До сих пор дни, прошедшие на Харасавэе, я берегу в памяти, как хранят воспоминания о школьной любви, – такого больше не будет, другое – возможно, скорее всего, наверняка, а такое – нет, уже никогда.
И все же месяца через полтора после своей первой вахты я пытался «сыграть в ящик», но, к счастью, промахнулся.
По причинам драматического свойства мы вынуждены были спешно прекратить работы и законсервировать буровую до зимы. Все, в общем, уже было сделано, осталось погрузить в вездеход мелкое металлическое барахло, которое сгодится на новом месте; этим занималась наша вахта: подтаскивали крючками элеваторы и переводники к краю приемного моста и сбрасывали их в кузов вездехода. Я тащил по желобу очередной элеватор, беспечно мычал какую-то песенку да одним глазом поглядывал на заходящую на посадку краснобрюхую «аннушку», – крючок вырвался из проушины, и в тот же миг я летел головой вниз с трехметровой высоты, успев вспомнить, что где-то здесь стоит контейнер с отработанными долотьями, а рядом возвышается горка колец, предохраняющих муфты труб. Не знаю, как это произошло, но упал я в промежуток между двумя кучами железного хлама, да к тому же не воткнулся башкой, а, перевернувшись в воздухе, грохнулся на спину. Гриша, спрыгнув вниз (я уже успел вскочить на ноги, но ничего не соображал), вырвал злополучный крючок, который я продолжал сжимать в руке, и сварливо сказал: «Кто ж элеватор за проушину тащит? Учишь вас, учишь...» Учить Гриша действительно любил. Всему, чему угодно. Например... Но это другая история. «Ладно, – строго сказал Гриша, – ладно, вали в балок, отлежись маленько».
Я доплелся до балка и тут же попал в цепкие руки кочегарши Милашки, у которой, при всех ее достоинствах, была одна непростительная слабость: очень любила она врачевать, но единственным лечебным средством, достойным внимания, считала йод. Старательно исполосовав спину йодными кабаллистическими знаками, она с неохотой удалилась, и я возблагодарил судьбу, что Милашке не пришло в голову заставить меня принять йод еще вовнутрь.
– Ты жив? – тихо спросил Гриша, входя в балок.
– Вроде бы да.
– А тебя тут друг спрашивает... Какой друг? – удивился я и в этот миг заметил, как из-за Гришиного плеча выглядывает загорелая во все времена года физиономия.
– Дон Альберто! Откуда ты взялся?
– Из Москвы, – ответил Лехмус. – Самолетом. Точнее говоря, тремя самолетами. Или даже четырьмя.
– К черту подробности! Надолго?
Ненадолго, конечно. Четыре самолета от Москвы до Харасавэя способны сжечь срок самой длинной командировки. Ну что же: столько пролетели и прошагали вместе, а теперь... Лехмусу снова карабкаться по трапу буровой или по сходням ледокола, продираться тайгой или подниматься в небо на вертолете в поисках кадра, а мне – мне лишь бы встать, напялить сапоги, нахлобучить каску и идти, идти к своей вахте... А потом? Потом?.. Как это бывает: читаешь книгу, которая поглотила тебя целиком, уже вечер, стремительно темнеет, но ты не в силах оторваться даже на мгновение, чтобы зажечь лампу, становится еще темнее, однако глаза продолжают видеть, и ты продолжаешь следить за движением мысли и чувства, – и вдруг тебя кто-то зовет, ты поднимаешь голову на долю секунды, нет, показалось, опускаешь глаза к строчкам – и уже не различаешь ничего: миг слепоты, миг исчезновения света промелькнул и на этот раз, и не было грани, не было рубежа, был только знак, только тайный сигнал, только легкое дыхание – но чье?., где проходит граница между чужой и твоей жизнью, между смыслом и вымыслом? и разве граница – это только раздел, межа или край, быть может, это начало, стык, соседство, соединенность?..
– Послушай, дед, – сказал Лехмус, – а когда ты на Самотлор собираешься?
– Не знаю.
– То есть? – удивился Лехмус. – Я что-то тебя не понимаю. Папа-Лех тебя не понимает...
– Вернусь отсюда где-нибудь к зиме – может, тогда полечу.
– А-а...
Прошел год, и еще год, и еще.
Все лето 1983-го и всю зиму 1983/84-го я летал в Тюмень, возвращаясь «назад по следу, размытому дождем», пытаясь услышать эхо давно отлетевших слов...
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ДОЛГИ
Предположим, что никто вас не понимает.
Согласитесь ли вы с этим сразу и навсегда или станете, мучаясь и надеясь, подбирать новые и все более беспомощные слова, стараясь проще или точнее передать их значение – и внезапно обнаруживая, что смысл прозвучавших слов отстает от них, как не поспевает звук за промелькнувшим в небе перехватчиком или как отставшие от перекошенных стен обои в заброшенном доме неожиданно открывают старую газетную хронику и имена давно забытых людей, – смиритесь ли вы или попробуете начать все сначала?..
– Поехали, – сказал Макарцев, утверждаясь на высоком сиденье «Урала». – Заодно и город посмотришь.
– Город? – переспросил я.
– Город, – упрямо повторил Макарцев. – Город Нягань.
Вдоль дороги неспешно тянулись грязно-голубые балки и тусклые плоские бараки, ржавые каркасы строящихся мастерских и горбатые силуэты сборных складов, застенчивые островки уцелевшей травы и унылые остовы поверженных сосен: давно привычный глазу городской пейзаж в северном исполнении, – но разве скудость воображения или фатальная невозможность иных архитектурных решений вскормили это незатейливое обыкновение? Нягань, Нягань... Сколько повидал я таких судорожно-торопливых поселений, сколько вырублено лесных делянок – между прочим, и для того, чтоб березы и ели, кедры и пихты, мучительно расставшись с живыми ветвями и влажной корой, задохнувшись в пряном чаду варочных цехов и окончательно потеряв себя под тяжелыми прессами бумагоделательных машин, превратились в страницы газет и журналов, где горячо отстаивались, незыблемо утверждались удивительные, не похожие друг на друга проекты юных северных городов! Только на страницах они и утвердились, упокоились в стопках подшивок, да еще зарастают опятами шеренги темнеющих пней где-то близ Печоры, Ижмы, Вычегды...
Нягань, Нягань...
За насыпью железной дороги вздымались трубы котельной. Дома по ту сторону стояли, как школьники на танцах, – девчонки вдоль стен, чинно и благонамеренно, только глазенками зырк-зырк, пацаны шумными, независимыми и беспомощными компаниями. Впрочем, ладные были дома, неказистые, но срубленные на совесть, «Урал» осторожно взял переезд и, чуть помешкав у высоко торчащих рельсов, грузно сполз на бетонку.
– Что ж, попробуйте начать все сначала, – неожиданно для самого себя вслух произнес я. Макарцев покосился на меня, хмыкнул:
– Ты чё?
– Да так. Вспомнил сочинение из местной газеты про твою Нягань. Знаешь, как там про это писалось?
– Ну?
– Нягань – пример кардинально нового подхода к вопросам социального характера... Объекты Нягани будут строиться по образцу лучших сооружений Нижнекамска и Тобольска... Где же они, эти объекты? Где образцы?
– А-а... – протянул Макарцев, начисто утрачивая интерес к градостроительной теме. – Будут тебе и объекты. Если дорогу сюда не забудешь... – И повернулся к шоферу: – Побыстрее, а?
Тяжелый грузовик резко прибавил, громыхнул на крутом повороте, соскользнув задним мостом с прямолинейно уложенных плит, качнулся, выровнялся, рванул...
Я прилетел в Нягань час назад, первым делом разыскал Макарцева: мы не виделись с ним четыре года.
Последний раз то было еще в Нижневартовске. Помнится, оказался я там в конце зимы, сумеречно было, день угасал, так и не разгоревшись, я спешил, мне хотелось скорее увидеть, как изменился без ценя этот город, в автобусе я сел к окну, но никак не мог добраться до стекла: разгребал волокнистую, вязкую морозную вату инея, шумно дышал, пытаясь превозмочь холод слепого окна – но то ли мне недоставало тепла, то ли действовали здесь иные, забытые или вообще неведомые законы физики, то ли, быть может, и вовсе другие законы, по которым не дано превращать в исчезающий пар спрессованное, выпавшее на стеклах в кристаллы дыхание других людей, – только снова и снова я принимался царапать, скрести коченеющими пальцами заледенелую муть окна, продираясь сквозь иней, как сквозь долгие зимние дни, прошедшие здесь без меня: круша кристаллическую решетку, сдирая волокно за волокном, снимая за слоем слой, я натыкался на чужие заплывшие следы.
Предположим, вы вернулись в город, в котором не были давно, но где была вся ваша жизнь, и без этого города вы жили не так, как могли бы: вам кажется, что достаточно найти крыльцо или порог, где вы сказали «прощай», извлечь из памяти звук или слог, на котором остановилась ваша здешняя жизнь, и все повторится, продолжится, – но нет уже ни крыльца, ни порога, и даже начертание букв словно бы переменилось, или алфавит стал другим. «Где твердый знак и буква ять с фитою? Одно ушло, другое изменилось, и что не отделялось запятою, то запятой и смертью отделилось...»
Грустной получилась тогда наша встреча. Макарцев чувствовал себя скверно, дома были очередные нелады, да и на работе случались времена повеселее: из сменных буровых мастеров ему пришлось – по болезни, да и по характеру тоже – уйти в диспетчерскую. Весьма увлекательное, надо сказать, занятие – раз в трое суток двадцать четыре часа подряд надрывать глотку, разыскивая бульдозер, или смеситель, или кран, или крановщика, или дежурного слесаря... Мне доводилось и после бывать в Нижневартовске, только Макарцева уже не застал; я предположил поначалу даже, что он уехал навсегда – и это было бы правильно, разумно, пора бы и поберечься, пока не выхаркал вместе с кровью все свои бронхиальные стенки и эпителии – так пометил его Север в лихие младые дни, когда Макарцев был еще верховым в повховской бригаде, на знаменитой скважине № 200. Хотя не каждый вспомнит сейчас, чем она знаменита. Пятнадцать лет минуло, но пятнадцать лет назад, в марте 1969-го, пошла первая самотлорская нефть, пошла из скважины № 200, которую пробурила бригада Степана Повха...
Но Макарцев никуда не уехал с Севера.
От друзей я узнал, что он в Нефтеюганске, и Геля снова с ним, и все вроде бы ладно. Я собрался в Нефтеюганск, однако попал на Вуктыл, – у ремесла свои фарватеры и свои проблесковые огни, ты легкий на подъем, свободный человек, твоей участи принято завидовать, да и сам не променяешь ее ни на какую другую – летишь на высоте десять тысяч метров, возвращаясь из Не-Помню-Откуда, и дорожная куртка еще пахнет вольным дымом костра, самолет идет на посадку, а в прокуренном склепе редакционного штаба уже что-то решилось, и тебе остается всего лишь определить, брать с собой рюкзак или кейс, в зависимости от нового маршрута; нет, не так – рюкзак мне привычнее, просто огромна Страна, а Север велик, и всякий раз, ожидая регистрации на свой любимый Нижневартовск или прелестную Ухту, вдруг слышишь объявления о рейсах на Тикси или Анадырь – и тускнеют для тебя твои дали, а иные, столь же доступные, по-прежнему недосягаемы. Откуда берется такая хандра? Не знаю. Нет для нее причины. «Невозмутимый строй во всем, созвучье полное в природе, – лишь в нашей призрачной свободе разлад мы с нею сознаем...» Но так ли?
Вновь оказавшись в тюменских краях, я выяснил, что Макарцев успел перебраться в какую-то неведомую Нягань: здесь, между Обью и Уралом, геологи зацепились за очередное месторождение, и Макарцев третий месяц обретается в управлении буровых работ начальником ЦИТС – центральной инженерно-технологической службы, иначе говоря, работает начальником цеха бурения, самого главного цеха в УБР.
Встретились мы так, словно расстались вчера; Макарцев был деловит, сед, густоголос и решителен:
– Рюкзак оставь здесь. В машину! Поехали на вокзал.
Приехали.
Вокзалишко так себе, не на что смотреть, но не за этим же, в конце концов, мы сюда мчались. А зачем? Макарцев молчал, уткнувшись взглядом в ветровое стекло, сразу начавшее мутнеть, погружая в туман пристанционный пустырь. Но, пожалуй, не только в несовершенствах стекла было тут дело: на пустыре, едва не касаясь друг друга капотами и бортами, плотно держались тяжелые грузовики, выхлопные трубы каждого из них попыхивали сизым дымком, и горькое облако тяжело ворочалось над нами.
– Только «Урагана» тут не хватает, – проворчал Макарцев.
Ну да: «татр», МАЗов, КрАЗов, «Уралов», ЗИЛов, «магирусов», КамАЗов, ПАЗов, ЛиАЗов было вдосталь. Даже какой-то мастодонт неведомого мне названия и назначения приткнулся к самому вокзалу.
– А не объяснишь ли ты мне, Сергеич... – начал было я, но близкий гудок внезапно вспорол дремотный воздух, захлопали дверцы кабин, зачавкали частые шаги, мы тоже спрыгнули вниз и устремились на платформу.
– Чё тут объяснять? – удивился Макарцев. – Друга я встречаю. Сорокин Олег. Может, помнишь? Хотя нет, он давно уж в Тюмени обосновался, еще до того, как ты в Вартовск заявился... В каком-то НИИ службу справляет. Но на Самотлоре начинали мы вместе.
– А остальные?
– Что – остальные?
– Тоже Сорокина встречают?
– Ага. Почетный эскорт. Салют ста двумя пробками. Большие народные гуляния с танцами и стрельбой. Ты чё – не понимаешь? Кто встречает. Кто провожает. Автобуса-то в городе нет. Хотя, как ты верно заметил, и города еще нету... Олег!
Коренастый человек в плащике, отутюженных брюках, брезгливо поглядывая на ноги, осторожно приблизился к нам, ступая как по тонкому льду.
– Да-а, Макарцев, – протянул он. – Забрался ты...
– Знакомься, – сказал Макарцев.
Утрамбовавшись в кабине «Урала», мы поехали мимо вросших в землю потемневших срубов, мимо магазина, на дверях которого висел пудовый замок, мимо жестяного ящика со странным названием «вагон-клуб», мимо бани с призывно белевшим объявлением «Сегодня женский день». Сорокин молча поглядывал по сторонам, угрюмо шевеля жесткими усами; машина взяла влево, пошла в гору, и тогда Сорокин спросил:
– Куда мы, Макарцев?
– Комиссия когда? Завтра?
– Завтра.
– Вот и отлично. Едем ко мне в коттедж.
– Коттедж?! – изумленно воскликнул Сорокин. – Это в смысле... балок с пристройкой?
– Увидите, – отрезал Макарцев.
«Урал» поднялся на вершину песчаного холма и затормозил у новехонького двухэтажного особняка, опоясанного застекленной верандой. Сорокин недоверчиво следил за Макарцевым, который, достав ключ, хлопотал у дверей. Впрочем, возня с ключом была, по-моему, совершенно излишней: дверь висела на одной петле.
– Вот, – торжествующе сказал Макарцев, когда мы вошли. – Наверху четыре комнаты. Здесь – зал, кухня, ну и все такое.
– Все такое функционирует? – насмешливо спросил Сорокин, но Макарцев не удостоил этот выпад вниманием.
– Здесь будет камин, а там – видите в огороде? – фундамент баньки, тут я теплицу раскину... Да, вот еще, – он присел на корточки, с трудом приподнял деревянный люк. – Погреб. Так-то, мужики!
– Не погреб у тебя, а бассейн, – проворчал Сорокин, заглянув в сумрачную темень. – Прибедняешься, Макарцев. – И спросил: – А Геля как? Оценила хоромы?
– Да она и не видела еще. Все в Нефтеюганске торчит. Никак сюда не решится...
В ту зиму, когда виделись мы последний раз, в семье моего друга был очередной период «бури и натиска». Вообще-то Геле хотелось жить в Куйбышеве или уж по крайней мере в Тюмени, но Макарцев никак не мог взять в толк, чем же займется он в Куйбышеве или Тюмени. «Макарцев, – строго говорила Геля, – ты обещал, что мы поедем сюда на пять лет. Прошло двенадцать. Сколько нам здесь еще надрываться?» – «Еще пять. Ну, может быть, семь...» Короче говоря, произошла – как бы это сказать? – рокировка: Геля отправилась в длинную сторону, а Макарцев в короткую: в однокомнатную квартиру на тогдашней окраине Нижневартовска. Ну и квартирка была! Рим после налета жизнерадостной ватаги лангобардов выглядел куда менее живописно. Одни лишь картонные коробки, беспорядочно сваленные на пол, могли отбить всяческую охоту к перемене мест. Разноцветные рукава рубах свернулись, как утомленные змеи. Из фанерного ящика торчал глянцевитый затылок старомодной настольной лампы. Болотные сапоги были завернуты в верблюжье одеяло. Книги вперемешку, с пластинками. Костюм, распятый в проеме окна. Серебристое полено муксуна застряло между рамами. Фанерный сейф лампового приемника, громоздящийся на столе, открывал глазу опустошенное чрево, в котором дремал электрический утюг, неловко завернувшись в собственный шнур. Рядом с горелыми спичками – горка сморщенной кожицы: то ли забытый наряд царевны-лягушки, канувшей неведомо куда, то ли засохшая шкурка колбасы.
– Яклич! – заорал Макарцев, вскакивая с взбаламученной лежанки, у которой стоял перевернутый плафон, полный окурков.
– Сергеич!..
Мы обнялись, и я, сжимая острые плечи своего товарища, почувствовал себя вдруг громоздким и ватным.
– А я как раз обедать собрался... Видишь, в Старый город смотался, колбаски надыбал.
– Да-а... Что-то не вызывает она у меня доверия... Поджарить ее, что ли?
Макарцев неожиданно смутился.
– Не на чем. Понимаешь, плита электрическая, проводка какая-то особая. Надо мастера вызывать, чтоб подключил, а я все не соберусь... Да и бываю здесь редко...
– Ладно. Слушай, а давай на утюге, Сергеич. Не пробовал?
– Н-ет.
– Попробуем.
– Ничего, – сказал Макарцев, катая во рту горячий ломтик обгоревшей колбасы. – Вполне ничего. – И заинтересованно спросил: – А яичницу сможешь?
– Наглеешь, Сергеич.
– А то.
Приглушенно бубнил телевизор. В сумятице слов мелькнуло знакомое название, и я невольно прислушался. Ухоженный человек в бархатном пиджаке, похожий на всех кинорежиссеров мира сразу, взволнованно излагал свои творческие планы, которые возникли из опаливших его ранимую душу впечатлений от скоротечной поездки по сибирским просторам. «Наши молодые герои... самоотверженно... романтика... Самотлор... трудности... Самотлор... любовь... Самотлор... крупным планом... всегда... несмотря на...» Человек в бархатном пиджаке уступил место прославленному хоккеисту, и тот сразу пошел на добивание: «Где бы мы ни были – в Монреале или Дюссельдорфе, мы всегда чувствуем горячую поддержку тех, кто трудится на переднем крае нашей...» – целевая, видать, шла передача...
– По вашим заявкам, – торжествующе объявил внезапно возникший на экране диктор. – Через несколько минут в эфире программа «Это вы можете».
– Можем-можем, – подтвердил Макарцев и потянулся куда-то под стол.
Я подошел к мордатому ящику и, не найдя выключателя, выдернул шнур, напоследок отразившись в погасшем экране, словно сам возвращался в бесплотный, придуманный мир, и машинально провел по стеклу рукой, пытаясь стереть расплывающийся, ускользающий силуэт, но стирал потрескивающую пыль и с невольной дрожью ощущал уходящее тепло.
– А я никогда, – разливая по стаканам розоватое вино, упрямо мотнул головой Макарцев, – его не выключаю. Бормочет он себе, бормочет – и вроде бы не один ты в доме...
– Как Геля? – спросил я.
– Не знаю. Нормально. Ну, давай!
– Давай.
Всколыхнулась теплая волна и сразу заторопилась уходить, а за нею поспешал озноб, и предметы обретали неправдоподобную четкость, и слова звучали гулко, с глуховатым эхом, словно дождь стучал по мокрой газете, забытой на скамейке в старом саду.
– А девочки? Лена? Лера?
– В порядке.
Должно быть, слова оттого гулко звучали, что были пустыми, полыми, как стеклянные шары. Мы перекатывали эти шары с видимой небрежностью и все же настороженно, не давая им столкнуться, упасть, расколоться, катали по желобам с высокими бортами, будто бы стараясь умолчать о чем-то или обойти что-то – но что? триас, палеоген, плюсквамперфектум?
– Из бригады давно ты ушел? – спросил я.
– Изрядно. А-а, раскидало нас всех. Китаев в Тюмени. Сухоруков наладился в Сургут или еще подалее. Остальные, хотя и здесь, по разным бригадам: Метрусенко у Громова, Сериков к Давыдову подался. Кильдеева «майор Вихрь» взял...
– Какой еще майор?
– Да есть тут одни бурмастер. Фамилия – Роман. Зовут Юлианом. Ну и прозвище...
– Понятно.
– А помнишь, как вы с Лехмусом к нам впервые закатились? – вдруг засмеялся Макарцев. – На сорок пятый куст, кажется...
– На сорок четвертый. На сорок пятом монтаж шел.
– Ну да, на сорок четвертый. Я туда на кривёжку приезжал... Ох, и вид был у вас! Два столичных пижона! Один с бородой, другой с трубкой... И одеты как на поиски экспедиции Нобиле. Туши свет, сливай воду!
– Что было, то было.
– Да-а... Много всего было.
...И казалось тогда, что все зависит от тебя и только от тебя и что все еще сбудется – столько было вокруг бестолкового и беспечного света...
Мы прилетели с Лехмусом под вечер и всю дорогу от аэропорта до гостиницы недоверчиво озирались: в кинохронике, да и в сочинениях наших коллег Самотлор оставался ареной вертолетных десантов, на такой неустойчивый быт и на такую изнурительную работу настраивали себя и мы, но автобус ходко бежал по бетонке, за окнами расстилался приземистый, невзрачный город, в сквозном тумане подтаявших сумерек слабо мерцал габаритными огнями фонарь списанной с действительной службы буровой вышки, возвращенный на работу в качестве телевизионной антенны... Устроившись в достаточно сносной гостинице, мы отправились подхарчиться, попали в пустой и холодный ресторан; маленький оркестрик – аккордеон, контрабас, гитара – и тощая певица в длинном переливчатом платье, из-под которого торчали широкие кожаные носы меховых унтов, услаждали наш слух песней про Костю-моряка и загадочную «молдаванку из Пересы»...
– Мы попали не туда, – мрачно заявил Лехмус, скобля тупым ножом жесткий кусок оленины. – Или опоздали. Здесь все уже есть и все истоптано. Надо было забираться дальше на Север... – И, покосившись на оркестр, заключил с решительной убежденностью: – Слишком много цивилизации.
Этой убежденности не повредило то обстоятельства что поутру, едва мы вышли из гостиницы, я провалился по пояс в какую-то гадость в шаге от тротуара. Верный своему профессиональному долгу, Лехмус сначала вскинул камеру, щелкнул и уж потом протянул мне руку. Оглядев мои дымящиеся штаны, дал мудрый и недорогой совет – штаны почистить снегом, а что промокли – ерунда, в автобусе высохнут.
– Давай скорее на автостанцию, – сказал он. И ухнул в другую яму. Но это его ничуть не смутило. – В автобусе тепло. Там обсохнем.
В автобусе, возможно, было тепло, но мы добирались не автобусом, а на «Урале», в кузове которого громоздился фанерный ящик с надписью «Осторожно, люди!». Но в общем-то было тепло – так тесно мы сидели друг к другу. Со свистом проносились мимо нас «татры» и КрАЗы, степенно шествовал по обочине канадский болотоход «Foremost», суетливо мельтешили «уазики»: бетонная трасса на Самотлор была как коридор на филфаке во время перерыва между «парами» у первокурсников – бестолковый, шумный, галдящий. И все же тот день подтвердил вечерние опасения моего друга и соплавателя. Мы приехали в комсомольско-молодежную бригаду Виктора Китаева, однако мастера на буровой не было и где он обретался, никто сказать толком не мог, зато каждый с удовольствием сообщал, что вчера здесь было телевидение, позавчера – из «Советской России», а неделю назад «Комсомольская правда» наведывалась, тоже двое, и один, как вы, с фотоаппаратом... Лехмус только бородой тряс и ворчал что-то нечленораздельное. Да и мне было не по себе. Конечно, успокаивал я себя, одни и те же предметы все мы видим по-разному, в зависимости от опыта и воспоминаний, но какой прок в этих утешениях, если через три, в крайнем случае через четыре дня на столе главного редактора должен лежать репортаж о бригаде и в нем может быть только то, чего нигде – ни в газетах, ни в журналах, ни на радио, ни на телевидении – еще не было. Не знал я тогда, что тот репортаж мне придется писать добрый десяток лет, да и сейчас никак не могу я его закончить...
На буровой шли каротажные испытания – проверяли, как идет набор кривизны, – стоял перед приемным мостом красно-желтый агрегат геофизиков, тянулся от него в скважину кабель, шуршали самописцы, геофизики глубокомысленно разглядывали влажные ленты и обменивались междометиями, обозначавшими язык для посвященных; вахта слонялась, без особого энтузиазма отыскивая себе занятия. От нечего делать Лехмус принялся снимать лаборантку, томно облокотившуюся на жесткий ящик рации. Тут всем нашлось дело. По части советов, разумеется. Лишь какой-то парень безмятежно спал на раскладушке, накрывшись с головой одеялом, и, казалось, совершенно не слышал, какой галдеж воцарился в культбудке.
– Ты бы, Люба, села как-нибудь по-другому... Все ж таки – товарищ из центрального журнала...
– На цвет тебя снимать будет...
– Да не так!
– Ага, вот так...
– Ну и фоткайся сам! – раздраженно рявкнула томная Люба.
При слове «фоткайся» профессионального фоторепортера Лехмуса передернуло, затвор его импортной камеры «Асахи-пентакс» заело, пленка начала рваться по перфорации, вечерний «кодак» стал сначала дневным, а потом и просто черно-белым...
Люба невозмутимо обмахивалась – душно ей, видите ли, стало – номером газеты, уже изрядно потрепанным, но все ж аккуратно сложенным так, чтобы всем была видна Любина фотография на первой полосе.
– Писем тебе много пишут? – приглядевшись к самодельному Любиному вееру, полюбопытствовал лысоватый мужик с узкими нахальными глазами.
– Хватает, – отрезала Люба. – Уж тебе, Вавилин, за всю жизнь столько не напишут.
– Поди, одни солдаты? – не унимался Вавилин.
Люба не успела ответить.
– А из комсостава? – спросил неожиданно отчетливый голос из-под одеяла.
– Уж вы бы, Виктор Сергеевич!.. – возмущенно начала Люба.
Человек, которого назвали Виктором Сергеевичем, сдернул с лица одеяло, приподнялся, нащупал на полу очки, нацепил их на нос, насмешливо посмотрел на Любу, оглядел и нас с Лехмусом, задержавшись взглядом на кофре, камерах, объективах, хмыкнул и снова рухнул на спину.
– Все тот же сон!..
Да, Сергеич, подумал я, столько лет уже прошло и столько переговорено... Вроде бы никогда слова нас не боялись. Но сейчас молчим оба, как злостные прогульщики на суде общественности. Полтора года назад – кажется, полтора года назад виделись мы с тобою? – будто бы праздник надвигался, какой, уж не помню, Геля на кухне священнодействовала, не умолкал телефон, девчонки носились по комнатам в радостном возбуждении, а мне улетать приближалась пора, но мы сидели, не зажигая света, в большой комнате, слушали «Прощание славянки» и «На сопках Маньчжурии», и ты вспоминал суворовское училище и «кадетские шалости», какого-то дядьку – старшину Охрименко, и его грозный вопрос, когда среди твоих учебников он обнаружил «Американскую трагедию»: «Это еще чья?!» – «Драйзера, товарищ старшина!» – «Напринимали черт знает кого...» – проворчал «дядька». «К столу, мальчики! – сказала Геля. – Макарцев, поставил бы ты что-нибудь повеселее. У меня от твоей военной музыки...»
– Чё молчишь, Яклич? – спросил Макарцев. И качнул головой в сторону телевизора: – Может, опять включим, а? Пускай хоть он что-нибудь расскажет. А то из нас с тобой сегодня златоусты хреновые... Видно, промывку слабую дали? – Он повертел в руках пустую бутылку из-под вермута. – Не восстановили циркуляцию? А?
Телевизор загудел, разогреваясь, и еще до того, как возникло изображение, послышался взволнованный старческий голос:
– ...Я бы сравнил его живопись с оркестровой музыкой, где каждая краска играет роль отдельного инструмента и где последовательные часы дня с их разнообразными оттенками представляют собой последовательные темы...
– Во дает! – восхитился Макарцев.
– ...Тень не отсутствие света, а свет другого качества и силы; кисть художника, стреноженная редукцией цветов памяти или освобожденная от них, разобщает цвета и предметы, чтобы мы увидели мир таким, каков он в это мгновение, а не таким, каким его считают вообще. Я бы назвал пятнадцать «Стогов» художника, выставленных одновременно, подлинной историей света, играющего на одном и том же предмете...
– О чем это он? – встревоженно спросил Макарцев.
– Художник был такой. Давно. Лет сто назад он едва не умер с голоду. Про одну из его первых картин писали: «Обои в первоначальной стадии обработки более закончены, чем этот морской пейзаж...»
– Едва не?.. – переспросил Макарцев. – Или?..
– Нет, он дожил до глубокой старости, вполне благополучной – если считать под благополучием признание, успех, материальную обеспеченность. Сам-то он до последнего часа сомневался в себе. Все хотелось ему рассказать мир таким, чтобы в каждой картине ощущалось неостановимое движение...
– А почему пятнадцать стогов?
– Наверное, это вышло случайно. Но именно тогда начались «большие серии» Клода Моне, так их позже назвали. Понимаешь, в то лето он работал в саду, он всегда много работал, в адской жаре и по горло в снегу; так вот, в том саду выросли в низине однажды два обычных стожка на обыкновенном лугу...







