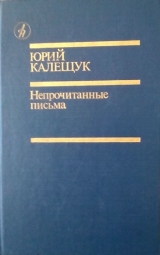
Текст книги "Непрочитанные письма"
Автор книги: Юрий Калещук
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 41 страниц)
– А потом? – спросил Казачков.
– Потом люди стали уезжать из «курортной зоны». Хотя с ними то, с этими людьми, и было связано становление острова. Потом чехарда с кадрами началась. Потом надбавки вернули. Но вернуть людей уже не удалось...
– А если б он приехал в другое время года? А если б министр приехал не в вашу бригаду?
– Вообще-то министр прав, – задумчиво сказал Казачков. – Можно брать здесь по сорок тысяч на бригаду. И поболее можно. Только готовиться к этому надобно. Во всех смыслах. Говорят же так: нужно обеспечить план. Впрочем, нет, так пишут, а говорят иначе: нужно выполнить план. Разница! Связь тут, конечно, самая что ни на есть прямая, но действия-то разные, последовательные: сначала один должен обеспечить план, потом другой его выполнит. Разве не так? По-моему, так. А у нас оно как бывает? Дают управлению план. Ну, предположим, сто тысяч метров проходки. Под эти сто тысяч, худо-бедно, выделены обсадные трубы, инструменты, химреагенты, дизтопливо, цемент. Бригад три. Разделили. Получилось по тридцать три тыщи с хвостиком – бури! Бурим. И тут начинают рождаться в светлых головах светлые идеи. Мол, если б четвертая бригада была б, сто тысяч точно бы взяли, а могли бы и сверху... А что? Люди есть. Станки завезли по летней воде. Ну и пошло-поехало... Бригад у нас сейчас шесть. Хотели еще и седьмую создать – на нее просто людей не хватило. Но кое-каких дров наломать все же успели: бригад, значит, шесть, план под них, между прочим, уже другой, а материальное обеспечение как было на три бригады под завязку, так и осталось. Оно и выходит: месяц я бурю – месяц в очереди стою, трубы клянчу или что там еще. И напряжение не отпускает, работа-то дерганая, то ждешь, то догоняешь... Да-а... Возьмем теперь обеспечение другого рода. Люди, значит, есть. А что для людей есть? Тут первый момент – жилье. Не вчера мы на Варь-Еган вышли – позавчера, а жилье, говорят, будет завтра или даже послезавтра. Мои живут кто в Вартовске, кто в Радужном, а там в общежитие на сто мест двести человек селят. Тоже, значит, очередь... Машин для перевозки людей не хватает, вертолетов мало – да и не выход это, – на работу летать, но как же тут нормальную работу по нормальным восьмичасовым сменам организовать? Ну и решили, что у нас вроде как вахтовый метод: четыре вахты по двенадцать часов днем, четыре ночью – всего восемь рабочих дней, а потом шесть дней отдыха. Однако впрок еще никому отдохнуть не удавалось, все равно после четвертой или пятой вахты усталость одолевает... Нет, я решил этот порядок – хотя какой это порядок? – поломать. Вот уже два балка достал, еще пару выклянчу, поставлю их аккуратненько – пускай у каждого своя койка будет. Привыкнут, что здесь у них дом, – тогда и работать начнем по вахтам, по восемь часов, как люди...
Затрезвонила рация.
– Седьмой куст, эй, седьмой! – взывал диспетчер базы. – Будет вам «трубач», будет! Ушел под погрузку. Под погрузку ушел...
– Вот и ладно, – повеселел Казачков. И, прислушавшись к голосам буровой, сказал удовлетворенно: – Отлично работает вахта! Думаю, на три ночи можно заливку заказывать, тампонажников вызывать. Ну, а там каротаж, передвижка и снова сначала...
За окнами была уже ночная тьма, в которой все исчезло – и лес, и пирамида бумажных мешков с цементом, и балки, и дежурный бульдозер; только вышка, расцветившись огнями буровых фонарей, продолжала дышать, стонать, грохотать и покряхтывать, двигались в неустанном ритме неуловимые тени, и каждые четыре минуты тальблок с жалобным, замирающим воем устремлялся вниз, к ротору, и это означало, что эксплуатационная колонна стала еще на десять метров длиннее.
В половине девятого Казачков забеспокоился:
– Что же это они там, на базе? Ни «трубача», ни автобуса. Люди уже тринадцатый час вахту стоят. Да не просто стоят, а колонну спускают!
Но диспетчер бодро сообщил, что трубовоз загружается, а где находится вахтовый автобус, он, диспетчер, понятия не имеет, так как телепатией он не владеет, а радара у него нет.
– Сердца у тебя нет, а не радара, – буркнул Казачков.
Автобус пришел в десятом часу. Пока добрались – одиннадцать.
Свет автобусных фар вырвал из темноты унылый двухэтажный барак, единственным архитектурным украшением которого были плоды самодеятельности – громоздкие фанерные ящики, прибитые над форточками, неплохо справляли роль холодильников, да к тому ж, наверное, и в тесных комнатах высвобождали некоторое пространство.
– Вот мы и дома.
В просторной прихожей властвовал жилой дух, настоянный на запахах кухни и стирки. Светился у дальней стены громоздкий ящик телевизора, исторгая из своих недр проникновенную песню про то, что в хоккей играют настоящие мужчины. Команд не было видно, на табло трепетали нули, и комментатор скорбным голосом человека, владеющего тайной движения светил, осторожно высказывал предположение, что тренеры, вероятно, внесли коррективы в действия своих питомцев и что основные события должны развернуться в третьем периоде. Из-за разницы во времени матч передавали в записи – игра состоялась то ли вчера, то ли на прошлой неделе.
В углу, за чистенькой конторкой, восседала комендантша, она пыталась улыбаться по-матерински ласково: «Как хорошо, что вы наконец дома» – и по-отцовски понимающе: «Ясненько, какие дела и где могли задержать вас»; было ей восемнадцать лет, звали ее Таня, всего неделю назад она приехала на Варь-Еган из весенней станицы Краснодарского края; наверное, эта поездка была первым самостоятельным шагом в ее жизни, и не гордиться ям она не могла...
– Почта была?
– Была, миленькие, была, вот только что принесли! Глядите, писем сколько! Всем, наверное, написали!
На ходу открывая конверты, нетерпеливо вчитываясь в скачущие строки, мужики разбредались по комнатам, устало подволакивая ноги. Но стопка писем на конторке оставалась все еще внушительной – до возвращения ночной вахты, должно быть. А Таня, оставшись одна, в который раз перебирала конверты, и лицо ее хмурилось в растерянном недоумении: что же ей-то до сих пор не написали? – ведь целая неделя уже прошла...
Обернувшись от дверей, я еще раз увидел все это: стопку писем на углу стола, грустное Танино лицо в резком конусе света настольной лампы и мерцающий экран, на котором застыл в стоп-кадре счастливый паренек с клюшкой, победно вскинутой над головой...
– Валерий Вацлавович, – подал голос водитель. – Кажется, семидесятый куст справа.
– Точно, – подтвердил Абрамович. – Хозяйство Казачкова. И вилла его виднеется... Постой! – закричал он. – Не сворачивай! Во-он он, Петр Григорьевич-то. На обочине стоит с портфельчиком, автобуса дожидается. Не иначе как в Вартовск наладился... Ну надо же! Если б мы «Икарус» не обштопали – остались бы с носом.
«Уазик» затормозил.
– Здравствуй, Седрик Саксонский! – весело говорил Абрамович, открывая дверцу. – Куда путь держишь, Веселый Отшельник? Пожалуй в наш экипаж, дорогой Рыцарь Висячего Замка!
– А вы в Вартовск? – недоверчиво спросил Казачков, не трогаясь с места. Был он в длинном, надетом по случаю пальтеце и роскошной шапке, какой я никогда на нем не видел.
– Нет, не в Вартовск, – ответил Абрамович.
– А я в Вартовск.
– Зачем?
– Дела.
– Ясно, что дела. Но у нас тоже дело. Мы к Черемнову на митинг собрались. Он сорок тысяч пробурил, слышал?
– Слыхал. Молодец мальчишка.
– После тебя – он. Второй сорокатысячник на Варь-Егане. Видишь, какие дела...
– Хорошие, разве я спорю? Но у меня-то свои...
– Знаешь, Петр Григорьевич, – мягко произнес Абрамович, – ему ж будет приятно, что именно ты – понимаешь, ты – его поздравишь...
Казачков колебался всего лишь мгновение. Нагнулся за портфелем и потянулся к дверце.
– Ну вот и отлично, отважный Локсли! – весело сказал Абрамович.
– Будет тебе, – покосившись на меня, проворчал Казачков. – Срамишь при людях. Тоже мне этот... Ательстан Конингсбургский...
– Да вы ж вроде знакомы, – хохотнул Абрамович. – А я только что по дороге рассказывал, как ты двое суток меня Вальтером Скоттом потчевал.
– Ну да, совсем старый с ума слез, детскими книжками забавляется, – буркнул Казачков. А мне сказал: – Я и не признал вас со свету-то. Да к тому ж помню, летом обещались, а сейчас вроде как снова зима...
– Так уж вышло.
– Оно понятно, что предполагаешь одно, а выходит совсем другое, – вздохнул Казачков. – Слушай. Валерий Вацлавович, – сказал он Абрамовичу. – Давай хоть на минутку ко мне заедем, портфель я оставлю. Чего ж с ним теперь-то таскаться...
– Давай.
Машина подкатила к яру, край которого был обозначен нестройной ватагой молодых кедров, избежавших бульдозерного ножа при подготовке площадки под буровую, а теперь еще взявших под свою защиту жилые вагончики, составленные в незавершенное каре, – так, должно быть, легче обороняться от метелей. На плоских крышах топтались мужики, сбрасывали снег, скалывали лед. Время для таких занятий у них было – на буровой шли геофизические испытания, перед приемным мостом стояли два каротажных агрегата. Абрамович ткнулся взглядом в геолого-технический наряд, спросил:
– Забой проектный?
– Сейчас геофизики глубину отобьют, проверим. Должно быть все в норме...
– До пятидесяти тысяч тебе сколько осталось?
– Семьсот шестьдесят метров. Ну, их-то уже на следующей скважине добирать будем... Хорошо хоть передвижка короткая, пятиметровая...
Справа от непривычно пустых стеллажей, в туманном дыме выхлопных труб прорастали из снега неуклюжие стальные цветы фонтанной арматуры, опознавательные знаки пробуренных скважин – восемь через пять метров, потом через пятьдесят еще восемь...
– Да что там пятьдесят тысяч, – сказал Казачков. – Если бы все шло складно, больше бы взяли... Мы в этом году пережили две длинные передвижки и переезд с куста на куст. За своим станком телепались, больше месяца ждали, пока его размонтируют, потом смонтируют...
– А резервных станков не было? – поинтересовался я.
– Отчего же не было? Были. Только по ту сторону Агана. А мост через Аган лишь в августе наладили.
– Так его куда раньше должны были сдать, – сказал Абрамович. – В расчете на то мы и готовили станки за Аганом.
– Должны были! – хмыкнул Казачков. – Бетонку до Вартовска еще когда должны были!.. Я только приехал сюда, а про то уже говорили. И по сию пору до ума не довели.
– Послушай, Петр Григорьевич, – сказал Абрамович, – вот что я хочу у тебя спросить... Твои что – здесь и живут?
– Давно уже, – ответил Казачков. – И не только жилье у нас есть. Красный уголок оборудовали. Телевизор. Бильярд. Кино вот еще наладим...
– Совсем ты решил отделиться!..
– Ну да. Мне б еще трубную базу. Мехмастерские. Ну и химзаводик какой-никакой, махонький. Чтоб ни от кого не зависеть. Ни от милостей природы, ни от немилостей снабженцев. Только это, Валерий Вацлавович, тоже глупо. А ежели по уму – то чтоб каждый свое дело делал и чтоб другого не подводил. Но такое когда еще будет...
Сухое дерево горит быстро, и, когда добежали люди из самых дальних домов крохотного поселка, все, в общем, было уже кончено. К утру на месте общежития оставалась лишь слабо присыпанная снегом остывшая груда обгорелых балок и исковерканного металла. Странное дело – то, что не бросалось в глаза за порогом жилья: спрятанная в углах и нишах оснастка отопительной системы, всегда прикрытые торопливо сброшенной с плеч одеждой кровати – здесь, на пожарище, выбивалось на первый план. Отовсюду торчали острые ребра радиаторов, жутковатые каркасы коек, причудливо изогнутые трубы водяного отопления, поднимались на стояках скособоченные умывальные раковины, похожие на замарашек, расправивших передники и застывших в нелепом поклоне, валялись почерневшие тазы и закопченные ведра, обгоревшие ящики самодельных холодильников, раскачивалась на ветру распущенная спираль электроплитки. Дух человеческого жилья исчез, растворился, и рассеялись в воздухе непрочитанные слова из писем, оставшихся невостребованными на конторке в прихожей. Уцелевшие вещи, сваленные грудой неподалеку, перетаскивали в соседнее общежитие, там спешно оборудовали под жилье кухни, душевые, чуланы. Таня деловито сновала с каким-то списком. Над одним из углов сгоревшего дома еще струился дым – так мне показалось сначала. Я подошел ближе и увидел, что из перекрытой трубы отопления сочится горячая вода и поднимается пар, похожий на легкое дымное облако, которое рассеивалось, взметнувшись на высоту человеческого роста...
Когда я вернулся на 7-й куст, то первым заметил Казачкова, который шагал по колено в снегу впереди бульдозера, тащившего какой-то наспех сколоченный плот.
– Это основание под балок, – пояснил мне Казачков. – Посуше чтоб было. – И крикнул бульдозеристу: – Стоп! Здесь мы его и поставим. Вон и река, если на спиннинг – так это... прямо из окошка ловить можно.
На буровой было непривычно тихо.
– С заливкой к семи утра управились. Если б еще каротажники не тянули резину...
Казачков нетерпеливо ждал геофизиков – предстоял окончательный каротаж, последний цикл испытаний нефтегазовой эксплуатационной скважины. Он не спал всю ночь, но был старательно выбрит – позволил себе сделать вид хорошо отдохнувшего человека.
– Про причину пожара что говорят в поселке? – спросил он.
– Проводка не выдержала.
– Еще бы. Они ж так рассчитали, чтоб в комнате одна сорокаваттная лампочка горела. Чтоб человек с работы приходил, как в берлогу. Ни почитать, ни музыку послушать, ни, черт возьми, чай вскипятить. Ладно. Хорошо хоть, все целы. А барахло – дело наживное. Ладно. Мы теперь здесь будем жить. И времени у ребят поболее станет. А что? На дорогу не тратить, на готовку не тратить – котлобак у нас свой...
Послышался нарастающий гул автомобильного двигателя. Казачков с надеждой поглядел на дорогу. Но машина вскоре утихла, прошла стороной, за лесом.
– Видать, не соврала разведка, – вздохнул Казачков. – Донесли мне, что над партией геофизиков, которая к нам направлена, их главный резинщик поставлен, он с каротажами никогда в срок не укладывается. Значит, еще на пару суток надо себя настроить, это самый что ни на есть минимум. Так и быть, на пенсию выйду – отосплюсь. Или в отпуске. Хотя нет – отпуск я с сынами планирую провести... Николай приезжал недавно, и тут, как на грех, ну просто невозможные обстоятельства. Колонну спускали – это же неотлучно здесь быть надо, труд всей бригады, можно сказать, итожится. А после сразу – на новой скважине набор кривизны. Тоже, скажу вам, замятие... В общем, ни встретить, ни проводить сына я так и не сумел.
– Так сейчас у вас опять «невозможные обстоятельства» – колонну только что спустили, набор кривизны предстоит...
– Да всегда они невозможные, – вздохнул Казачков. – Но работать все равно надо.
– Эх, Петр Григорьевич, Петр Григорьевич!.. Если бы все были такие, как ты, – серьезно произнес Абрамович.
– Зачем же все? – возразил Казачков. – Никто не захочет. И правильно, что не захочет. Не надо, чтоб все, как один. Вон Черемнов. На кого он похож? На себя. Парнишка еще, а какой молодец. Мысль у него взрослая, вот тут какое дело, Валерий Вацлавович.
Абрамович поднялся.
– За чай спасибо. Поехали!
Спустившись с бетонной трассы, мы двинулись по укатанной лежневой дороге. Лес то подступал, то отдалялся, и на возникающих справа снежных пустошах отчетливо пропечатывались очертания стальных северных клумб – строгие ряды замысловатых цветов фонтанной арматуры над завершенными скважинами. Казачков поглядывал на них и негромко бормотал:
– Седьмой куст... Пятый... Восьмой... Семнадцать скважин в батарее... Двенадцать... Снова семнадцать... Все эти кусты мои ребята бурили...
Слова звучали буднично, и была в них усталость, но было в них и то, что составляло смысл и достоинство прожитых здесь лет, – сознание выполненного долга и щемящее чувство соединенности с другими людьми.
Абрамович украдкой коснулся его плеча, как повзрослевший сын, который боится, что его нежность к отцу покажется сентиментальной.
– Должно быть, с лета к новому начальнику привыкать начнем, – вдруг сказал Казачков.
– Почему? – встрепенулся Абрамович.
– При этом сколько выбросов было?
– Два.
– Два... После третьего снимут. Уж я-то эту арифметику хорошо изучил.
– Дурная геология здесь, – сказал Абрамович, – разрез сложный – вот и подзалетаем.
– Бурение вообще занятие непростое, – медленно произнес Казачков. – Но подзалетаем мы не из-за сложности, а по глупости. Бестолковщины многовато у нас, Валерий Вацлавович, неразберихи. То одного нет, то другого. Стоим. Потом догоняем как можно резвее. В спешке и подзалетаем.
– У тебя выбросов не было, Петр Григорьевич. Хотя не скажу, чтоб ты тихоходом был.
– Это все до поры до времени. Иной раз вспомню какой-нибудь случай – в дрожь бросает. Чудом убереглись. И не раз так бывало. Восьмой год мы здесь топчемся – восьмой! не первый, – а порядку не больше стало. Бригад у нас сколько? Уже двенадцать...
– А план какой? Где-нибудь на Большой земле такой план целому главку дают.
– ...Бригад двенадцать, а мы все еще в какие-то десантные игры играем, от вертолета до вертолета живем.
– Ты мужик хозяйственный, Петр Григорьевич, – засмеялся Абрамович, – у тебя-то всегда заначка есть.
– От хорошей жизни, что ль, это? – вздохнул Казачков. – От хорошей жизни, что ль, Валерий Вацлавович, я людей на буровой селю? Когда я говорю, что так лучше, – это же я себя самого уговариваю. Не одной лишь только работой человек живет. Он же себя обкрадывает, если живет одной только работой, что же ему остается? А? Что тут для него за восемь-то лет сделали?..
Когда мы с Лехмусом начинали ездить на Тюменский Север, когда началась наша репортерская вахта в бригаде Виктора Китаева, подробности быта не часто волновали нас. Знали, конечно, что жилья не хватает – а где его хватает? – наши знакомые и друзья жили кто в панельных, кто в сборно-щитовых домах, кто в общежитии; до работы автобусом по бетонке, ну, а после работы – после работы, правда, вариантов не было, и все же Нижневартовск казался нам уже обжитым, устоявшимся городом, мы и не старались задерживаться здесь подолгу, неделями жили на буровой, ночуя в китаевском балке, встречали и провожали вахту за вахтой, и все самое главное, как мне казалось, только здесь и происходило; иногда заскакивали в гостиницу умыться, переодеться да бросить высокомерный взгляд на несмятые свои постели – и снова назад, в настоящую жизнь; люди, окружавшие нас тогда, были наши ровесники или были моложе, да и мы считали себя вполне молодыми, и это определяло многое. Еще не забылись шалые послестуденческие времена, в те годы жизнь немало покачала меня на своих волнах, но то было обычное дело; помню город, считавшийся краевым центром, по которому месяцев шесть в году можно было передвигаться лишь в броднях – ну и что? была работа, прекрасные люди рядом, а что нет постоянного дома или даже угла – какая малость, песчинка – в этом ли дело?.. я привык жить, как жили мои сверстники, – не обращая внимания на то, что в комнате еще трое, и один спит, тяжко вскрикивая во сне, другой бренчит на гитаре, третий целует девушку, а перед тобой белый лист бумаги, и это целый мир, который дано открыть только тебе, – господи, как скудны и самонадеянны были открываемые мною миры, как обделены душой и как прямолинейны, сколь многого я не видел, не замечал, не желал замечать, старательно выкорчевывал из себя, как непростительную слабость, как корь, как юношеский грех, все то, что было за пределами конкретного опыта, что лежало за границами наблюдаемого мира; замыкаясь мыслью и сердцем на работе, я и разговоры с людьми сводил только к работе и только к работе, в моих заметках они перевыполняли план или по крайней мере стремились его перевыполнить, и то было нормальное, естественное стремление, – даже работу, в конце концов, я свел к ее линейному, одномерному знаку... Позже, в бригаде Китаева, где царил дух яростного соперничества, мне ближе всего поначалу стали их отчаянные споры о метрах, то были искренние споры, хотя они не исчерпывали, не могли исчерпать сути отношений между людьми, – об этом, естественно, было нетрудно догадаться, но принять в расчет, осмыслить, попытаться передать словами куда как непросто... После недельной добровольной отсидки на буровой мы с Лехмусом, как правило, попадали на «семейные вечера» – чаще всего к Макарцеву или Метрусенко, славные то были часы, но странно: эта сторона жизни моих друзей была для меня прочно отделена от той, настоящей, той, которую я подразумевал настоящей. Нет, я и сейчас считаю работу стержнем человеческого существования, оправданием его бытия, только теперь это понятие стало глубже, ибо его невозможно отторгнуть от напряженной работы души, от причудливых теней прошлого и еле угадываемых силуэтов будущего. Недавно, когда я читал замечательные стихи своего друга, Краснопресненского Затворника:
По бездорожью еле тащится телега.
В оврагах кое-где еще дымится снег.
Я молод и здоров. И как кутенок, слеп.
Живу. Люблю. Дышу. И оставляю след.
Еще не нужно мне брести назад по следу, размытому дождем. Еще не нужно мне вставать до петухов и, вслушиваясь в сердце, далекую зарю ловить в пустом окне... – я вспомнил, что смутное ощущение того, что уже приходит пора «брести назад по следу», возникло во мне впервые, быть может, в Варь-Егане, когда, сидя в машине рядом с Казачковым и Абрамовичем, я вслушивался в слова их дружелюбной, доброй беседы, временами перераставшей в спор, – и неожиданно осознал, сколь связано, сколь соединено, сколь неразрывно все, что составляет человеческую жизнь: и работа, и плач ребенка, и шелест чеховских страниц, и печаль друга, и ожидание встречи, и свечение коровинских пейзажей, и слезы матери...
Машина петляла по лесной дороге, я прислушивался к разговору Казачкова и Абрамовича, вспоминал встречи в коридорах и кабинетах нефтегазодобывающего управления и управления буровых работ, беседы со строителями, шоферами, вышкомонтажниками, партийными работниками, – но думал почему-то о несостоявшейся встрече Казачкова с сыном, а еще о письмах, оставшихся невостребованными на конторке в прихожей и сгоревших вместе с общежитием. Какая, наверное, это малость – встреча, которая не удалась, непрочитанные письма, – над чем тут раздумывать и о чем говорить? Встреча еще состоится, а письма... Да что там было, в этих непрочитанных письмах? Что жду, люблю, тоскую, вчера был дождь, сегодня зазеленела первая трава, завтра собираюсь в кино? Только это не слова, которых не привелось услышать, а непрожитые мгновения, которых уже не вернуть, это возможная, но неосуществленная жизнь, ибо была осуществлена другая, суть которой составляла самоотверженная работа, и от результатов этой работы зависит каждый из нас» где бы мы ни были и чем бы ни занимались.
Здесь, в Приобье, на Варь-Егане и Тагринке, Агане и Самотлоре, на небольшом и холодном пространстве, трудится крохотная часть населения страны, какая-то десятая доля процента. Но вклад их в экономику всего государства столь весом, что его не измерить одними лишь тоннами и кубометрами. Так можно ли, планируя тонны и кубы, планируя светлое будущее, не планировать для этих людей достойное настоящее?..
– И все ж таки, Петр Григорьевич, – сказал Абрамович, – мы здесь потому, что мы здесь можем.
Не впервые на Севере слышал я эту фразу, и не было в ней никогда ни жертвенности, ни чувства превосходства, а была будничная, обыденная, привычная убежденность в том, что всякую работу должен делать лишь тот, кто умеет ее делать, и поколебать такую убежденность не способны были никакие обстоятельства и никакие утраты.
– Эх, если б знать, – вздохнул Казачков, – если б знать, Валера, что же мы действительно можем...
– Узнаем еще, – отозвался Абрамович. – Какие наши годы.
Миновав лес, машина выскочила на взгорок.
Внизу, возле балков, стоял разукрашенный автобус, суетились люди, гремела музыка. Абрамович тут же включился в праздничные хлопоты, и вокруг его массивной фигуры завертелась беспечная карусель. Вытащили стол на утоптанный снег, положили на него горку одинаковых папок с дипломами. Шуршала оберточная бумага, тонко позвякивал хрусталь, буркомовский деятель придирчиво сверял число подарков со списком награжденных. Черемнов, молоденький щуплый парнишка с редкими усиками, разговаривал с Казачковым, глядя на него влюбленными глазами, а Казачков жал его руку с уважением профессионала, умеющего оценить чужую работу, и с доверчивой требовательностью мужского сердца. Свободные от вахт люди черемновской бригады молча и немного напряженно стояли вдоль стен, с любопытством наблюдая за подготовкой к митингу и все еще не войдя в роль виновников торжества.
На буровой продолжалась работа.
Солнечный свет бил прямо в распахнутые ворота вышки, но занятые своим делом буровики солнца не замечали, не ловили его лучей и не прятались от них.







