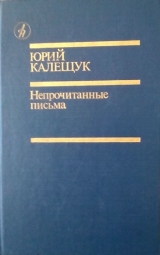
Текст книги "Непрочитанные письма"
Автор книги: Юрий Калещук
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 41 страниц)
– Знаешь, Яклич, – медленно произнес Макарцев. – Поставил бы я тебя начальником ЦИТС, ты бы живо и про природу забыл, и про стихи, и про все такое прочее. Ты бы одно только знал – план. И все!
– Конечно, – ехидно заметил Новиков. – У тебя теперь узкая специализация. Раз ты гинеколог – куда тебе быть терапевтом.
– Знаешь, Коля!..
– Макарцев, – позвала Геля. – Давайте-ка вместе посоветуемся, как мы будем встречать Новый год?
– Подожди ты, Геля! – сердито сказал Макарцев. И Новикову: – С научных вершин, конечно, далеко видно. Зато деталей не различаешь. А именно они, между прочим, определяют суть вещей. Пока еще столько надо трудов положить, чтобы научить любого буровика работать элементарно, грамотно, а уж потом...
– И это верно, – легко согласился Новиков. – Я тоже кустарщину нашу никак понять не могу. Вдумайтесь только: Тюмень – это же целая нефтедобывающая держава, работы здесь ведутся нарастающими темпами уже полтора десятка лет, а подготовкой рабочих кадров каждое управление вынуждено заниматься самостоятельно. Откуда же взяться исполнительской грамотности?
– Откуда-откуда, – устало пробормотал Макарцев. – От верблюда.
– Вот и приходится тебе, Виктор, – продолжал Новиков, – да и другим специалистам тоже, «доводить» их на рабочем месте, тратить время, нервы, мозги, которые ты мог бы, уверен, тратить куда эффективнее...
– Сто семнадцатый, сто семнадцатый, – вдруг прорезалась рация. – Почему на подъем пошли?
– Турбина отказала, турбина...
– Это Габриэль, – сказал Макарцев.
– У тебя запас есть? – спросила база.
– Есть плохонький...
– Выходи из положения своими силами, Гарий Генрихович, своими силами... Турбобур отправить тебе не смогу – «трубача» нет. Нету «трубача», понял?
– Понял-понял.
– Дела-а... – вздохнул Иголкин.
Вот и посидели как люди, подумал я. Женя с Гелей в одном углу стрекочут, и мы токуем, как глухари, почти не слыша друг друга, потому что каждый думает о своем, однако это «свое» – общее, называется оно работой, и, если бы даже рация не напомнила о неутихающих буднях, улететь от них далеко мы бы все равно не сумели... Воспоминания – и те поиссякли, не греют больше давно погасшие костры, умолкли весело потрескивавшие угольки, постепенно превратившиеся в невесомый прах белесой золы; распались одни компании, возникли иные; надолго ли? Наверное, мы обречены всю жизнь отыскивать друзей, терять их и вновь обретать, сражаться с непониманием других и глухотой собственной души; с годами поиски становятся затруднительнее, но потребность в них не отмирает, ибо лишь в союзах, порожденных дружбой, мы всегда равноправны, а что до того, что не свободны, то мы не свободны всегда – от обязательств, от долга, от памяти сердца. «Как ни тяжел последний час – та непонятная для нас истома смертного страданья, – но для души еще страшней следить, как вымирают в ней все лучшие воспоминанья...» Уходят в небытие житейские пласты – и не тектонические сдвиги, а никчёмная телеграмма о пяти словах или сумбурный ночной телефонный звонок калечат планы и рушат казавшееся незыблемым равновесие; гибнут цивилизации школьных товариществ и студенческих братств, гаснут звездные скопления когдатошних увлечений – но, рушась, погибая и угасая, не исчезают, продолжают поддерживать в нас – нас самих: сколько раз выручали меня друзья, порой даже не зная об этом, выручали своим теплом, своей строкой, своим существованием на этой земле; проносятся годы, сужается круг интересов – и нет уже прежней легкости в словах, находчивости в поворотах темы; сужается круг желаний, но неизменна тяга к постижению смысла бытия; сужается круг забот, но их груз не становится легче, все стороны света сближаются в одной стороне, и эта сторона зовется Страна: что бы ни мучило нас сейчас, о чем бы мы ни спорили – о мелком, частном, конкретном, о каком-то турбобуре или заброшенных коммуникациях недостроенного дома, – мы говорили о Стране, от которой не умели отделять себя, и знали, что быть вместе с нею – это значит работать для нее, для нее, для нее, и нет права выше, судьбы интереснее, жизни полнокровнее и тяжелей.
– Так ты говоришь, Коля, – спросил Макарцев, – что Сорокин лабораторию получил?
– Да! – поспешно ответил Новиков. – Теперь у него самостоятельная работа будет! Олег очень способный человек, он многого сумеет добиться!
– Ну!
– Гарий Генрихович, – снова заговорила база – Сто семнадцатый! Как подъем у тебя идет? Как идет?
– Идет... – уклончиво ответил 117-й куст.
– Вляпался, по-моему, Габриэль, – сумрачно пробормотал Макарцев.
– Не должен бы... – возразил Иголкин.
– Макарцев, – сказала Геля. – Ты не забыл напомнить Габриэлю, чтоб, когда он в Юганск полетит, захватил для Лены...
– Куда он сейчас полетит!.. – буркнул Макарцев.
– И все-таки, – сказал Новиков, – я верю, что теперь дела сложатся иначе. Мне начальник нашего главка, Кузоваткин Роман Иванович, говорил, что в следующем году в Нягани будут развернуты двадцать семь буровых бригад. Двадцать семь!..
– Мужики, – вмешалась Женя. – Ну что вы все о работе да о работе. Поговорили о бабах хотя бы, что ли...
– Подожди, Женя, – досадливо сказал Иголкин. И загремел, набрасываясь на Новикова: – Двадцать семь буровых бригад, говоришь? А сколько бригад строителей Кузоваткин тебе обещал? А?! Это сколько же можно над людьми измываться!..
– Послушай, Коля, – сказал я Новикову. – Ты о подготовке буровиков толковал, а про строителей? Что-то никак не могу я припомнить, встречал ли здесь инженеров-строителей «местного производства». Инженеров-буровиков – это пожалуйста. Ваш Путилов, между прочим. Тюменский индустриальный закончил, и сам он местный, из-под Урая родом...
– Значит, – задумчиво проговорил Макарцев, – когда мы начинали Самотлор, он еще в школу ходил, класс в девятый...
– Виктор, – с неожиданной мягкостью в голосе сказала Геля. – Ваше – это ваше, оно всегда с вами будет.
– Как же насчет другой жизни? – шепнул я Геле.
– A! – отмахнулась Геля.
– Вообще-то они есть, местные инженеры-строители, – сказал Новиков. – Но их так мало... Если потребности иметь в виду. Мы до сих пор на десант уповаем, партизанщиной балуемся... Я же говорил – кустарщины еще много.
– Когда говорил? – поинтересовался Макарцев.
– Да только что, Витя...
– Только что – это я слышал. А раньше? Когда в главке работал? Молчал? Или говорил другое?
– Знаете что? – сказала Женя. – Давайте фанты, что ли, брать, если кто опять скажет «главк», «министерство», «план»... А? В кои веки собрались вместе тихим вечером, можно б было потанцевать, музыку послушать хотя бы, а вы...
– И все-таки мы план следующего года... – начал Макарцев.
– Фант! Фант! – дружно закричали Женя с Гелей. – «Американка», Макарцев! Любое желание должен выполнить! Любое!
– И все-таки план следующего года мы выполним, – твердо произнес Макарцев. – Непременно. Верно, Николаич? А что? Подумаем головой маленько, подготовимся по уму, инженерно – и выполним. Довольно носами нам шмыгать. Не маленькие.
– Послушайте, ребята, – возбужденно заговорил Новиков. – Вы не обижайтесь на меня, ладно? Конечно, я здесь человек новый и многого не знаю. Но я постараюсь узнать. Узнаю! Обязательно! Я сюда надолго приехал. Может быть, навсегда. И хорошо, что успел приехать, когда не все еще складно. Значит, складывать будем вместе. И я верю, что наступит день...
– Постой, – сказал Иголкин. – Тише!
Голоса в эфире звучали нервозно, и не сразу стали различимы тревожные слова:
– База, база, на сто двадцать пятом пробило водовод! База, водовод пробило на сто двадцать пятом!
– База, база, Ем-Ега на связи. Ем-Ега на связи. У нас авария. У нас авария. Дизеля...
Пауза – и еще один голос, спокойный и четкий:
– Срочно разыскать Иголкина и Макарцева. Передайте по связи: срочно разыскать Макарцева и Иголкина. Пусть немедленно выезжают. Немедленно выезжают!..
Служили два друга в нашем полку.
Пой песню, пой...
Женя и Геля, тихонько перешептываясь, привычно шуршали бумагой, заворачивая еще не успевшие остыть домашние пирожки; Коля Новиков растерянно уткнулся в замолчавшую рацию.
– Как добираться будем? – спросил Иголкин.
– А-а, – сказал Макарцев. – Война план подскажет.
Оба одевались быстро – унты, полушубки, теплые шарфы, мохнатые шапки. Снова как в песне: «На Север поедет один из вас, на Дальний Восток – другой...»
Правда, оба они поедут сейчас на юг. Но здешний юг – это тоже Север...
И опять мы расстаемся на полуслове и снова не знаем, когда доведется продолжить наш разговор; мы расстаемся сумрачной ночью, ясным ли днем, метельной весною или в одуряющем зное короткого лета; мы расстаемся – уезжаю ли я или друзей моих призывает к себе высокое дело, неделимая жизнь, – мчится по снежной целине приземистый вездеход, тяжелые волны раздвигает траулер или сейнер, крылатый парусник или атомный ледокол, в близкое небо взмывает вертолет, с морозных свай поднимается дом, с песчаного островка посреди болот начинается новая скважина или кончается строка.
С нового абзаца:
Мы ветре...

ОСТЫВАЮЩАЯ ЗОЛА
– Сравнение некорректно, – отрезал Теткин.
– Но Кольская скважина...
– Не надо.
– Но наши трубы...
– Не.
Собеседник Теткина, долговязый молодой мужик в новехоньких, еще не утративших дух короткой и бесшабашной собачьей жизни унтах, сконфуженно обернулся, будто решил просить помощи или искать защиты. Однако Макарцев неподвижно сидел за своим крохотным, неправдоподобно чистым столом и сосредоточенно глядел в окно, хотя там ничего не показывали: окно выходило в неглубокий овражек, затаренный утрамбованным снегом так, что рассекавшие его тропки располагались на уровне форточки, не ниже.
– Наши алюминиевые трубы хорошо зарекомендовали себя на Кольской, – вновь повернувшись к Теткину, с отчаянной решимостью произнес долговязый. – Вы не хотите понять...
– Не хочу, Кольская – вертикальная скважина, а у вас наклонные. Какие у них стенки, какие каверны? К тому же там... А-а, что говорить!
Да на Кольской скважине, наверное, вся наша геологическая наука со своими домашними припасами собралась, подумал я, – дымящиеся пирожки, начиненные пряными гипотезами, сочащиеся кровью бифштексы идей, острый, густой, наваристый супчик нештатных ситуаций. И техника, надо полагать, не серийного исполнения. Что ж, Кольская сверхглубокая скважина не региональные задачи решает, не ведомственные и не одни государственные дела – этот гулкий ствол, вонзившийся в земную кору едва ли не на полтора десятка километров, дает редчайшую, изысканную пищу умам, непредугадываемую, глубинную информацию для всей мировой науки, чьи-то версии неожиданно подтверждая, иные сокрушая в прах, – сельский учитель истории из таежной заобской деревни услыхал в морозном звоне Кольского керна далекое эхо рухнувшего предположения о возникновении жизни на земле и заманчивые колокольцы новой теории; мой друг, Странствующий Кандидат, едва вернувшись из своей последней, растянувшейся на долгие пять лет командировки, не дав привыкнуть к себе домашним, начал готовить экспедицию в Хибины, а на американского астрофизика Томаса Голда коллекторные пласты, содержащие метан и обнаруженные на двенадцатикилометровой глубине под гранитным щитом Кольского полуострова, оказали настолько ошеломляющее воздействие, что забыл он про манящие звезды и таинственные туманности Галактики, увлекся геологией, самой земной из земных наук, стал яростным пропагандистом абиогенного (иначе говоря: неорганического) происхождения нефти, собрав на Земле и во Вселенной удивительные доказательства когдатошней менделеевской гипотезы...
– Давайте с другого боку возьмемся, – предложил Теткин. – Зачем вам схема проводки нужна? Хотите помочь нам?
– Наши трубы...
– Это я слышал. Только дело не в трубах.
– Тогда в чем?
– Если бы я знал.
По законам диалога, в котором идут сближения, подумал я, такие слова означают обычно приглашение к открытому разговору, к взаимному поиску возможных решений. Однако на человека в унтах обезоруживающее признание Теткина произвело такое же воздействие, как толчок Боба Бимона или Роберта Эммияна на скорость вращении Земли, – он издал какой-то клекот или всхлип, а Теткин сокрушенно сказал:
– Одна, другая, третья скважина ведут себя как люди, но четвертая... Ну шпана! Или того хуже. А мы? Мы усвоили наконец, что фроловская свита пакостна по природе своей, а не потому, что мы отпетые олухи, бурить разучились или никогда не умели. Что «гнилые углы» имеются, и еще какие гнилые. Своей шкурой, можно сказать, их вычислили. Вот Макарцев Виктор Сергеевич сидит – он мог бы рассказать вам про то, как на 122-м кусте упирался. Да был бы прок какой от этих мук! Была бы информация... Обоснованная, точная, научная, я имею в виду, информация...
– Мы могли бы... – выдавил из себя долговязый мужик.
– Составить программу на испытания алюминиевых труб, – пробормотал Макарцев.
– Да!
– А вы не могли бы еще заодно – или особо, это уж как сами захотите... – лениво растягивая слова, начал Макарцев.
– Да! – с готовностью подхватил долговязый, благодарно глядя на Макарцева.
– ...составить программу на испытания алюминиевых ложек? – закончил тот. – Хотя бы для одного котлопункта на Талинке. А?
– Ладно, – решительно закрыл тему Теткин. – Валяйте в техотдел: может, вам повезет и отыщется экземпляр той дурацкой схемы. На нее многие стойку сделали, не вы первый, так что не обессудьте, если ее не найдут...
– Найдут! – уверенно заявил мигом повеселевший ученый гость и тут же исчез; стремительность ухода, правда, была слегка смазана тем, как долговязый неловко переставлял ноги в унтах с нерасхоженными еще подошвами, – но это детали, подробности, пыльный сор бытия.
– Очередной соискатель кандидатского чина, – предположил я.
– Не без того, – вздохнул Теткин. – Между прочим, земляк твой, Макарцев. Самарский.
– Все мы тут земляки, – вяло заметил Макарцев. – А тебе что: самарские – рыжие, что ли?
– Далась им эта схема! – закричал Теткин. – Все НИИ за нее уцепились... Да если б они клубок целиком мотали – глядишь, что-нибудь удалось раскрутить. Но ведь каждый свою нитку дергает! Трубы! Долотья! Растворы!
– Не царское это дело – клубки мотать, – меланхолично сообщил Макарцев и снова уткнулся в окно.
«Они не программу исследований подбирают для скважин, а скважины под программу. Вроде как цель приближают к неподвижному стрелку...» – вспомнил я слова Теткина из его разговора с корреспондентом «Тюменской правды». У той статьи и заголовок был вполне доступный воображению – «На разных берегах»: имелось в виду, разумеется, местонахождение буровиков Красноленинского свода и ученых отраслевых институтов. Я не бывал в Нягани поболее двух лет, однако, регулярно наведываясь в тюменские края, постоянно искал случай узнать, что происходит и продолжает происходить в этой растревоженной глухомани, где в очередной раз выстраивали головокружительные планы обуздания бестолковых сил природы, где бестрепетно перекраивали людские судьбы и на живую нитку тачали города, где все было наугад, наспех, начерно и где Макарцев, отдавший Северу половину прожитой жизни и целиком – жизнь осознанную, деятельную, подлинную, единственную, начинавший Самотлор и не затерявшийся в Нефтеюганске, испытавший подъемы и спады, острые пики и глухие ущелья, неожиданно вновь ощутил «черноречивое молчание в работе». Выпадало мне делить номер гостиницы со снабженцем из Нягани, его ни о чем не надо было расспрашивать – он и во сне продолжал грузить свои баржи, а уж если говорил по телефону, то орал так, что без проводов в Салехарде слышно было: на вертолетной площадке в Ханты-Мансийске или Урае вдруг возникали в отзвуках голосов знакомые имена и незнакомые изгибы, рукава, протоки, курьи, затоны, омуты их бытия; в областной газете я нашел несколько дельных статей, посвященных проблемам Красноленинского свода, одна из них заканчивалась загадочной для меня фразой: «122-й куст Талинского месторождения и бригада В. С. Макарцева готовы принять делегацию из ВНИИБТ для комплексных исследований...» Расстались мы с Макарцевым в декабре 83-го, когда вместе с Иголкиным уехал он в метельную ночь, на аварийную буровую; был тогда Иголкин главным инженером управления буровых работ, Макарцев – начальником центральной инженерно-технологической службы. Но бригада Макарцева? Что произошло? Когда? Как? Я помнил, что Макарцев давно мечтал быть буровым мастером, но «давно» – это еще на Самотлоре, а теперь?.. Позже я встретился с автором статей. Коля Филимонов, тридцатилетний газетчик с любовно взращенной, ухоженной бородкой и внимательными, несуетными, холодноватыми глазами, рассказал мне: в Нягань летал не раз, однако встречаться с Макарцевым ему не довелось – знает только, что бригада уже месяцев десять не может выкарабкаться из фроловской свиты, что Иголкин тоже теперь буровой мастер, что... Стоп. Мы расставались, когда в управление пришел новый начальник; и Иголкин, и Макарцев связывали с этим назначением немало надежд; теперь переменятся, должна перемениться и производственная погода, и технологический климат, станут чище, выше отношения между людьми. Я готов был разделить их веру, но разговор с новым начальником поубавил во мне этой убежденности. Нет, что касается производства, технологии бурения – тут Макарцев с Иголкиным, пожалуй, не ошибались. А вот что касается отношений между людьми, этими людьми... Нечасто встречал я руководителей, кто не считал бы – иные не скрывая, вторые тая в глубине души, третьи говоря одно, а поступая иначе, – что для выполнения задачи, стоящей перед управлением (объединением, экспедицией, конторой, институтом, экипажем, редакцией), им потребны не эти, а другие люди. «Вы, наверное, знаете, – сказал Филимонов, – Нягань городом стала... Но почему название такое, откуда оно? Поселок всегда назывался Нях. Ханты мне говорили: это название речки, она рядом, и имя ее в переводе означает «смех». Красиво, правда? Однако когда образовали поссовет, окрестили его Няхыньский, Няхынь, а потом и вовсе откуда-то Нягань выперла...»
– Пора ехать, – сказал Теткин.
– На Талинку? – спросил я. – Тогда я с вами.
Кажется, минуту назад у меня и промелька этой мысли не было. Обычное раздвоение желаний; когда смотришь из окна летящего через оглушительную страну поезда, хочется остаться у каждого скрывшегося за поворотом тихого лесного озера... ив этой туманной долине, таинственно плывущей навстречу... ну этой, промчавшейся за окном криницы... но когда мимо тебя проносится поезд, то, где бы ты ни был и с кем бы ни была соединена в этот миг твоя душа, ее горячит, будоражит, зовет за собой одно только представление о дороге, – а уж потом, совсем потом, после, настигает стылая, усталая отстраненность; но и она проходит.
– А ты, Сергеич, – окликнул Макарцева Теткин.
– 122-му привет, – ответил тот. – И 119-му. И 130-му. И 139-му. И 158-му. У меня штаб по Ловинке. Каждому свое.
Снег укутывал, придавливал, закрывал мерзлую землю, но не мог оборонить ни ее, ни настороженно затаившиеся деревья, ни белесые всхолмья, ни синеватые распадки – справа и слева от бетонки рождались из метельной мглы, пропадали и вновь открывались взгляду рукотворные прогалы – в смутной низине вокруг емкостей ГСМ змеились грузовики, вездеходы, «вахтовки», из карьера, тяжело дыша, приседая, откашливаясь и ворча, выруливали самосвалы, раскатанный до голубоватого сияния поворот уводил к новостройке, мелькали обочь трассы балки и степенно проплывали в отдалении силуэты буровых вышек; верткий «уазик» стремительно мчался на юг, ритм нашего движения отбивали стыки бетонных плит, а там, где дорога была переметена, возникала цезура, далеко было еще до весны и еще дальше, дальше, недостижимее – уже не во времени, а в пространстве – от этих болот и от этих зимних таежных кедров до воронежских черноземов, до апрельского степного ковыля, но стихи, которым было уже пол века и которые всего лишь десяток лет назад вошли в наш обиход, приноровили свой неподвластный шаг к мерцательному пульсу бетонной артерии – ти-та-та-та-та –та-та-та-та-та –та-та-та-та –та-та-та-та-та-та-та-ти – и явственно зазвенели в холодеющем полдне:
И все-таки земля – проруха и обух.
Не умолить ее, как в ноги ей ни бухай, —
Гниющей флейтой настораживает слух.
Кларнетом утренним зазябливает ухо.
Как на лемех приятен жирный пласт.
Как степь молчит в апрельском провороте.
Ну, здравствуй, чернозем, будь мужествен, глазаст...
Черноречивое молчание в работе, —
Теткин тихо ссутулился на переднем сидении и, казалось, дремал, но, когда «уазик» круто взял влево и привычный ритм сбился, расстроился, ибо уже не бетонные плиты, а мерзлый песок был под нами – не шуршал, не хрустел, не поскрипывал, скорее подпевал смиренно, не замечая, что песня чужая, – началась лежневка, Теткин заерзал, завертел головой, обронил: – Тупик Шарифуллина! – И пояснил, невесело улыбнувшись: – Шарифуллин – это главный инженер УБР-два, а тут подряд идут кусты как раз второго управления. «Гнилой угол»! Все бригады в дупле.
Из тех статей Филимонова в «Тюменской правде» уже я знал, что Коля Новиков, Новиков Николай Константинович, ворвавшийся в сюжет моего предыдущего повествования на самых последних страницах и успевший изложить хотя бы в общих чертах программу своей деятельности в качестве главного технолога объединения «Красноленинскнефтегаз», отдал осуществлению программы немногим поменее года и вернулся в науку – ушел в Гомельский отдел ВНИИБТ. Больше я с ним не встречался и не могу судить, что было причиной странной излучины его судьбы. Знаю только, что Теткин, ставший главным технологом после Новикова, не мог пожаловаться, что опоздал, что поспел только к шапочному разбору, – еще и увертюру не сыграли, еще всего лишь инструменты настраивали, и в дебрях геологии Красноленинского свода, а следовательно, в технологии бурения на здешних месторождениях было куда темнее, чем в оркестровой яме. Макарцева, помнится, в бытность его начальником ЦИТС, викуловская свита изводила, теперь фроловская гадит, есть еще талицкая, да и баженовская не подарок. Никогда не было здесь легко, каждый метр и каждая тонна оплачена муками ума, напряжением мускулов, надсадой сердца, это сейчас нам дана снисходительная услада воспоминаний о «золотой поре», о солнечной Элладе нефтяных небожителей, но я помню земное, хриплое, прерывистое дыхание разбуженного Самотлора, отчаянный порыв разведчиков Уренгоя, никогда не забуду первые, будничные метры Харасавэя, – каждый шаг был первым, каждый шаг был трудным, «другие по живому следу пройдут твой путь за пядью пядь», однако теперь стало еще труднее, еще мучительнее, еще драматичнее, и все же, как ни горько это осознавать, в те уже растаявшие за романтической дымкой года был нажит не только опыт, но и взлелеяны ростки самоуверенного полузнания: как бы ни был тяжел путь, но, если ведет он от победы к победе, к этому привыкаешь, привыкаешь и веровать в то, что ты и в самом деле всесилен, всезнающ и всемогущ, – кто же в час торжества станет тратить себя на сомнения, мучавшие поэта: «...но пораженья от победы ты сам не должен отличать...» Наверное, Кольская сверхглубокая потому-то еще так впечатляет, что от нее изначально ждали незнаемого, неожиданной вести, переворачивающих привычные представления открытий, – там мы оказались готовы признать свои несовершенства, смиренно сели за школьные парты, как бы ни тяготило нас бремя ученичества... И все же роль ученика удается нам реже и реже. «Как в зыбучих песках, увязает человек в своих возможностях и достижениях, – проницательно заметил наш современник, – и чем больше силы он применяет, тем больше в ней нуждается. Он начал утрачивать чувство реальности и способность оценивать свою роль и место в мире, а вместе с тем и те фундаментальные устои, которые на протяжении всех предшествующих веков с таким усердием воздвигали его предки, стремясь сохранить человеческую систему и наладить взаимосвязь с экосистемой...» Подобно себялюбивым детям, которым постылы обязательства перед стареющими родителями, ведем мы себя с природой – хватает внешнего лоска, чтобы рассуждать о долге перед нею, но нет отрешенной от своих выгод, самозабвенной заботы о ней. Могло бы показаться, что вселенские печали экосистемы слишком далеки от повседневных бед, которыми живут буровики, оказавшиеся в «гнилом углу» Красноленинского свода, только все давно стало близко – да вон, совсем рядом с лежневкой, разверста зияющая рана, копошится в ней оранжевый экскаватор «Като», рыжеют изломанные, зазубренные ребра растерзанного металла, и то ли отлетевший вздох, то ли угасающий дым подрагивает в стигийском холоде февральского пейзажа, над которым застыли слабые отголоски обыденной производственной драмы, – и нет больше времени для охранительных иллюзий, будто зовут не нас...
– Промысловики рванули скважину, – сказал Теткин, заметив, что я все еще продолжаю оглядываться на оставшийся позади дымный карьер.
– Зачем?
– Не зачем, а почему?
– Хорошо. Почему?
– Вели сварочные работы на устье, а газ возьми да шарахни.
– Газ?
– Ну да. Надо было осмотреться как следует, а они... В общем, теперь на нас баллон катят: дескать, цементаж был проведен плохо, не продавили толком, цемент до устья не дошел, а там газовая шапка образовалась.
– А-а...
Наверное, подумал я, так оно и было, как нефтяники предположили: не раз случалось подобное. Рассчитывают, рассчитывают буровики объемы тампонажных работ, – а там каверна, там прорыв пласта, а там еще черт-те что, но скважину надо сдавать, надо бурить другую, пятую, сотую. Да и промысловики подгоняют: давай-давай. Что же дали? А ничего: тысячи метров стальных труб, десятки тонн цемента упокоились в земле, а вместе с ними так называемый овеществленный труд тех, кто добывал руду, плавил сталь, катал трубы, вырабатывал цемент, вез все это за тыщи верст и, наконец, бурил злосчастную скважину, – все похоронено, похерено, утрачено навсегда, дни, недели, месяцы оказались прожиты по чужому, подложному календарю, да полно: прожиты ли вообще? Знаем ли мы, осознаем ли, что изменилось окрест безжизненной, омертвленной пяди земли? Промышленная революция, вооружив в прямом и переносном смыслах, одарив подлинными и мнимыми благами, наградила нас еще и «тоннельным видением» – слово «кругозор» стремительно тяготеет к тому, чтобы остаться лишь названием долгоиграющего журнала. На Красноленинском своде, так уж повелось с первого дня, преодолевали трудности, создавали их, опять преодолевали, считая главной целью то строительство скважины, то прокладку трубопровода, то возведение насосной станции, – но комплекс задач по освоению недр и обживанию пространства привычно откладывали до иных времен, не замечая или стараясь не замечать, что вот оно, иное время, мы в нем живем. Конец февраля 86-го: о чем бы ни возникал и с кем бы ни заходил разговор, у меня появлялось ощущение, что все еще продолжается, продолжается, не может закончиться декабрь 83-го, что опять все сначала, и опять, и снова... Заместитель генерального директора по геологии Сергей Сергеевич Николаев, когда я заглянул к нему в этот приезд, сразу же принялся говорить о сложностях эксплуатации месторождения: «Представляете, коллекторы на Талинке – гидрофобны!» Я ужаснулся, вообразив на миг, что где-то километрах в трех подо мной клокочет необъяснимой ненавистью к воде спрессованная земная твердь, и спросил: «Почему... гидрофобны?» – «Эффект Жамэна!» – тут же ответил Николаев и, пока я припоминал, чем вызвано это свойство пластов (что-то примерно так: в слабо выраженных, неравномерных коллекторах сечение капилляров переменчиво, и пузырьки газа, содержащиеся в нефти, сопротивляются деформации и запирают нефть в пласте» – но при чем тут вода? – подумал я, но спросить не успел), он стремительно продолжал: «Надо тщательно подобрать реагенты вытеснения... Наши керны разобрали все НИИ – ломают головы... Возможно, вместо закачки воды надо будет использовать газ...» «Послушайте, – перебил я, – но если потребуется закачка газа, то и вся система наземного обустройства месторождения должна быть... э-э... несколько иной?» – «Совершенно иной! Мощные компрессоры. Трубы, рассчитанные на более высокое давление. Быть может, газлифт. Да-да, пожалуй, газлифт – здесь мощный газовый фактор...» – «Скажите, Сергей Сергеевич, а разве нельзя было... эту самую гидрофобность выявить – раньше?» – «Да вы что! Каким образом? У нас не было достаточного геологического материала. Первая технологическая схема обустройства была составлена по пяти скважинам. С гидрофобностью мы столкнулись уже в ходе эксплуатации!» Не впервые встречался я с Николаевым, и всегда-то меня пленяла в нем увлеченность геологическими загадками, но на этот раз какое-то иное чувство шевельнулось во мне. Может быть, шло оно от желания услышать наконец нечто не из области отдельных загадок или даже феерических попыток их решения, а выстраданную программу осмысления загадочного мира, с которым столкнула судьба и производственная задача? Только снова и снова я слышал про то, что начинать надо было с опытно-промышленной, пробной эксплуатации, что объем исследовательских работ непременно следует увеличить, что – представляете? – существуют зоны повышенной обвальности, что гидрофобность – явление уникальное, интереснейшее, однако, к сожалению, отрицательно влияет на продуктивность скважин в процессе эксплуатации, – все это было занятно, но почти невесомо, то не слова уже были, а только их оболочка: за таким интереснейшим явлением, как гидрофобность пластов, отчетливо просматривалась необходимость переделки обустройства месторождения, которое и без того стоило здесь адских мук и еще цифры с несколькими нулями – но разве любознательность ею оплачивалась? нет – самоуверенное полузнание, с каким неизученное, неисследованное, неведомое, по сути, месторождение было запушено в промышленную эксплуатацию...
– Может, и мы дали маху, – снова подал голос Теткин. – Тут черт знает какие стволы. У нас – проблемы. У промысловиков – проблемы. – И сказал водителю: – Давай сначала на 139-й куст.
Понятно, что проблемы промысловиков во многом произрастают из проблем бурения. Ясно и то, что буровикам нет дела до агрессивности глин или до ненависти к воде, которую испытывает деградировавший песчаник, – однако все неразрывно. Мне приходилось как-то слышать от Лёвина, что бурение на площадях, где гарантирована нормальная добыча, несравненно легче, нежели там, где методы разработки месторождения еще не доведены до ума. Не знаю, в чем тут дело, но такому буровику, как Геннадий Михайлович Лёвин, я привык верить на слово. К тому же знаю наверняка, что обстоятельство, обозначаемое размытым сочетанием «недостаточная геологическая проработка месторождения», оставило рваный след в жизни многих людей Нягани. Конечно, за последние два года буровики все же сильно поднаторели, несправедливо было бы не заметить этого. Тогда, в конце 83-го, едва ли не любая скважина грозила если уж не аварией, то осложнением – по крайней мере. К некоторым из тайн удалось подобрать ключи. Начальника УБР-1 (тогда оно было единственным, сейчас одно из трех) Александра Евгеньевича Путилова я застал в конторе под вечер. Он не скрывал своей радости и на протяженна всего нашего разговора любовно оглаживал взглядом три переходящих Красных знамени, стоящих в кабинете: «В 1985 году управление впервые – впервые! – выполнило план по всем технико-экономическим показателям. Этот результат мы готовили, он не случаен. Много работали с коллективами буровых бригад, глубоко анализировали организацию труда, дисциплину...» – «А в плане технологическом?» – поинтересовался я. «Тут нам ершовский метод помог». – «Какой?» – «Ершовский. Его в Ершовском УБР применяют. У них растворы на полимерной основе – хорошие результаты дают! Полетели туда, целый вертолет синтетических волокон от них привезли. И главный инженер ихний, Степанов, приехал. Здорово он нам помог. Одну скважину провел вместе с нами, растолковал, как и что...» Вот оно как. Попались на глаза технологические отчеты Ершовского УБР. Кое-что сопоставили. Обмозговали. На себя примерили. И вместе с ершовским главным инженером – добрейшим, видать, мужиком – осуществили то, до чего три НИИ дотумкать не сумели. Да, в статьях Коли Филимонова три института назывались – Сиб-НИИнп (Тюмень), ВНИИБТ (Москва), ВНИИКРнефть (Краснодар). Могучая кучка. «А эти растворы... на полимерной основе... подходят для всех скважин Талинки?.» – «Нет, – покачал головой Путилов. И повторил: – Нет. Тут участки... такие попадаются, что мы ничего сделать не можем... Наука обещает нам, обещает... А мы пока посылаем на 119-й куст, в центр этого гиблого угла, бригаду Юдина, лучшую бригаду управления...» Он не сказал мне, что вокруг «центра гиблого угла», на периферии, оставалось еще изрядное пространство: там пахали, перепахивали, распахивали, запахивали неподатливые недра буровики УБР-2 и Тюменского УБР. Впрочем, первое-то управление уже успело хватить лиха. Когда Путилов приехал сюда из Сургута (а я встретился с ним впервые тогда же, неделю или десять дней спустя после его назначения), мне показалось, что в своем нетерпеливом стремлении немедленно изменять течение дел (у него были основания думать, что никакого течения нет, что в УБР время остановилось) он не станет щадить ни себя, ни других. Что касается себя – его права Но как быть с остальными? У них свои планы, свои представления о будущем, свои надежды. Свои имена. Я всегда любил читать отчеты о путешествиях отважных мореплавателей, их дневники, письма, осторожно перелистывать ломкие желтоватые страницы старых географических книг. Кук. Лаперуз. Беринг. Невельской. Беллинсгаузен. Седов. Брусилов. Норденшельд. Нансен. Русанов. Восхищало мужество этих людей, холодное презрение к опасности, бесстрашие перед неведомым... И все же много позднее, когда случалось перечитывать любимые с детства книги или в руки попадали другие, подобные, какая-то странная, тревожная, мешающая мысль начинала просачиваться меж старинных строк. Эти люди знали, на что и во имя чего они идут. Но что знали другие – те, кто доверился им? Корабли Лаперуза поглотило море, их растерзали острые пики коралловых рифов, опутали липкие водоросли лагун. Но сколько безвестных матросов погибло вместе со знаменитым капитаном? Сто? Триста? Тысяча? Русанов отправился на своем хлипком, смешном куттерочке «Геркулес» обследовать Шпицберген – такова была официальная версия. Однако неожиданно для всех после Шпицбергена Русанов махнул на восток, искать дорогу в Тихий океан! Он был один? Нет. С ним исчезла его невеста, Жюльетта Жан. Капитан Кучин. И еще восемь человек – штурман, два механика, кок, четыре матроса. Их имен мы не знаем. И не узнаем никогда, открыл ли им Русанов истинную цель своего путешествия – до выхода в море, во время обследования Шпицбергена, при прокладке курса к Новой Земле – или не разделил обжигающей тайны своего честолюбия ни с кем: стоят ли они ее, этой тайны?.. «Не те люди!» – резко ответил мне Путилов, когда я спросил у него в первую же встречу, что думает он о коллективе управления, и тогда я еще не знал, что эта замечательная формулировка будет преследовать меня во время последующих поездок по тюменским краям, а я буду гадать, кто же они – «те» и где же их взять... Немного позднее мы увиделись в Сургуте с Лёвиным, и тот поинтересовался: «Как там в Нягани наш Путилов? Прижился?» – «Ты знаешь, Михалыч, – сказал, я, – его, по-моему, какой-то внутренний огонь сжигает...» – «Внутренний? – засмеялся Лёвин. – Да он чуть ли не в первый месяц контору спалил! Во пламя было! Аж отсюда видно! А ты говоришь: внутренний огонь, внутренний огонь...» То была шутка, конечно. Но уже не на шутку, а всерьез вместе со старой конторой сгорели не только чьи-то дурные повадки, вздорные претензии, равнодушная леность, нерадивая безграмотность, бестолковое, суетливое угодничество – в том огне сгорели еще и чьи-то надежды... Но разве пристало рассуждать о личных планах, о частной судьбе, когда надо было работать, надо было выполнять план, надо было давать нефть стране?







