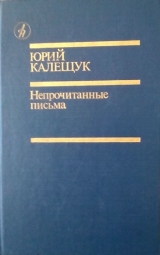
Текст книги "Непрочитанные письма"
Автор книги: Юрий Калещук
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 41 страниц)
Алла Гейдек, начальник отряда Северной геокриологической партии, открыла нам глаза на многое. По-моему, кое-что было даже лишним, ибо, как верно замечено, знания умножают скорбь. Мы узнали, что два чудака из того вечернего вертолета были не моими, а ее коллегами. Мерзлотники прилетали на десятую буровую убедиться, что они были правы в своих предположениях и рекомендациях. Последние же заключались в следующем: десятая буровая стоит на температурном уступе, и вести здесь буровые работы летом нельзя – солифлюкция неизбежна. Неизбежно что?» – переспросил я. «Солифлюкция, – небрежно повторила Алла, – оползневые явления при растеплении мерзлоты. Мы рекомендовали ставить буровую в другом месте. Нас и слушать не стали...»
Дальнейшая судьба «десятки» складывалась так.
После Нового года бригада вернулась на буровую. Подняли балки, отогрели застывшие механизмы, обжились, промыли скважину, восстановили циркуляцию, забурились.
Через двести с небольшим метров заработал пласт.
Стали давить пласт раствором. Довели удельный вес промывочной жидкости до одного девяносто пяти – все равно хлещет. Снова пошли в ход лопаты. Гематит был мерзлый, на ночь оттаскивали его к факелу, оттаивали. Работали сутками: гематит, гематит, гематит...
Пласт работал. Спустили хвостовик, шестидюймовую колонну. Вскрыли еще один аномальный пласт – от него защититься было уже нечем. Зацементировали инструмент. Стали отворачиваться обратным ходом. Отвернулась только «четверка» – верхние свечи.
Удалось исследовать лишь сеноман, ближний продуктивный газоносный пласт. Своих геологических задач скважина не выполнила.
Через год после описываемых событий начальник технологического отдела Главтюменьгеологии Иван Яковлевич Гиря, лауреат Ленинской премии, напечатал статью в газете «Тюменский геолог»:
«В 1976 году в Ямальской, Карской, Уренгойской, Тазовской и Тарко-Салинской экспедициях шесть скважин вскрыли газоконденсатные пласты с аномально высоким пластовым давлением (АВПД). Ни одна не выполнила поставленных перед ней задач. На Севере мы имеем дело с широким распространением продуктивных пластов с АВПД, располагающихся, как правило, под мощными непроницаемыми глинистыми пластами. Мы оказались неподготовленными к ведению буровых работ в зонах АВПД ни практически, ни теоретически. Совершенно не разработаны вопросы их прогнозирования, в стороне от важного дела оказались геофизики и геологическая наука...»
Но это было написано только год спустя.
А тогда все метры – пройденные и непройденные, надежные и безнадежные, правильные и неправильные, – тогда все это продолжало жить в памяти рук, в памяти глаз, в памяти сердца...
Вездеход ныряет в распадок, и вышка пропадает; когда мы вновь поднимаемся на сопку, десятого номера уже не видно: над озерами клубится туман.
ГЛАВА ШЕСТАЯ. ДРУГАЯ ЖИЗНЬ
– Ты что, Подосинин, – сварливо говорит Панов, – спать сюда приехал или работать?
Панов стоит в дверях, из которых тянет стеклянным холодом осенней реки, и лицо его, по обыкновению, обиженно и недовольно...
На буровую мы приехали затемно.
По дороге пришлось завернуть на «горку» – получить оборудование для новой установки. «Горка» – с щеголеватыми арктическими балками, двухэтажным общежитием-конторой, недостроенным домом, который нагловато светился свежеструганым брусом, и с громоздким сундуком мехмастерских, сработанных из металлоконструкций и железобетонных блоков, – навевала лютую тоску своим видом подступившей, но захлебнувшейся на полуслове цивилизации. Картину дополняли два парохода, дымившие на рейде, и орава бичей, деловито куривших на берегу. Мы неуклюже и неумело топтались по коридорам, выписывая накладные, бестолково слонялись по поселку, разыскивая сначала склад, потом кладовщика, и в стук топоров, рев тягачей и перебранку компрессоров вплеталось сентиментальное стрекотание пишущей машинки. Битый час мы стояли в очереди, пытаясь пообедать, и хотя меню здешней харчевни составлял все тот же печально знаменитый «шашлык по-карски» – тушенка с гречкой или рисом, эта неторопливая очередь, шуршание бумажных денег и звон меди, от которого мы отвыкли, расписываясь ежедневно в кредитной тетрадке нашего котлопункта, меланхоличный поваренок, в белом фартуке и колпаке, разливавший компот по скользким кружкам с таким видом, словно ставил химический эксперимент, тоже напоминали нечто полузабытое, далекое.
Потом мы долго ехали тундрой, и постепенно, по мере того как мы удалялись от побережья, выше и гуще становились травы, а поляна морошки, уже схваченной утренниками, была как затаенная улыбка (кто не бывал на Севере или Дальнем Востоке, тот никогда не узнает, что это за ягода) – рассказать ее невозможно. Мы ползали по мокрой траве, и колени были мокрые, и локти были мокрые, а зубы вязала пряная стужа...
Путь перегородила река. Вездеход осторожно сполз с пологого берега в воду и, погрузившись по дуги чуть скошенных крыльев, медленно поплыл, расталкивая неровные волны. Еще полчаса – и в стремительных сумерках показались огни седьмой буровой.
Выстроившись цепочкой на шатких мостках, мы молча перекидали в отведенный вахте балок рюкзаки и кастрюли, спальные мешки и самодельные электроплитки. Затем, выхватывая друг у друга молоток, принялись вбивать в стенки разнокалиберные гвозди. Через час балок казался давно и надежно обжитым: болтались на стенах куртки, штаны и рубахи, в углу пристроился «Ветерок» и, бормоча, гнал теплый воздух, окна были завешены зелеными обрезками бурукрытия скорее по привычке, оставшейся от белых ночей, чем по необходимости, – дни-то уже незаметно сошли на нет. Поскрипывая, раскручивались катушки магнитофона, и все те же оболтусы надрывали свои слабенькие голоса: «Листья закрюжят, листья закрюжят – и улетят, очень мне нужжжен, очень мне нужжжен синий твой взгляд. Если ты любишшшь, если ты любишшшь – так и скажжжи, если не любишшшь, если не любишшшь – ты письмо не пишшши!..» А на сковородке, шкворча и разбрызгивая закипевший лярд, жарилась яичница с томатным соусом и луком. Гриша помешивал ее, приговаривая: «Черт, плитка на корпус замыкает. Даже когда алюминиевую ложку макаешь, бьет. Не веришь, Калязин?» Он схватил Калязина за ногу, тот инстинктивно вздрогнул, а Гриша проговорил разочарованно: «Э-э, у тебя и тела-то нет. Один кальсоны».
После яичницы мы обстоятельно пили чай. Заглянул Панов – приоткрыл дверь и бросил: «Твоя вахта, Подосинин, завтра в ночь выходит. Забуримся». И хотя Гриша, скептически хмыкнув, пробормотал: «Куда забуриваться? Еще весь инструмент на берегу...» – неожиданность предстоящих суток полного безделья настроила нас на сентиментальный лад, мы налегли на чай и воспоминания. Часа в три ночи пришел Валера, а с ним маленький, крепко сбитый усатый человек с большим носом-грушей, которого Гриша встретил восторженным: «Варфоломеич!» Маленький человек отвечал сдержанно и немного снисходительно. Поговорили о рыбалке. Потом Варфоломеич поглядел на меня откуда-то сбоку строгим и ясным взглядом и четко произнес: «Послушай, у меня память на лица – во! Я тебя видел. Сейчас скажу когда. В марте шестьдесят третьего, аккурат под женский праздник. Ты был на шоссе Энтузиастов, дом сто восемь, четвертый подъезд, вход под аркой, у Толика Чернова. Там еще такой сюжет был...» Никакого Толика Чернова я не знаю, в начале марта шестьдесят третьего мы болтались под разгрузкой у Шетландских островов, потом побежали на промысел, но не добежали – две недели не прекращался шторм и две недели мы «молотили носом на волну». На шоссе Энтузиастов я не был ни в шестьдесят третьем, ни в шестьдесят пятом. Я подозреваю, что не был там никогда. Но спорить с человеком, у которого «память на лица – во!», бесполезно, и я говорю: «Ну». «Так что же ты раньше молчал?!» – возмущается Варфоломеич и начинает вспоминать подробности.
Мы славно поговорили в ту ночь, опустошив четыре чайника вяжущего скулы чаю и успев обсудить достоинства и недостатки различных способов ликвидации прихватов, вздорный характер знакомых и незнакомых блондинок и положение в Португалии. Занимался новый день. Возможно, где-то всходило солнце. До вахты оставалось восемнадцать часов.
– ...Так ты спать сюда приехал или работать?
Панов стоит в дверях, из которых тянет стеклянным холодом осенней реки, и лицо его обиженно и недовольно. Вот так, начинаем сначала.
Десятая буровая зарастает ржавчиной и илом, следы тают, как тает инверсионная пыль, задремывает тундра, просыпается седьмая буровая, мы рядом, мы далеко, безмятежно спит Вовка Макаров, Калязин лежит в своем углу, затаенно сопя, Панов и Гриша, дурацкие свары и мучительное тщеславие, метры, план, начало, надежды – так же, как было.
– Михалыч, – примирительно говорит Гриша. – Ты же сам сказал, что мы в ночь выходим...
– Мало ли что я вчера сказал, – ворчит Панов. – А сегодня подумал и решил направить твою вахту с утра. Инструмент надо подвезти, глину для раствора...
Панов уходит, оставив дверь открытой.
– Он подумал, – бормочет Гриша. – Он подумал и решил...
Спрыгивает вниз со своей верхней полки Вовка Макаров, сразу ударяет по клавише магнитофона: «Каждое слово, каждое слово – капля росы. А разговоры, а разговоры – лишшшь для красы. Если ты любишшшь, если ты любишшшь – так и скажжжи-и...» Вовка торопливо проделывает какие-то куцые, дерганые упражнения, растягивая толстую резиновую ленту и подпрыгивая, а затем переворачивает в балке все вверх дном, разыскивая носки.
– Пошли, что ли? – нетерпеливо говорит Гриша.
Чтобы продернуть строп под полузатонувшей тушей УБТ – утяжеленной бурильной трубы, – надо встать на колени, засунуть руку по локоть, а лучше по плечо, в колючую черную воду, найти, расковырять щель, в которую пройдет петля стропа, накинуть петлю на крюк тракторного крана.
Вира!
Кран выдирает трубу вместе с какими-то кореньями, комьями, ошметками, приподнимает ее над кузовом вездехода.
Майна!
Под каждое вира оседает кран – вот уже и гусениц не видно; после каждого майна ниже становится вездеход – словно тает, как кусок масла, брошенный на горячую сковородку.
– Стоп, – говорит Гриша. – Больше он не потянет.
Вездеход, пыхтя и откашливаясь, выползает из ловушки, кран пытается пристроиться ему в кильватер. Наивная затея: он и с места тронуться не смог. Возвращаем вездеход. Утробно ворчит его лебедка, спрятанная под днищем кузова, мы с Гришей подхватываем тяжелый трос, тянем его к крану, стараясь прыгать с кочки на кочку. Со стороны, наверное, это выглядит забавно: на одной кочке нет места для двоих, мы прыгаем в разные стороны, не выпуская троса из рук, и в конце концов он соединяет нас в какой-то холодной яме. Выбираемся ползком, цепляем трос к форкопфу крана; Калязин с Вовкой Макаровым тащат второй трос от вездехода к массивному болотоходу на широких гусеницах: он будет играть роль якоря. Стягиваю сапоги, руками выгребаю оттуда грязь, соскабливаю ее ножом с портянок, обуваюсь снова. Гриша смотрит на меня скептически: «Сама спрессуется». Жалобно воет лебедка вездехода, валит черно-синий дым из выхлопных труб, напрягаются тросы. Кран медленно ползет вперед, сдирая тонкий слой ржавой земли. За его гусеницами открывается фиолетовая матовая плита.
– Атас! – кричит Гриша и сбивает меня с ног, падая рядом.
Трос рвется со звоном и хлестко вонзается в бугор.
– Что ж, еще потренируемся, – говорит Гриша.
Цепляя и перецепляя трос, мы тренировались довольно долго. Стальные пряди лопались, как гнилые нитки, мы едва успевали отскакивать в стороны, и тут уже было не до того, чтобы выбирать место, куда поставить ногу. Черпали мы сапогами ледяную жижу еще не раз, и Гриша оказался прав: она хлюпала сначала, а потом перестала. Спрессовалась, наверное.
Кран добрался до буровой, пропахав траншею шириной метра три и глубиной полтора.
– Ну, ничего, – говорит Калязин. – Ничего... Теперь он дорогу сделал – дальше легче будет.
– Не дорога – метро, – добавляет Гриша. – Черт, ну хотя бы второй кран был! Хоть на неделю!
Через два дня прибрежный клочок тундры – сто метров на двадцать – вдруг снимется с места и сначала медленно, потом все ускоряя ход, покатит в речку. А с ним бочки солярки, трубы и болотоход. Правда, ему удастся зацепиться траками за береговой край, а трубы канут, бочки уплывут в Карское море. Быть может, их замоет, занесет морским песком, а может, шторм выбросит их на берег где-нибудь напротив десятого номера.
– Ладно, – говорят Калязин. – Зима скоро. Ну да, хмыкает Гриша. – А потом весна. Это ты верно подметил.
– Опять ты, – обиженно сопит Калязин. – И когда это кончится? Вот придет вертолет – улечу на «горку», пойду к начальнику экспедиции: принимали бурильщиком – ставьте бурильщиком. А то...
– Что «а то»? Ничего. Ладно, пока поработаем такелажниками.
После вахты, преодолев триста метров перепаханной тракторами земли, выбираюсь в тундру, и хотя силуэт буровой виден отчетливо, ощущение заброшенности в бесконечном пространстве начинается с первого шага по пружинящему мху. Тундра безгранична и загадочна. Летят над головой птицы, земля изрыта бесчисленными норами леммингов, копошатся в траве какие-то мелкие существа, не имеющие для меня названий, это другая, дочеловеческая, в нечеловеческая жизнь. Отделить себя от нее легко, но как понять себя в этой жизни, если она существует независимо от того, отделяем мы себя от нее или не отделяем? Тундра безгранична и загадочна. Тайга безгранична и загадочна. Степь безгранична и загадочна. Что же, кроме непонимания и растерянности, спрятано за этими ничего не значащими словами?
«...Ибо признаемся наконец, – говорит Рильке в «Письмах из Ворпсведе», – пейзаж нам чужд, и страшно одиноким чувствуешь себя среди деревьев, которые цветут, и среди ручьев, которые текут мимо. Наедине с мертвецом и то не чувствуешь себя таким заброшенным, как наедине с деревьями. Ибо какой бы таинственной ни была смерть, еще таинственнее не принадлежащая нам жизнь, жизнь безучастная к нам, не замечающая нас, празднующая свои праздники, за которыми мы, словно случайные, иноязычные гости, наблюдаем не без некоторого замешательства...»
Лет двадцать назад мне надо было попасть в дальний совхоз. Была осень, распутица, рейсовые автобусы проходили только половину пути, а попутных машин вовсе не было, и последние семьдесят километров я шел пешком. Надвигались сумерки, и степь, казавшаяся пустой и пустынной, оживала, но пробуждалась чужая жизнь, неведомая мне. Я терял дорогу, вновь отыскивал ее, шел кругами, считая, что иду вперед. То было лихое, безмятежное время. В целинной газете собралось десятка два отчаянных обормотов, мы ужасно гордились своей газетой, друг другом, собой и пели меланхолическую песню собственного сочинения: «А после нас здесь будет тишина, никто не протрубит сигнала к бою, и будет этот мир как целина до нашего пришествия с тобою...» Во многих из нас с той поры надолго осталась эта иллюзия и вера, что, если мы не придем, мир будет пуст...
Я снова спускаюсь к реке и на месте разгрузки нахожу обгоревшие доски, следы костра.
Есть что-то необъяснимо пронзительное и невосстановимое – как смытые дождем слова письма – в пепле чужих погасших костров. Как покинутый дом. Как заброшенный сад. Как ржавый остов десятой буровой, покосившейся, словно надгробье, с разбросанными вокруг голубыми черепками цветочных ваз...
Ночь была путаная и вялая. Готовили раствор, опробовали оборудование, Панов стоял над душой в нетерпении – когда можно будет бежать на рацию и сообщить «горке», что мы забурились.
– Быстрее, быстрее давай, – подгоняет он. – Что вы копаетесь?
– Сейчас поспешим – потом больше времени потеряем, – возражает Гриша. – Инструмент не подготовлен, химреагентов нет, приборы не действуют.
Панов набирает в грудь воздуху побольше и произносит длинный, вдохновенный, хотя и несколько однообразный монолог, посвященный описанию громоздких родственных отношений, которые связывают его с буровым инструментом, химреагентами, гидравлическим индикатором веса, буровой вышкой в целом, с рекой, тундрой и еще почему-то с 72-й параллелью северной широты.
И уходит.
– Конечно, – ворчит Гриша, – главное ведь – рапортануть, а потом хоть трава не расти.
Около шести утра посветлел в разрывах юго-восточный край неба, потом разрывы стали бледно-оранжевые, с зеленоватым оттенком, а основной фон фиолетовый; школьные чернила перемешали с синими, плеснуло розовым – и за речку упали солнечные лучи.
Проходит день, еще одна ночь, и наступает утро, когда мы прибегаем с вахты и, наскоро переодевшись и кое-как умывшись, садимся вокруг стула с отломанной спинкой, на котором стоят четыре литровые банки венгерского компота «Ассорти». Пошло бурение!
Чокаемся компотом.
– За ускорение! – говорит Вовка.
– Чтоб все нормально было, – говорит Калязин. – Нормально чтоб все...
– Грамотно, – добавляет Гриша.
Мы сидим, прислушиваясь к звукам, доносящимся с буровой, узнаем, читаем их, как редкую и желанную книгу: бурение, проработка, наращивание, снова бурение... – и говорим, перебивая друг друга:
– Вахта Ослина метров сто возьмет.
– И уразумбетовская.
– И мы дали сорок метров.
– Еще ночь – кондуктор спускать начнем.
– А там турбобур привезут – веселее пойдет.
– На четвертом номере мы из-под кондуктора сто двадцать метров взяли...
– За вахту?
– За вахту.
Пролетает над берегом вертолет, посвистывая и прихлопывая винтами. Стих. Значит, сел. Что-то привезли. Жизнь, в натуре, как сказал бы Мишаня. Неделю вертолеты не летали, а стоило дать первые метры, как тут же погода установилась.
– Ну, я угорел, – говорит Мишаня, появляясь в дверях. – Компот они пьют! Пить им больше нечего.
– Здорово! Вернулся!
– Не, я повидаться.
– Что привезли? Турбобур?
– Долота... Мужики, «Урал» мне дают, точно!
– Так сразу?
– Ну, не сразу. Пока не дают – до морозов, чтоб их морской водой, если по берегу ездить, не извести...
Тот же нос, немного крючком, те же глаза, большие, светлые, а от того легко меняющие цвет, то же красивое нахальное лицо – и все же в облике Мишани появилось что-то незнакомое.
– ...Но «Уралы» есть, в натуре. Двенадцать штук! В общем, мужики, как только зимник установится – я к вам, с первым грузом.
– Так нас здесь уже не будет, – насмешливо говорит Гриша. – Что нам здесь делать? Скважину добурим – и на «десятку» вернемся.
– Вы забуритесь сперва...
– Забурились, Миша! Не слышишь, что ль?
– Сорок метров дали за полвахты!
– И Ослин даст метров сто!
– И Уразумбетов!
– Ну, мужики, – говорит Мишаня, и глаза его странно блестят. – Удачи вам.
Внезапно гаснет свет, блекнет, остывая, спираль плитки, замолкает «Ветерок», и балок стремительно наполняется промозглым холодом позднего сентября. Гриша говорит беззлобно:
– Вот гады. Автомат у них вырубился – и никто рогом не шевельнет, чтобы свет в балки дать. Куда там – идет бурение!
Но вдруг он предостерегающе взмахивает рукой и наклоняет голову, прислушиваясь. Тихо. Даже тревожно оттого, что стало так тихо.
Буровая молчит.
Распахивается дверь, появляется Валера. Скептически покосившись на банки с компотом, наливает себе холодного чаю.
– Суши весла, – говорит он. – Приехали. Вал фрикциона полетел.
– Новое же оборудование! – удивленно произносит Кялязин.
– Ага, – говорит Валера, с отвращением отхлебывая чай. – Было новое. Пока на восьмом номере – эта буровая ниже нас по реке стоит – вал не запороли. И нет, чтобы подождать свой из ремонта – отсюда новый сняли. А тот, отремонтированный, нам воткнули...
– После ремонта же! – по-прежнему недоумевает Калязин.
– Лучше бы до. Вот снежные люди: у них подшипника под руками не оказалось, и они плашку стальную выточили. А она не крутится, а катается. Ездит. Все там изъездило... Какая-то труха.
– Да-а...
– Я себя сейчас кляну, – неожиданно говорит Валера. – Я же первый сюда прилетел. Все тут облазил. Знал, что вал чужой, крышку на коробке передач поднимал, все обсмотрел – а этот поганый подшипник не заметил.
– А на восьмом, – спрашивает Гриша, – нормальный вал? Ничего с ним до конца скважины не произошло?
– До восьмого номера сейчас не добраться, – говорит Калязин. – Куда-a... Раскисло все.
– Слушай, Валера, – нервно говорит Варфоломеич, врываясь в балок. – Я тебя долго ждать буду? Яхта под парусами, а ты лясы точишь.
– На рыбалку, Варфоломеич? – спрашивает Каляевы.
– Ну.
Валера допивает пустой чай и уходит. В балке сыро и неуютно. Вяло стучит по крыше медленный дождь. Какая долгая осень...
– А ведь был тот бурила со столетним стажем... Откуда я знал, что на таких установках он никогда не работал?
– Кто? – спрашиваю я.
– Да тот мужик, который руку мне чуть не оттяпал. Понимаешь, бурильщиков не хватало, и мы молотили «через восемь» больше месяца. И тут присыл а юг новичка. Ну, как сказать – новичка? Ему за сорок, про кого ни спросишь – и с тем работал, и с этим. Дали ко мне в вахту дублером. Много про человека узнаешь, когда он тебе в затылок дышит? На подъеме инструмента ставлю его за тормоз, сам беру шланг с паром – зима еще была – и у ротора сажусь, муфты паром отогревать. Подходит очередная свеча. Сижу. А он там как застыл. Я его из-за пара не вижу, только слышу, что автоматический ключ не фурычит. Подождал. Потом не выдержал, поднимаюсь – а рука со шлангом тоже вот так вверх пошла. Кричу: «Ты чего не отворачиваешь?» И тут я его увидел и он меня. Увидел он – и сразу включил автоматический ключ. А тот своей челюстью по шлангу, по руке – и в пасть. Если б не шланг – хана, шланг тормознул ключ. Меня в больницу, открытый перелом трех пальцев, а выписался – в помбуры... Да-а... Между прочим, до конца вахты оставалось двадцать минут.
Калязин напряженно вслушивается в его слова – чего-то Гриша недоговаривает. А Гриша, раскурив сигарету от сигареты, заключает:
– Морозов уже на «горке». Через день-другой будет здесь.
– Будет здесь, – как эхо, повторяет Калязин. – Через день-другой...
Его шанс вернуться в бурильщики, и прежде равный нулю, теперь превращается в величину минусовую. Да и все мы пребываем в некоторой растерянности. Жизнь наша, как будто начавшая приобретать последовательность и стройность, вновь пошла по замкнутому кругу. Такими кругами она двигалась для меня в первые дни на буровой, когда я был поглощен лишь тем, чтобы поскорее научиться ремеслу, набраться мускульной памяти. Все остальное существовало как плохо освещенный, почти неразличимый фон. Ну, а после, когда элеваторы и переводники, свечи и клапана, шарошки и шаблоны, слегка подчинившись, отступили, – стали проявляться лица и послышались голоса, возникла смутная логика движения. Куда же теперь все снова исчезло? Иногда начинает казаться, что десятая буровая – это какой-то плюсквамперфект, что наша жизнь давно и надежно отвергла прошлое и настолько преуспела в этом, что каждый новый день независим от дня предыдущего и не несет даже отблеска бытия в день следующий. Все плоско и одномерно, наши лица стерты усталостью, как стирается, снашивается ткань брезентовки, и разве дано брезентовым курткам понять, измерить, соразмерить, запомнить уроки прошедших вахт, разве усталость ткани означает накопление опыта? Мы придавлены, смяты и стерты однообразием быта и однообразием производственных свар, мы забыли о том, что для Вовки Макарова – это начало биографии, для Калязина – попытка отредактировать судьбу, для Гриши – реализация представлений о себе самом, для меня – желание расширить свои представления и надежда понять представления чужие.
– Панов говорит, на «горке» сейчас много народу топчется, – продолжает Гриша. – Одних бурильщиков на целую бригаду...
– Это они нарочно! – вскипает Калязин. – Нарочно! Чтобы ни у кого уверенности не было, что он нужен!
– А может, просто новую бригаду будут создавать? – подает голос Вовка Макаров.
– Вовка, – улыбается Гриша. – А ведь ты прав. Точно. К тому идет. Ну, как я сразу не догадался?
Пустяк, слабая вера в возможность перемен – и как легко в это веришь. Калязин смотрит на Вовку с благодарностью. Новая бригада, новые вакансии. Кто знает?..
– Что-то долго Валера с Варфоломеичем не возвращаются с рыбалки, – говорит Калязин.
– С рыбалки? – продолжает улыбаться Гриша. – Вернутся.
Сначала показалось вдали слабое полукружье света.
Приближаясь, оно раздвоилось, и послышался ровный нарастающий гул.
Шел третий час ночи.
Мы бросились на край приемного моста, вглядываясь в темноту, словно островитяне, заметившие в ночи зыбкие паруса корабля и неверный свет керосиновых фонарей.
Гул нарастал. Лучи обозначившихся фар били от самой земли.
Однажды я видел в кино, как плывут бегемоты – только ноздри видны над водой. Похоже выглядел вездеход: над тундрой светились пуговки фар, а все неуклюжее и сильное тело его было скрыто от глаз. Вездеход подошел к приемному мосту, неловко развернулся и стал сдавать назад. Из кузова, плохо прикрытого рваным тентом, торчали две головы: Валера поглядывал на нас с нескрываемым торжеством, Варфоломеич ехидно улыбался.
– Буди крановщика, Гриша!
– Вал привезли?
– Ну.
Пока крановщик одевается, запускает двигатель, перегоняет агрегат к приемному мосту, Валера рассказывает:
– Сели мы с Варфоломеичем в его моторку – и на восьмой номер. Пока вездеход телепался, начали вал к погрузке готовить. Ну, а вся механизация у нас – цепные таля да два лома.
– Но самое забавное на обратном пути было. Спускаемся к реке, этот сундук на гусеницах переходит в плавучее состояние. А тяжесть будь здоров, борта сантиметров на пять над водой поднимаются, даже сильно вздохнуть боязно, сидим не шевелясь. И тут меня смех разбирает, просто трясет всего. Знаешь отчего? Я вдруг вспомнил трактормена с четвертого номера, который не знал, что вездеходы плавают. Помнишь, Гриша?
– Он однажды за вездеходом поехал. След в след. А тот возьми и в озеро сверни. Трактор за ним... Была потеха!
– Да, он жутко удивился, когда трактор начал тонуть...
Кран кладет вал и тяжелую чугунную крышку на край приемного моста. До дизельного сарая еще метров сто с трехметровым подъемом по козырьку.
– Маленькая задачка на сообразительность, – говорит Варфоломеич. – Условия: вес – четыреста кэгэ, лебедка не работает.
Гриша цепляет к валу петлю троса, говорит мне:
– Перекинь трос через кермачный ролик.
– Так вспомогательная лебедка тоже не рабо...
– А свободный конец быстро сюда!
Свободный конец Калязин с Вовкой крепят к тракторному крану.
– Хотя и не механик, – говорит Валера Варфоломеичу, – а соображает...
– Пошел, – Гриша машет крановщику.
Тракторный кран медленно набирает ход, а вал ползет в противоположном направлении, к козырьку. Поддерживая вал руками и одновременно уворачиваясь от него – крановщик смотрит назад, но видит только Гришу, стоящего на краю, и, чтобы остановить движение, надо махнуть Грише, а Гриша махнет крановщику, а тот нажмет на тормоза – это когда еще он нажмет! – мы вталкиваем стальную чушку в дизельный сарай, выломав всего две доски над входом.
– Примерно так, – говорит Варфоломеич. – Только грузить в вездеход это добро без крана было довольно скучно. Мы уж и полозья из «энкатэшек» заготовили, но все равно: качнуть-то надо. А уж это – только ломами...
– Ты бы поспал, Варфоломеич, – говорит Гриша. – Тебе же с восьми?
Ни Варфоломеич, ни Валера не откликаются – ворочают, устанавливают вал, крутят гайки, болты, и с лица Валеры не сходит торжествующая улыбка:
– Сегодня забуритесь, мужики!
Варфоломеич тычет мне в бок острым локтем и спрашивает, хитровато прищурившись:
– Так значит – шоссе Энтузиастов, дом сто восемь, под аркой?
– Выходит, так.
– Нет, не выходит. Я и в Москве-то после шестьдесят третьего почти не бывал. Как улетел на Север – не могу. Тянет, конечно. Но попадаю туда – сюда тянет. Что-то не то. Знаешь это как? Любишь одну, а она чужая, ищешь ее во всех – и ни в ком не находишь... В его словах, да и в голосе тоже, слышно такое, что я осторожно бросаю взгляд на его лицо. Глаза у него грустные и серьезные. Я жду, когда он снова заговорит, но он долго молчит, а когда вновь принимается разговаривать, то это уже другой голос и другие слова.
– В Уренгое у нас был один – отмотал лет двенадцать и решил домой вернуться. Через полгода – опять к нам. А Саня Анищенко ему: «И чего же ты? Дома, поди, огурцы каждый день ел, а здесь – даже огуречного лосьона нет...»
– Саня и не то мог сказать.
– Ты его знаешь?
– Знаю. Я был в Уренгое.
– А я что говорил? – вскидывается Варфоломеич. – Я же говорил: у меня память на лица – во!
...Разведочные буровые стояли на север от Уренгоя – по берегам Пура и его бесчисленных притоков; туда ходил пузатый «миша», вертолет Ми-6. Он летел долго, с короткими посадками, и сумрачное брюхо его постепенно пустело. На одной из таких посадок вылез и я. Буровая вышка стояла над обрывом, внизу лежал ноздреватый снег, на буровой шел подъем инструмента, узколицый парень лихо гонял элеватор, весело покрикивая на помбуров, и все норовил подняться на «погулянку» и поглядеть, далеко ли ушли два диких оленя, показавшиеся в конце вахты на том берегу реки. Сдав вахту, узколицый парень подхватил ружье и умчался на охоту. Увидел его снова я только ночью, когда он вышел подменить заболевшего бурильщика другой смены. Потом мы виделись часто – и когда он сосредоточенно стоял у тормоза, и когда, развалившись на рундуке, вдохновенно врал об охоте, и когда добродушно подтрунивал над сменным мастером, молоденьким Федей Хуснутдиновым. Это и был Саня Анищенко...
– Хотя, может быть, и не в Уренгое... – продолжает Варфоломеич. – Вот если бы так: я беру ружье, ты берешь ружье, берем спички, соль, спальники – и уходим дня на три в тундру. Питаемся – что добудем, спим – где придется. Вот если пойдешь и не отстанешь – тогда, значит, виделись...
– А если отстану? Уйдешь один?
– Нет. Не уйду. Но дальше пойду, как будто один.
– Суров ты, Варфоломеич...
– А иначе нельзя. Вот мне говорят там, в Москве: надо уметь жить, надо уметь жить! А по-моему, так: надо – уметь. И все!
– Порядок, – говорит Гриша, вытирая руки ветошью. – Давай опробовать вал.
– Давай, – Валера и Варфоломеич откликаются одновременно.
И буровая оживает.
Валера уходит вместе с нами в восемь утра, когда появляется смена, а Варфоломеич остается.
Вахта Ослина сразу же начинает бурить.
Мы возвращаемся в уже согревшийся балок. Тихо падает снег. Мы забираемся в спальники – скорее бы прошло время до вахты! – мы ждем вечера, мы ждем полуночи, ждем ночи, когда придет наша пора бурить.
И эта ночь наступает.
– Скоро наращиваться, – говорит Гриша. – Понял, да?
Хотя нет, не сказал он этого – он и губ-то не разжимал, – просто мотнул головой влево и вниз, а потом брови поднял: вот так, понимаете? И снова застыл, уставившись на щит гидравлического индикатора веса. Только правая его рука, лежащая на тормозе, слегка покачивается – плавно и почти неприметно. Но лебедка отзывается на каждое движение руки скрипучим поворотом барабана, и этот скрип – то яростный, то неожиданно молящий о пощаде – рассекает, распластывает самодовольный рев дизелей, перекрывает глухое ворчание вала и сварливое дребезжание ротора. И витки талевого каната, расправляясь, освобождаясь; уходят наверх, к кронблоку, а тусклая гиря вертлюга, похожая на перевернутый шлем или на лоснящееся от пота лошадиное брюхо, рывками спускается вниз, подталкивая квадратную штангу, и квадрат, стремительно вращаясь, расплескивая длинные маслянистые брызги, оседает в скважине. Где-то вверху, на уровне третьего или четвертого пояса, возникает, постепенно опускается ниже, становится настойчивее и наконец заполняет собою всю буровую нетерпеливый неумолкающий звон – это стропы лупят по стертым бокам вертлюга: «там-там-там-там-там-там!..» «Послушай, – спросил меня водитель болотохода, он стоял неподвижно, придерживая расстегнутые штаны, и мучительно вслушивался в гулкие голоса ночи. – Послушай, – повторял он, – что вы там все время куете?» Там-там-там-там-там-там!.. А мы не куем. Мы бурим. Непонятные и враждебные голоса буровой, распавшиеся на отдельные звуки, внезапно соединились – и уже опять различимы, опять читаются слова, и смысл их ясен: мы бурим, вы понимаете?







