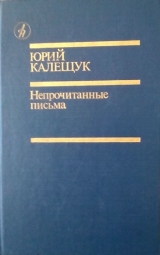
Текст книги "Непрочитанные письма"
Автор книги: Юрий Калещук
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 41 страниц)
– А кто вместо Тюмени в Пермь попал? Я, что ли? Ну, ты даешь, баскарма!
– Было дело, – улыбается Ибрагим. – Я со свадьбы летел – в самолете уснул...
– То-то.
– Это что, – говорит Валера. – Я в Тюмени на углу Мельникайте и Республики в троллейбус сел, а проснулся в поезде, который к Москве подходил. Станция Перловская какая-то. И ту без остановки проскочили.
– А в Москве что?
– Ничего. Полетел в Тюмень. Прилетел в Салехард.
– Бывает...
– Ну.
– Зимой был случай, – говорит Мишаня. – Вертолет вахту вез, ну, а все, конечно, вмазанные. Один парень сидит и курит. Выходит пилот: «Брось папиросу». Он: «Сейчас». Открывает дверцу, выбрасывает папиросу. И сам следом вниз! Все: «Ах! Ах!» Вертолет на посадку. А парню повезло – он на кусты какие-то, на снежный скат, в сугроб. Вылез. Видит: дорога, зимник, по нему машина едет. Поднял руку. Шофер удивился: на двести верст ни дымка – и человек. Остановился. «Ты откуда?» – «А я, – говорит, – с вертолета упал». Шофер решил, что парень сбрендил. Но тут уже и вертолет сел...
– Знаю я про это, – говорит Калязин. – В газете читал. Там еще писалось, что парень десантник бывший и сумел спланировать. На ватнике.
– Ну, я угорел... Десантник, ватник... Сам ты ватник! Вмазанный он был! – убежденно заявляет Мишаня. – Если б не вмазанный, у него бы сердце разорвалось!
– А где Варфоломеич? – вдруг вспоминает Валера.
– В отпуске.
– В Москву поехал?
– В Москву... Возле пятьдесят третьего номера он – знаешь, где вышкари кран утопили? Там у него лодка, палатка...
– Значит, с рыбой будем, – удовлетворенно заключает Валера.
– Занятно, – говорит Мишаня. – Есть ли здесь все-таки нефть?..
Такой поворот беседы никого не удивляет. Наивно, конечно, предполагать, будто они думают только об этом и не смыкают глаз, не обсудив геологические капризы здешних структур. И все же думают они об этом больше, чем говорят, хотя и говорят немало. Еще на Самотлоре я поразился тому, что слова, которые, казалось бы, безнадежно ушли из живого языка в линотипные кассы, здесь по-прежнему означают реальные отношения между людьми, по-прежнему приносят радость и причиняют боль, порождают азарт и смятение, унижают и возвышают. Наверное, я путаю причины я следствие: это радость и боль, азарт и смятение работы возвратили словам их живое значение.
– Сейсмики считают, должна быть.
– Что сейсмики! Самим охота поглядеть.
– Если горячку пороть не будем, увидим, – говорит Петро. – Засуетимся – подзалетим, как на втором номере.
– Да-а... – вспоминает Валера. – Как тогда скважина плевалась! С двух тысяч был выброс?
– Ну.
– Я целый месяц каждый день барит швырял, – говорят Мишаня. – Как в пасть.
– Да все тогда швыряли. И сухой барит, я моченый. А барит, если влажный, одна лопата килограммов тридцать весит. Руки пообрывали.
– Этому, с Ямальской, надо было руки пообрывать, – ворчит Гриша.
Беседа течет, прихотливо петляя, и в ее поворотах общие воспоминания соседствуют с особенностями характеров, но пока мне не дано знать, что именно, кроме давних воспоминаний и сегодняшнего штатного расписания, соединяет этих людей и что, помимо несходства голосов, интонаций и внешности, разделяет их. Пока мне кажется, что они едины, слитны, что здесь не место ссорам и распрям, что крепкий чай, снимая послевахтенную усталость, вымывает из души и шлак перегоревших обид.
Меня всегда тянуло к людям, выбравшим жизнь на краю или на пределе. Край – это не обязательно окраина в географическом или административно-территориальном смысле. Скорее – это черта, за которой человек вынужден или обязан действовать в полную, предельную свою силу, и такие действия продиктованы обстоятельствами и пониманием долга перед людьми и собою. Издали мне казалось, что эти люди, пренебрегшие бытовыми подробностями, неспособны к мелочному выяснению отношений, невосприимчивы к житейским драмам, которые иногда поглощают нас целиком в служебном или домашнем быту. Позже, наблюдая их вблизи – на рыболовецких траулерах и в отрядах изыскателей, в геологических партиях и выбросных лагерях туннелестроителей, – я замечал в них порой суетное тщеславие, капризное себялюбие, способность к вздорным размолвкам, но такое забывалось быстро, а помнилось другое, главное, и тяга к этим людям не угасала. Да и сюда меня привело прежде всего желание быть рядом с ними. Сейчас, когда вахта была позади, и волнения, страхи, сомнения, предшествующие ей, ушли далеко или спрятались поглубже, снова проснулся и заурчал самодовольный тщеславный человечек «как-же-это-я-и-не-смогу?», но я был к нему снисходителен. Наблюдая за неторопливым, извилистым током ночной беседы, я уже воображал себе, как промелькнет время – скорее бы! – и у меня тоже появятся воспоминания, и я смогу хрипло бормотать, прихлебывая горячий чай: «Помнишь, на десятом номере у нас обрыв инструмента был? Сколько мы тогда уродовались! А, Метро?» Мы и на первом номере могли загреметь, – говорит Петро. – Просто чудом спаслись.
– Ну да, – подтверждает Гриша. – Этот, с Ямальской, кричит: «Давай-давай, забуривайся!» – а утяжелителя нет. Ни барита, ни гематита.
– Без утяжелителя нельзя, – авторитетно заявляет Калязин. – Нельзя без утяжелителя. Эго же сразу на выброс нарвешься. Я когда в Тазу бурильщиком работал...
– Как насосы, Калязин? – неожиданно спрашивает у него Гриша.
– Насосы? Насосы... A-а, насосы! Красота. Поменял клапана. Часа четыре упирался. Да, знаешь, Гриша, по-моему, там поршень не то поет.
– Ты в этом уверен? – спрашивает Петро.
– Семь лет работал, знаю.
– У меня в Грозном помбур был, – говорит Гриша. – Путевый паренек. Вроде как ты, Калязин. Всегда чем-то занят. Бурение идет, я у тормоза, а он из насосной не вылазит, что-то там ремонтирует. Деловой. Все время слышу: «тук-тук, тук-тук» – ключами, значит, работает. А тут нам пора на вира. Зову-зову его – не слышит. «Тук-тук, тук-тук» – ну, заработался. Я к тормозу верхового поставил, сам к насосам. Гляжу – а помбур мой за кожухами лежит, один ватник подстелил, другим укрылся, в руке ключ, рядом ломик, и он рукой ритмично так во сне шевелит: тук-тук, тук-тук!
– У тебя! В Грозном! Паренек! – взрывается Калязин. – Ты, Сынок, не очень-то. У тебя воспоминаний больше, чем биографии. Ты когда к тормозу встал? Когда? Я уже бурильщиком работал, а ты еще долото от лопаты отличить не мог! Сынок!
Возникает неловкое молчание, и становится слышно, как неумолчно грохочут дизели, звенят серьги стропов, ударяясь о вертлюг, – это бурит ночная вахта, это бурит Годжа, пробурит сто метров и улетит в отпуск...
Калязин смотрит решительно и зло, Гриша растерянно улыбается.
– Пора спать, – говорит Петро.
Такси ныряет в долину, заполненную до краев туманом, и смазанные пятна фар встречных машин отлетают, как недосказанные слова. Поговорим потом. После. «Кто может знать при слове «расставанье» – какая нам разлука предстоит?..» Скорее. Щелкает электрическое табло: «Рейс задерживается... задерживается... задерживается...» Беги, там еще наши – успеешь. Льет дождь. Шуршат страницы в монастырской тишине. Хлещет раствор. Вертлюг похож на перевернутый цветочный горшок. Деревянная кадка с забинтованным цветком. Внуково? Тюмень? Мыс Каменный? Назад-вверх-вперед-щелк! Корабли на рассвете уплывают без нас. Ты долото от лопаты не отличишь. Сынок. Рейс задерживается... задерживается... задержива...
Представить страшно мне теперь, что я не в ту открыл бы две-е-е-ерь!.. – радостно кричит Годжа, и я просыпаюсь.
Какое-то мгновение мир еще продолжает сохранять свою четырехмерность. Потолок балка кажется похожим на старую штурманскую карту с катышками снятой ластиком бумаги и причудливыми следами полустертых курсов. Приглушенный и ровный звук дизелей напоминает гул двигателей самолета, набравшего высоту. Шорох одежды похож на замирающие шаги в высокой траве. Годжа, наполовину снявший свитер, спеленуто подергивает руками, словно пловец, опутанный водорослями.
– Земляк, – неожиданно спрашивает он, – ты «80 тысяч километров под водой» читал?
– Давно...
– Да? Не помнишь, чем там кончилось? У нас на четвертом номере была эта книжка. Только без конца. Они в какой-то водоворот попали, ага... Спаслись?
– Спаслись.
– Да? И я тут одному земляку говорил: должны спастись. Не верил.
– Как вахта? Бурили?
– Бурили, ага. Ротором крутили – турбобур скис. – Годжа надевает яркую рубаху, ремень с бесчисленными кнопками, смотрится в кривой осколок зеркала. – Здесь турбобуры-ой-ой-ой. Пока пароходы новых не завезут – наломаемся.
Сквозь прорехи бурукрытия, висящего на окнах, пробивается вялый, неровный свет.
– Гришкин отец, правда, обещал нам собрать хоть один...
– Подосинина отец?
– Гришкин, ага. Он на «горке» работает, в мехмастерских. Тут была эпопея... Сначала он мастером был, а Гриша у него в бригаде бурильщиком. Как вахта, так он: «Сынок, смотри!», «Сынок, осторожнее...» Потом его перевели. А тут и Гришке не повезло – пальцы под автоматический ключ подставил. Месяца два в больнице проторчал. Вышел – а его кинули в помбуры, ага. Он в бурильщики только на этой скважине вернулся, месяц назад, когда Морозов в отпуск улетел...
Вот как: вахту Подосинин принял недавно. Вахта – это шестеро: бурильщик (стало быть, Гриша), первый помощник бурильщика, помбур (судя по всему, Петро), второй помбур – верховой рабочий (Ибрагим), третий помбур – буровой рабочий (выходит, я), дизелист (бородач с цветами, Толян, живущий в аэропорту «рядом с радистами»), помощник дизелиста – «помазок» (Мишаня). А... Калязин?
– Годжа! А Калязин?
– Что – Калязин? Перерыв у него был. Он с Севера уезжал, вообще из бурения уходил. Давно практики не было. Пока второй верховой, ага... – Годжа прислушивается к звукам буровой, замечает: – Опять на вира пошли...
Слышен надсадный, захлебывающийся рев.
– Туго дело идет.
– А бригада Эрвье – слыхал? – добурила третий номер, обсадную колонну спускает. Испытания скоро, три пласта стрелять будут. Да-а... Любопытно, что же там, в этих пластах...
ГЛАВА ВТОРАЯ. ЧАС НЕ РАВЕН ЧАСУ
– Да что мне Эрвье! – кричит мастер в микрофон рации. – Что мне Эрвье! Ну и пусть колонну спускает! Пусть! Мы успеем. Успеем, говорю! Ты мне турбобур давай! Осознал?
Он швыряет трубку в гнездо и, продолжая ворчать, устало опускает голову на сплетенные руки.
Зуммер рации писклявый, капризный. Мастер морщится, но трубку не берет, отмахивается, как от надоедливой мухи.
– Будто я третий номер не знаю... Что там не бурить? Там геология спокойная.
– Верно говоришь, Гаврилыч, – охотно подтверждает Калязин. – Третий номер я тоже знаю.
Но мастера эта поддержка неожиданно раздражает.
– Верно, говоришь? Нет, неверно. В бурении вообще ничего спокойного не бывает. Осознал? Да-а...
Наверное, ему за сорок. И все же, если бы не усталость, он был бы похож на плакат – правильное лицо, ясный взгляд, решительно сжатые губы. Именно таким, похожим на плакат, он показался мне в первый миг нашего знакомства. Повертев в руках мое направление, он не выразил никаких чувств, хотя я знал, что людей в бригаде у него не хватает. И после, выслушав пояснения, разочарования своего не показал, только произнес меланхолически: «Людей не успеваю по технике безопасности инструктировать. Отстоит вахту-другую – и на «горку», а мне опять новеньких шлют: учи, дескать, Гаврилыч!» Пояснения же мои сводились к следующему: направление, где говорилось, что «Калещук Ю. Я. является помощником бурильщика 3-го разряда», – не более чем аванс, и звание бурового рабочего мне еще предстоит заслужить.
Приглядевшись к мастеру, я заметил, что он изрядно утомлен, держится на пределе, и скорее всего усталостью, а не свойствами характера объясняется некоторая замедленность реакций. За месяц с небольшим его бригада прошла почти две тысячи метров. Однако последние несколько дней проходки практически нет. Ну, что к этому добавить? Что небо голубое, снег белый, а трава зеленая? Тяжело поднявшись из-за стола и знаком предложив следовать за ним, мастер провел меня по буровой, на ходу коротко бросая: «Это насосы... желоба... вибросита... манифольд... лебедка... вспомогательная лебедка... ротор... а это идет спуск инструмента...» Потом мы вернулись к нему в балок, поговорили немного о Самотлоре и Уренгое, чуть меньше – о Москве и Тюмени. Вызвав базу по рации, он сказал кому-то: «Так мы будем ставить этого товарища. Вроде он манифольд с канифолью не спутает...» – и, написав несколько строчек на узенькой ленте газетных полей, отправил меня на «горку» за спецодеждой. «Сегодня осмотрись, а завтра...» Так ты, говоришь, в Уренгое бывал... А кого там знаешь? – спрашивает мастер у меня.
– Хуснутдинова...
– Недавно получил выговор в приказе по главку.
– Анищенко...
– О, это был охотник! Лихой!
– Салова...
– Салова? – ревниво переспрашивает Калязин. – Когда это ты его видел? Он же на Кубань уехал. Домой.
– Уезжал, – говорю я. – Года на Кубани не проработал...
– Вернулся – бурильщиком взяли?
– Да, в бригаду Глебова.
«Вот видишь!» или: «А я что говорил?» – так или примерно так читается взгляд Калязина, обращенный к мастеру. Но тот не замечает этого взгляда.
– Послушай, – говорит он мне. – А вот на Самотлоре... Там, поди, мастера редко на буровой бывают? Из дому по телефону позвонил – то да се, так да эдак... Или подъехал на пару часов. Там же бетонка?
– Бетонка. И телефоны в квартирах, верно. Только все равно на буровой сидят. Когда что серьезное – и ночи и недели безвылазно.
– На Самотлоре от скоростей все с ума посходили, так они думают – и здесь сойдет, – ворчит мастер. – А здесь не Самотлор. Здесь Ямал. Разведка... И первая скважина с такой глубиной проекта. Первая!
Над рацией висит пестрая бумажная простыня. «Геологотехнический наряд на строительство поисковой скважины № 10 Харасавэйской площади, – читаю я. – Проектная глубина – 3200 метров. Проектный горизонт – юра. Способ бурения – роторно-турбинный. Интервалы возможных осложнений: до 400 метров – возможны оползневые явления при растеплении...»
– Да какой на Самотлоре север? – говорит Калязин. – Придумают тоже... Там огурцы выращивать можно.
– В Тюмень, что ли, слетать? – вслух размышляет мастер. – Поди, грибы уже пошли... Какая там погода, а?
– Жарко.
– А дожди были?
– Были.
– Вот и славно. Дожди, говоришь, были...
«...возможны оползневые явления при растеплении многолетнемерзлотных пород, поглощение глинистого раствора...»
А дальше – прихваты, обвалы, газо– и нефтепроявления.
– Целый букет.
– Осложнений? Какой там букет! Сад и огород.
– Сад вроде бы прошли, – осторожно замечает Калязин.
– Да-а... задумчиво произносит мастер, не обращая внимания на реплику Калязина. – Надо нам продолбить семьдесят метров. Семьдесят...
– А после?
– Технической колонной займемся. Первая техничка у нас на две пятьдесят. Вот когда сад расцветет – подставляй руки.
«...Цель бурения: разведка на нефть и газ. Конструкция скважины: кондуктор на глубину 500 метров... первая техническая колонна... вторая техническая колонна... эксплуатационная колонна...»
Отступление в историю с географией
Ея Императорское Величество Самодержица Всероссийская Елизавета Петровна заинтересовалась Севером.
И повелела следовать на Ледовитое море по прибытии там имеющихся островах которые ведомы тамошным ясашным самоятцам справитца обстоятельно как велики и сколь далече от матерой земли и каких зверей на них те ясамные самоятцы ловят также как оные острова называются и расстояние назначить мерными верстами кроме самой невозможности».
Казачий сотник из Березова Иван Усков, на которого пал выбор, усмотрел для себя в этом деле всего две невозможности: оленей маловато и языков не знает. Решительное его нахальство вызывает восхищение; к тому же был он неуступчив.
«Хотя де у него Ускова имеютца собственные ево олени точию весьма малое число и одними без перемены в такое отдаленное место також и собаками тамошных поморских тундренных местах и за великими снегами також и за неимением лесов в которых и пищи сварить нечем и за неимением им корму никак следовать невозможно и просил: дабы де указом повелено было как ему так и при ем будущим казакам пот провиант и ружье от Березова до означенного ледовитова моря определить указное число подвод давать ясашным остяком и самоятцом и от юрт до юрт також и в вожи брать по одному человеку и для переводу их языка толмача Федора Палтырева а без оного следовать и о тамошних островах подлинного известия получить никак невозможно».
Отчаянный мужик, – одобряет мастер; он сидит у рации, нудно переругиваясь с диспетчером «горки». – Без оного невозможно – и все дела! Хотя и самодержица...
Калязин берет у меня книгу, рыскает глазами по ерам и ятям, задумывается.
– Усков? Усков. Усков... Что-то я читал про него... Хотя нет – это в Тазовской у нас помбур был Усков. Точно – Усков. Невысокий такой, с усиками. Мы еще смеялись: Усков – и с усиками. Помнишь, Гаврилыч?
– Не идет инструмент, не идет! – кричит мастер, объясняясь с базой. – Не идет, говорю, инструмент. Затяжки, да, затяжки... Графит? Есть графит, есть...
Пять дней Березовская воеводская канцелярия чесала затылки. Еще неделю составляла указ. Спасибо канцеляристу Никите – все изложил, как было. И что же? С перекладными просто решилось, а вот что касается переводчика, то здесь ответ был туманный – отдать толмача Ускову «по окончании ясашного сбора». Тюркское словечко «ясак» давно упокоилось в словарях, хотя прежде имело немалое хождение, и для различных толкований был в нем простор – от сигнала тревоги до определения чужого, условного языка. Века четыре назад оно утвердилось в значении натуральной подати, и лег на нем отблеск соболиного меха и отсвет дорожных костров, и пахло оно дымом, порохом, кровью. Низовья Оби и Таза, тяготеющее к ним побережье Ледовитого океана издавна входили в сферу торговых и политических интересов России. В XVII веке здесь стремительно взошла и закатилась звезда Мангазеи, а в начале следующего столетия, лет за тридцать до того, как дщерь Петрова повелела Березовскому воеводе снарядить экспедицию на Север, обер-секретарь петровского Сената Иван Кирилов завершил описание России, озаглавленное им «Цветущее состояние Всероссийского государства». Несколько строк этого обширного труда посвящено теперешней столице Ямало-Ненецкого автономного округа: «В Березовском уезде на устье реки Оби близ моря есть острожек, называемой Обдорской, в него посылаются служилые люди для сбору ясачного, подле ево живет остяцкой князец...» То ли сбор ясака в год предполагаемой экспедиции казачьего сотника Ивана Ускова шел туго, или самодержица «отлучилась властвовать», охладев к наукам, только дальнейшие следы Ускова теряются, и толковых сведений о Ямале до середины прошлого столетия не поступало. Отряд мог пропасть в долгой и трудной дороге, а если сотнику и удалось достичь студеного океана и благополучно вернуться в Березово – не думаю, чтобы незнание языка его остановило, – то отчет об экспедиции скорее всего сгинул в дебрях всевозможных канцелярий. Такие примеры в истории знаменитой российской бюрократии не редкость.
Почти в те же, усковские времена, только по другую сторону Урала, на Европейском Северо-Востоке, был разыгран драматический сюжет из начальной практики российской энергетики. Архангелогородский рудоискатель Федор Прядунов пытался ввести в экономический обиход своей страны новое слово и новый продукт «нефть» – и был смят бюрократической машиной.
Это был человек неиссякаемой предприимчивости и редкостного упрямства. Пробовал он заняться морским извозом, но его «новоманерный гукар «Святый Симон» затонул во время бури, щепки парусника разнесли штормовые волны, а холодный океан принял в себя триста ведер водки, тысячу ведер вина, десять четвертей яичного солоду и три тысячи пудов соли. Забрался Прядунов на остров Медвежий, отрыл там «шахт «Дай Бог Счастья», нашел серебро. Только никому оно не было надобно: далеко. Год продирался на таежную речку Ухту, ибо прослышал, что выходит там на поверхность «керосин-вода», наладил отстойники, организовал сбор нефти, собрал за сезон то ли сорок, то ли семьдесят пудов, отправился с обозом в Москву. В декабре 1748 года Государственная берг-коллегия докладывала Правительствующему Сенату:
«По неже не токмо в России, но и в прочих северных странах, добывание нефти где б было неслышно. Как только что в Персии оная есть и великий прибыток от нее тамошняя нация получает, употребляя у себя и отпуская повсюду. Помянутая же нефть в показанном месте Российской Империи и так отдаленном в северном месте не без пользы не может быть. А сыскана тщанием и собственным капиталом означенного рудоискателя Прядунова недавно в Архангелогородской губернии, в Пустозерском уезде при малой реке, именуемой Ухтой. И он той нефти достав в Москву привез Берг-Коллегии в лабораторию для пробы и передвойки и передвоена им, Прядуновым, в оной лаборатории...»
Дальше переписки дело, однако, не пошло. К концу жизни Прядунов был не в состоянии заплатить даже десятинный налог с добытой нефти, составлявший 35 рублей 23 копейки. И все же именно с него, Федора Савельевича Прядунова, посадского человека из Архангельска, купца-раскольника, неутомимого искателя и патриота, начинается история русской нефти.
И пусть это вновь всего лишь совпадение во времени – слова «нефть» и «Север» рядом стоят не случайно. Не случайными эпизодами в российской истории были и ухтинское открытие Прядунова, и ямальская экспедиция Ускова, а заштатному городку Березову, известному ранее лишь по меншиковской ссылке, суждено разделить свое название с одним из самых крупных геологических открытий нашего века.
Ждал своей поры и Ямал.
В 1930 году в Свердловске вышла тоненькая брошюра В. Евладова «В тундрах Ямала» (тогда название полуострова писалось именно так, через дефис). Книжечку эту, напечатанную ничтожным тиражом и ныне затерянную в пирамидах иных изданий, подарил мне известный полярный летчик Михаил Николаевич Каминский. Долгие годы посвятил он Северу и людям Севера, а со мной щедро делился живыми знаниями, да еще помог сориентироваться в книжном потоке. На этой, евладовской, брошюре он просто подчеркнул несколько абзацев.
Вот один из них:
«Теперь явилась возможность обратить внимание на разработку естественных богатств Ямальского полуострова. В первую очередь внимание приковывается к морским зверобойным промыслам в Карском море. Ряд других мероприятий по развитию пушного звероводства, по изменению ведения оленеводства будут способствовать хозяйственному развитию тундры, социалистической перестройке ее хозяйства».
Казачьи отряды Ермака, Ускова стремились на восток и на север в поисках незнаемых, вольных земель, Морские лейтенанты Скуратов, Малыгин, Овцын укладывали неизвестность в строгую географическую сетку меридианов и параллелей. Неутомимый искатель Прядунов и кабинетный затворник Кирилов мечтали о приумножении богатств Российского государства. В новой, послеоктябрьской, эпохе едва ли не самым главным, определяющим стало слово «преображение». Оно выразило смысл государственной политики, а осуществляли политику не только декреты и постановления, но прежде всего люди – неукротимые, как во времена Малыгина и Прядунова, и бескорыстные, как само время породившее и породнившее их. Летчик Каминский каждым днем своей работы на Севере споспешествовал переустройству жизни людей тундры. Партийный работник Евладов размышлял о преобразовании ее хозяйственной деятельности. Геолог Губкин определил новое направление экономического развития этого края.
В 1932 году, через два года после выхода евладовской брошюры, академик Губкин, выступая в Свердловске на Урало-Кузбасской сессии Академии наук СССР, ввел в перечень богатств Севера мелькнувшее и исчезнувшее во времена Прядунова наименование: «Надо поставить вопрос о поисках нефти на восточном склоне Урала...»
– Забой тыща девятьсот восемьдесят! – кричит мастер. – Восемьдесят, да, восемьдесят! Да понимаю я, что проект! Понимаю...
Неподалеку от приемного моста, раскачивая связку труб на невидимом отсюда тросе, снижается бело-голубой вертолет, вызывающе нарядный для такого рода занятий, отдает замок, и связка, глухо охнув, замирает, принятая раздавшейся тундрой. Курсовым ориентиром для захода на разгрузку пилот выбрал почему-то балок мастера, отличающийся от других только антенной, – а может, все дело в муксунах на антенне? При каждом подлете балок начинает мелко дрожать, словно стараясь отползти в сторону. Рейс, другой, десятый – буровая ненасытна. Что такое скважина, завершенная бурением? Колонна металла от устья до забоя, укрепленная цементом, – инженерное сооружение. Ревнивые ведомственные лингвисты редко говорят – скважину пробурили. Нет – скважину построили.
«... Конструкция скважины: кондуктор на глубину 500 метров... первая техническая колонна... вторая техническая колонна... эксплуатационная колонна...»
Почему конструкция такая сложная? – спрашиваю я. – Две технички...
– А глубина какая? А пластов сколько вскрываем? Пласты изолировать надо. Гляди, какой здесь разрез – АВПД, аномально-высоких пластовых давлений. Тут всякое может быть. Да к тому же, – недовольно качает головой мастер, – про давление только и известно, что оно – аномальное, а какое, сколько атмосфер – кто знает...
– Ну и что – АВПД? Ну и что – АВПД? – бубнит Калязин. – Они же прогнозируются. Взяли градиент разрыва...
– Бери, Калязин. Только не надорвись.
Калязин смотрит на мастера укоризненно, приоткрывает рот, готовясь высказаться, но в горле у него что-то булькает, и он сконфуженно умолкает. Битый час он томится ожиданием подходящего момента, чтобы перевести разговор в необходимое ему русло, однако всякая попытка начать издалека, словно бы непринужденно, не вызывает поддержки у мастера, а сказать или спросить напрямик Калязин не решается. Выспавшийся после вахты, старательно и неумело выбритый, одетый в серенький пиджачок поверх синего спортивного свитера, он хотел бы выглядеть безмятежно и сдержанно, однако напряжение во взгляде, с каким ловит он каждое движение мастера, суетливое мельтешение рук, независимо от его волн перекладывающих старые газеты на столе, выдают его беспокойство и нестерпимое, мучительное желание о чем-то спросить.
– Гаврилыч, – вновь начинает Калязин.
Мастер задумчиво разглядывает старые суточные рапорта.
– Чего тебе? – не сразу откликается он.
– А если... если кто из бурильщиков в отпуск уйдет, то тогда как?
Вертолет проходит над самой крышей балка. Хлопают двери, дребезжат стекла. Отдав замок и сбросив трубы, машина не взмывает вверх, а, сипло посвистывая, прижимается к земле, выбирает островок посуше, осторожно мостится, словно наседка, устраивающаяся на яйцах. Свист стихает, но винты продолжают вращаться; на траву падают два чемодана, рядом с ними появляется человек в длинном кожаном пальто и маленькой шляпе, которые принято называть тирольскими.
– Явился, красавец! – вдруг повеселев, говорит мастер. – Ну, смелей, смелей, приди в мои объятия...
– Как же ты решил, Гаврилыч? – торопливо спрашивает Калязин. Видно было, как долго готовился он задать этот вопрос, да вот незадача – пришлось проговорить его скомканно, впопыхах. – Решил как?
– Калязин, Калязин... Никак я не решил. Не могу я тебя бурильщиком ставить. Не могу. Не имею права.
– Ты же меня по Тазовской экспедиции знаешь!
– По Тазовской – знаю. По Карской – не знаю. А вообще...
Слышится тяжелый топот, сопение, гнусавые чертыхания, и в балок вваливаются два чемодана и тирольская шляпа, за ними – рыхлый мужик с брезгливо поджатыми губами и обиженным выражением лица.
– А вообще – Панов будет это решать, на его усмотрение оставляю. Здорово, помощничек! Не утомился, отдыхаючи? А, Михалыч?
Михалыч смущенно разводит руками: дескать, нет слов.
Голос его я услышу позднее. Зато в таких дозах – нет, не хочу вспоминать: до сих пор мне чудится, будто звучит в ушах сварливое дребезжание, а перед глазами стоит лицо, к которому пристыла маска незаслуженной обиды...
На вахту идем, вытянувшись рваной цепочкой на низких мостках, которые разрезают унылый студень обнаженной тундры. Впереди шагает Петро, размеренно и невозмутимо. Ибрагим, сам того не замечая, старается, чтобы походка была такой же независимой и привычной, но не поспевает, частит, припрыгивает. Калязин смотрит под ноги, наклоняется, подбирая ржавые гайки и обрезки проволоки. Толян легко несет на плече деревянный ящик с инструментами – и мостки прогибаются под ним, кряхтят, выплевывая мутные фонтанчики. Мишаня помогает Толяну советами. Я илу следом за ними. Уже миновали первые дни, когда тяжелые сны и смутная тревога при пробуждении означали невнятную связь с оставленными заботами и делами, когда отголоски незавершенных споров внезапно рождались в далеком гуле самолетов, соединяющих прошедшее время и предстоящее пространство. Нет, сейчас я сосредоточенно думаю только о том, что надо успеть втянуть голову в плечи перед входом в насосный сарай: каска мне велика, сползает до бровей, над дверями труба водоподачи, и вчера я ударялся о нее четырежды, по дороге на вахту, на ужин, с ужина, с вахты. Я все время помню об этой трубе, но, конечно же, налетаю на нее снова: оглянувшись, я еще успеваю заметить, как Гриша прячет улыбку. Он идет последним, долго стоит у приемного мерника, огромной стальной ванны, в которой бродит желтоватый кисель раствора, проходит вдоль желобов, поглядывая на решетки вибросит (они отделяют раствор, вернувшийся с забоя, от шлама, обломков выбуренной породы). Раствор ворочается, дышит тяжело, над ним поднимаются струйки теплого воздуха – но это нездешнее тепло и нездешнее дыхание.
«Раствор – кровь бурения!» Эту фразу я впервые услышал на Самотлоре, и сначала она показалась мне высокопарной. Но только сначала.
Вообразите, что буровая вышка – это не просто сто тонн холодного металла, а нечто живое – вы же умеете одушевлять свой корабль, свой токарный станок, свой самолет, свой трактор и свою машину, – и тогда вы поймете, что жизнь, которую вы вдохнули в стальную громаду вашим воображением, зависит уже не от вас, а от теплого и стремительного тока раствора.
Из приемного мерника, где заканчивается его бег, чтобы начаться снова, насосы гонят раствор по артериям манифольда в буровой рукав, в бурильную колонну, к забою.
Надо помочь шарошкам долота разрушить породу.
Вынести выбуренные частицы на дневную поверхность по затрубному пространству. Укрепить стенки скважины. Суметь постоять за себя и за буровую, сопротивляясь давлению пластов. Защитить инструмент от коррозии.







