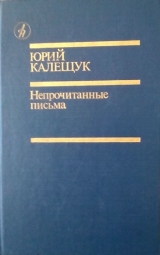
Текст книги "Непрочитанные письма"
Автор книги: Юрий Калещук
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 41 страниц)
Но и это лишь часть забот, взятых на себя раствором.
Послушав насосы, Гриша поднимается к ротору. Спрашивает у бурильщика утренней смены:
– Что, Гена, прихватывает?
– У меня не очень-то, – лениво отвечает тот, освобождая Грише место у пульта. Облегченно разминает пальцы и добавляет, грозя кулаком ротору: – Я эти штучки все-е-е знаю!
– Порвали мы пласт, Гена, – говорит Гриша. – Уходит, уходит раствор...
Вечно ты умничаешь, – вяло отмахивается сменщик. – Ты еще скажи: «У нас в Грозном...»
– Возьми тормоз, Калязин, – говорит Гриша. – Давай потихоньку. Я к мастеру.
Калязин включает ротор.
Я не вижу его лица. Вижу только окаменевшие плечи, руку, застывшую на тормозе, вытянутую шею – глазами он приклеился к циферблатам индикатора, показывающим нагрузку на долото. Когда она увеличивается и стрелка уходит вправо, это значит: шарошки раскромсали породу, инструмент повис над забоем, напрягая талевой канат всей полусотней тонн своего веса, и надо слегка отпустить тормоз, подать долото вперед... Месяца два спустя Гриша предложил мне: «Попробуешь?» Я знал, что талевой канат, переброшенный над кронблоком, надежно удерживает тяжесть бурильной колонны, знал, что Гриша стоит рядом – только протянуть руку, но едва коснулся отполированной верхонками рукоятки тормоза, почувствовал, как навалился на плечи свинцовый сейф с заостренными углами, а пальцы судорожно сжались, ощущая лишь холод стальной рукоятки, а не живую дрожь инструмента. «Да ты дыши, дыши, – говорил Гриша. – Под водой ты, что ли?» За десять минут рука онемела, словно я висел, вцепившись в карниз небоскреба...
Мелькают маслянистые стенки квадрата. Раскачивается буровой рукав, цепляясь металлической оплеткой за исцарапанный стояк манифольда.
Стрелка пошла вправо.
Калязин отпускает тормоз. Скрипит, поворачиваясь, барабан лебедки...
А стрелка резво метнулась назад! Слишком резво.
И снова – вправо. И снова – назад.
Вздрагивает квадрат, дребезжит вал, не унимается стрелка.
Появляется Гриша.
– Ну, что ты стоишь, – говорит он спокойно. – Прихват. – И мягко отстраняет Калязина. – Скажи Толяну: даю по газам.
Помедлив мгновение, он решительно увеличивает нагрузку.
Угрожающе басят дизели, набирая мощность. Стрелка пересекает пять делений...
Квадрат неподвижен.
...десять...
Квадрат неподвижен.
...пятнадцать...
Квадрат неподвижен.
В дверях дизельного сарая застыли Толян с Мишаней.
...двадцать!..
– Порвешь таля! – кричит Калязин.
Квадратная штанга нехотя ползет вверх, и дизели успокаиваются: обвалившиеся стенки скважины все-таки отпустили инструмент. Ибрагим достает портсигар. Петро стоит на козырьке, разглядывая море. Калязин, зажав коленями резиновый шланг, пытается вставить в него металлический наконечник. Гриша шарит ногой по полу, нащупывает тяжелую челюсть машинного ключа, вешает ее на тормоз. За лебедкой мелькает капюшон мастера. Мастер подходит к ротору, трогает ребра квадрата, словно пересчитывает их. Коротко бросает:
– Промывка!
И еще:
– Графит!
И еще:
– Сто мешков!
И еще, показывая на меня и на Калязина:
– Ты! И ты!
Графитный порошок в бумажных мешках по полцентнера каждый. Задача незатейлива, как детская считалка: достать мешок из контейнера, подняться с ним на трехметровую высоту по самодельному трапу – наклонной доске с набитыми поперек планками, разрезать мешок, если по дороге он не успел порваться, высыпать графит в глиномешалку. Смешавшись с раствором, графит должен улучшить смазку долота и уменьшить трение бурильной колонны о стенки скважины. «Эники-беники, ели вареники, эники-беники – клёц! Вышел кудрявый матроц». Почему – матроц? «Эники-беники...» Для начала графит уменьшает трение подошв о ступени трапа: бумага рвется, порошок рассыпается, ноги скользят, скользят пальцы, сжимающие мешки, брезентовая роба серебрится и хрустит, как фольга. Через час короткая дорога от контейнера до глиномешалки выглядит так, словно все чертежники мира затачивали здесь свои карандаши.
Контейнер пустеет, пошла рвань – четверти мешка в руках не удержишь. Калязин приносит пожарные ведра.
– Бери ведро, Юра, – говорит он. – Ведро, Юра, бери.
Скребем по углам, по стенкам, по днищу железного куба.
– Графит ничего не даст, – бормочет Калязин.
– Почему?
– Прав был Григорий – порвали мы пласт. Не даст ничего графит...
– Ты учителем не был? – спрашиваю я.
Он вытягивает шею, смотрит на меня, как петух на пуговицу.
– Был. Мастером производственного обучения. В нашем ПТУ, где помбуров готовят.
– Понятно. «Бери ведро – ведро бери».
– Что – понятно? Что – понятно? Я в Тазу работал, квартира была, все как у людей. А жена мне: «Тебе учиться надо. Надо учиться». Как пластинка: уедем да уедем. Переехали... В Тюмень. Поступил в геологический – наш же профиль: какая геология без бурения? Выучился. Диплом получил – профессию потерял. Докембрий, палеозой, мезозой... Ну, какой в Тюмени мезозой? Какая в Тюмени юра? Так, сто пятьдесят миллионов лет назад. Геологическая эпоха Глава в учебнике. А ведь юрский период – это же красота. Красота, понимаешь?!
– В юру появились на земле первые птицы...
– Птицы! – выдыхает Калязин, глядя на меня почти с сочувствием. – Птицы... Мезозой – это нефть! Юра – это проектный горизонт! Проектный горизонт нашей «десятки»... – Он возится с крышкой нового контейнера, пытаясь открыть ее, и уже обычным, нудным своим голосом продолжает: – Принеси секач и кувалду. Кувалду и секач принеси...
Спускается к нам Петро, прикидывает глазами расстояние до трапа, потом до другого контейнера, стоящего под стенкой, и, не сказав ни слова, уходит. Когда я возвращаюсь с кувалдой и секачом, он, подкатив одну за другой две пустые бочки из-под машинного масла, ставит их на попа между контейнерами, одним ударом кувалды вышибает шпильку замка, откидывает крышку – та с грохотом падает на бочки, образуя нечто вроде недостроенного моста. Петро проходит по нему на контейнер, прижатый к стенке – теперь его голова чуть ниже настила глиномешалки, – поворачивается к нам:
– Ты будешь подавать мне мешки. Ты – принимать наверху.
В три пары рук мы опустошаем трехтонный контейнер за полчаса.
Бесшумно скользит по желобам потемневшая влага. Недвижен квадрат, и безмолвна лебедка. Только насосы стучат, не замирая, и раскачивается буровой рукав под толчками раствора.
– И все-таки пласт принимает, Петро, – говорит Гриша.
Бурение – всегда тайна или таинство. Каждый сантиметр в глубь земли – это движение не через пространство, а сквозь спрессованное время. Турбобур едва шелохнулся, наткнувшись на неожиданное препятствие, но это не камень попал под шарошки, а пищаль казачьего сотника Ивана Ускова, это не базальт, а окаменевший пепел погасших костров, это не алевролиты сжали буровой инструмент, а непроходимые чащи миоценовых лесов и затаенное дыхание умолкнувшего времени...
Что же там, на дне двухкилометрового колодца? Мы вглядываемся в эти глубины, словно в самих себя, следим за судорожными движениями самописцев каротажного агрегата, как следят за изменчивым почерком электрокардиографа.
– Пласт принимает, – вслед за Гришей повторяет Петро.
– Как же это могло произойти? – спрашиваю я. – В чем тут причина?
– А-а... – качает головой Гриша. – Тыща причин. Или содрали корку при вращении ротором – низ легкий, колонна вихляется, или при спуске намотали сальник и гнали раствор инструментом, как поршнем. А может, вышли на пласт с меньшим давлением, в аномальных горизонтах такие пироги бывают: пласт с высоким давлением, пропласток с низким... Надо было взять градиент разрыва, – вставляет Калязин.
– Да-да, – говорит Гриша. – И коэффициент аномальности. Красиво излагаешь. Только где их взять, а?
– А мог быть и сальник, – не уступает Калязин. – Скорей всего. Ты, Григорий, всегда майнаешь, словно за тобой с исполнительным листом гонятся.
– Не знаю, не пробовал. А инструмент майнать можно и быстрее. Если грамотно. Если не лалакать: «А-а, я эти штучки все-е-е знаю!»
– А когда прихват был, чего ты рвал? Расхаживать надо было, расхаживать: вира – майна, вира – майна... Постепенно.
– Видел я, как ты расхаживал, – добродушно улыбается Гриша. – В основном мысленно. А тут сразу брать надо было, тепленьким. Понял, да?
– Таля мог порвать, Григорий. Порвать мог таля.
– Да у меня в запасе еще пятьдесят тонн было. Не меньше.
Спор продолжается вяло, ибо слова очерчивают лишь контуры происходящего, а на самом донышке их значений накапливается тревога. Энергия дизелей и мощные толчки насосов, стальной напор бурового инструмента и самолюбивое упрямство вахты – все это зря, все это впустую, все это не дает движения, не дает результата: долото застряло на отметке 1980 – в семидесяти метрах от проектной глубины спуска первой технической колонны.
Мы толкуем, гадаем, следим за слаженным полетом гусей, идущих на вечернюю кормежку, и тут происходит странное и неожиданное событие, смысл которого откроется нам позднее. Проскочив едва ли не над кронблоком и сделав нелепый вираж, рядом с буровой садится вертолет. Метрах в пятидесяти от приемного моста. Всей вахтой толпимся на козырьке, ждем, что же будет дальше: время для вертолета довольно непривычное.
– Свежую картошку привезли, – мечтательно говорит Калязин. – А что? Разгрузили пароход и привезли. Красота!
– Пиво, – высказывает столь ж невероятное предположение Мишаня. – Чешское.
– Эх, чадо, – сокрушенно говорит Толян. – Никакой у тебя фантазии. Пиво «жигулевское». Бочковое. И Варфоломеич с рыбалки прилетел. Начальник экспедиции, – мрачно говорит Петро. – С гортехнадзором.
– Долота привезли, – говорит Гриша. – Румынские, скоростные.
– Письма, – шепчет Ибрагим.
Из вертолета выходят двое – один обвешан фотокамерами, в руках у другого амбарная книга. Бодро направляются к нам. Один проваливается по пояс через пять шагов, другой, с амбарной книгой, замирает, подняв ногу и не решаясь ее поставить. Тот, что увяз по пояс, деловито прицеливается в нас объективом; второй, продолжая стоять на одной ноге, что-то быстро записывает. Потом он помогает выбраться первому, и оба возвращаются к вертолету.
И улетают.
– Коллеги, что ли? – спрашивает у меня Гриша.
– Не знаю, – растерянно отвечаю я.
Ну, откуда мне знать? Возможно, и впрямь срочно потребовалась героическая фотография на первую полосу с лаконичной и мужественной подтекстовкой: «Самая северная буровая. Отважные нефтеразведчики-первопроходцы...»
Год спустя мы узнаем, что дело было не в фотографии на первую полосу.
– А вчера там можно было пройти, – задумчиво говорит Петро. – Я ходил, знаю. – Он приглядывается к каротажному агрегату, станции для геофизических испытаний скважины, смонтированной на ГАЗ-66. Красно-желтый кузов его виден за стеллажами труб, напротив приемного моста. – Раскочегарилась тундра. Вон каротажка похилилась...
– А что? – говорит Калязин. – Лето.
– Ну, Калязин, – улыбается Гриша. – Ты просто у нас календарь природы.
– Чадо, – говорит Толян.
– Как бы не пришлось нам техничку спускать сейчас, – озабоченно произносит Гриша. – Да-а... Не дотянули мы до проекта.
– Ерунда, – решительно говорит Калязин. – Второй техничкой пласты перекроем, до двух с половиной тысяч. Никуда они не денутся.
– Калязин, – медленно произносит Гриша. – Иногда мне кажется, что у тебя в голове тектонический сдвиг. Мы же конструкцию скважины тогда потеряем – ты что, не понимаешь, что ли?
Калязин застываете раскрытым ртом и вытянутой шеей, плечи его приподняты, а локти отведены в стороны. Толян долго присматривается к нему, потом разочарованно вздыхает:
– А я думал – ты закукарекаешь...
– Жалко, если потеряем конструкцию, – говорит Петро. – Жалко... Три двести – это три двести. Здесь может быть нефть...
– Должна быть...
Что такое нефть?
Комбинация углеводородов, содержащая кислородные, сернистые и азотные соединения. Энергия ядерных реакций Солнца, расчетливо припрятанная Землею. Тепло зверей и растений, живших миллионы лет назад. Миллионы, сотни миллионов лет сберегала Земля это живое тепло.
Самолет, оторвавшись от заправщика, выруливает на старт и набычивается, дрожа от нетерпения и восторга, от предвкушения полета и сознания своей мощи, – нет, это птеродактиль расправляет неуклюжие крылья.
Вездеход, урча, в сизом облаке выхлопов, выбирается из трясины – нет, это стегоцефал, исчезнувший в триасе, вновь надувает свои шершавые бока.
Заряд толуола, утрамбованный в шурфе, разносит в прах скалу, мешавшую проложить дорогу, – это эхо разлома, разделившего Европу и Африку в раннечетвертичную эпоху. Дождь стучит по крыше уютного домика над рекой – это не рубероид, а магнолии палеоцена защищают вас от стихии своими листьями, и ваши усталые, растрескавшиеся от работы руки пахнут не вазелином, а лепестками цветов, облетевших в юрский период...
На рубеже двадцатого столетия весь мир добывал двадцать миллионов тонн нефти в год – сегодня это чуть больше месячной нормы одного Самотлора. Есть мрачное предположение, что запасов нефти на земле хватит лишь до середины XXI века.
Каких-нибудь сто лет... В долгой дороге человечества – эпизод, современной истории – эпоха, в геологии – мгновенная вспышка. Чиркните спичкой, прикуривая сигарету или зажигая газ под кастрюлей, – вы даже не запомните этого мига. Еще через сто лет забудут слово «нефть». Останется лишь формула – комбинация углеводородов, содержащая кислородные, сернистые и азотные соединения.
Но в эту формулу ворвутся, расталкивая привычные ядерные связи, несбывшиеся мечты и неудовлетворенное тщеславие, мгновения удач и полосы разочарований, тревоги и надежды, солнечные ночи и жаркие черные дни на берегу холодного моря.
Здесь должна быть нефть...
Пустынная плоская земля. Шинельный цвет травы. Свинцовый отблеск озер. Солнце утонуло в море, и там, где оно исчезло, светится розовое пятно. По деревянным мосткам, разрезавшим тундру, движется цепочкой ночная смена.
– И все-таки не нравится мне, что каротажка похилилась, – говорит Петро. – Тут что-то не так.
Ритуальный чай возвращает нас в мир безмятежной тишины и сентиментального равновесия. Толян и Ибрагим толкуют о Ташкенте. Валера пробует научить Калязина играть в «тысячу», но из этой затеи ничего не выходит.
– Чего ты напридумывал? – возмущается Калязин. – Ну, чего? Десятка старше короля? Да быть этого не может! Это же все одно как «помазок» старше бурильщика! – ему и тут не дают покоя должностные несоответствия.
Гриша чертит какую-то схему на обертке печенья «Привет». Петро и Мишаня перелистывают растрепанный журнал без конца и начала, обмениваясь многозначительными вздохами (Мишаня) и скептическими репликами (Петро) по поводу фотопортретов наших замечательных современниц.
– Гляди-ка! – неожиданно восклицает Петро, удивленно разглядывая цветную полосную фотографию. – Аркалык. Вот уж не думал, что из этой дыры получится что-нибудь путное...
– Ты там бывал? – недоверчиво спрашивает Мишаня. Он привык к тому, что роль бродяги и непоседы твердо закреплена за ним, что соперничать с ним в рассказах о дальних и ближних дорогах некому. Мишане нет тридцати, это тот возраст, когда пройденные километры легко считать главной мерой прожитых дней. Со мной так тоже бывало. Но время по-своему отцедило воспоминания, и в памяти осталась не веселая яркость первых впечатлений, а тревожное, тревожащее ощущение того, что многое прошло незамеченными неузнанным и теперь это уже непоправимо. С Петром мы ровесники, однако он кажется мне старше, словно жизнь прожита им плотнее, последовательнее, глубже. Он не отличается разговорчивостью, но это от сдержанности, а не оттого, что ему нечего сказать.
– Бывал... – отвечает он Мишане.
Но тот не унимается:
– Строил ты, что ли, этот город, а?
– Я сюда лес возил в шестидесятом... нет, в шестьдесят втором. Здесь, кроме тюльпанов в мае, сурков в августе, снега зимой и пыли летом, ничего не было. А сейчас, гляди – город. Областной центр. Аркалык. Да-а...
– Ну, я угорел, – бормочет Мишаня.
– Дай-ка взгляну, – прошу я журнал.
Зимой шестьдесят второго я жил в приземистом дощатом бараке, с трех сторон заметенном сугробами, а с четвертой было крыльцо, к которому жались тяжелые грузовики, как лошади к коновязи. Барак носил длинное и звучное имя: «Дом приезжих треста «Тургайалюминьстрой», в его больших и темных комнатах, где стояло по два десятка узких и скрипучих коек, жили шоферы, взрывники, бульдозеристы, маляры, инженеры, снабженцы, плотники. Одна дорога, присыпанная красноватой пылью, вела к бокситовым рудникам, другая, изрезанная гусеницами вездеходов, – в геологический отряд. Третья была или казалась давно заброшенной: в ста метрах от барака утыкалась она в серый щелястый ящик недостроенного панельного дома, единственного на всю округу и потому невыносимо нелепого.
Меня привел сюда приказ по редакции краевой молодежной газеты: «Командировать для сбора материала о будущем городе и его людях, добывающих «крылатый металл». И еще – любопытство: о Тургае я услышал впервые в университетскую пору от своего друга.
Редакционное задание предполагало светлый и ясный романтический очерк, а я каждый день и каждый вечер .выслушивал длиннейшие и запутанные бытовые истории; неясные и трагические рассказы о поисках воды для будущего города и завода в безводной степи; производственные драмы, суть которых от меня ускользала, как я считал тогда, из-за непонимания терминов, которыми она обозначалась, и, как сейчас думаю, из-за непонимания самой сути. Я терпеливо переписывал эти истории, рассказы и драмы в свой блокнот, а на полях добросовестно рифмовал «пурга» и «Тургай», «Аркалык» и «орлы», «Бестюбе» и «без тебя».
«Крылатый металл», высыпаясь из кузовов самосвалов и перемешиваясь со снегом, превращался в липкую тягучую грязь. Я мучительно вглядывался в пустое пространство степи, пытаясь отыскать знакомые по рассказам приметы, но кругом лежал одинаковый снег, и не было ни следов, ни примет, ни воспоминаний. Мой друг приехал сюда школьником, стал здесь шофером, а вернулся домой поэтом. «Степь, одурев от гремячего солнцеворота, гонит меня с раскаленных своих сковородок, будто играет со мной в гигантский крокет. Гонит к реке. Мы потерялись, потеем в горячих морщинах – я и машина! Ноздри раздув, самоваром кипит радиатор. Чертов театр! Где Вы, вода! Где Вы льетесь, сочитесь, впадаете? Плошку прохлады живительной Вашей подайте с туч, из ключа, с ледяного потока вершины – мне и машине!..» Это были его воспоминания, и они не могли стать моими – я об этом слышал, а с ним это было, было не игрой, не поиском слов или подбором рифм, а работой, которая мучительно и запутанно соединяет и с незнакомой землей, в с чужими людьми.
Барак пустел рано, еще затемно, еще до восхода зимнего солнца, но вечерами здесь засыпали долго и трудно. Мой сосед, сумрачный паренек, недавно получивший новую «татру», поднимался к ней среди ночи, курил, потрескивая едкими щепками «Прибоя». Однажды поутру он вернулся с разнарядки и сказал неожиданно весело: «На станцию грузы пришли. Стройматериалы. Будем бить зимник к железной дороге», – и все тогда посмотрели на сиротливую тень недостроенного дома... Первого дома несуществующего города, у которого было только название – Аркалык...
На журнальной фотографии разноэтажные дома выстроились причудливо и многоцветно, словно смешанный осенний лес.
– Первый рейс, помню, зимой был, – вспоминает Петро. – Шли, как в корыте: колея глубокая...
– Весь Казахстан я на этих «зилках» объехал. Да-а... А попал на Конду – знаешь, где первую нефть в Тюмени нашли? – и угодил в бурение. Потом еще смеялся – никуда от судьбы не уйдешь. Братан – шахтер, да и я до армии уголек рубил. Так вот, братан меня всю дорогу пилил: «Мы потомственные горняки, а ты...» А меня, и верно, все в пампасы тянуло. Теперь выходит – тоже горняк, – заключает Петро.
– Я первый раз когда на буровую попал, у нас там, в Газлях, – торопливо включается в разговор Ибрагим, – они мне тут же: «Пойдешь верховым». Ладно, думаю, хоп – это по мне. Спрашиваю: «А где конюшня у вас?» Они давай смеяться...
– Басмач ты, Ибрагим, – улыбается Мишаня.
– Зачем басмач, Миша? Верховой – это же что? Это же всадник, да?
– Мать почему-то страшно не хотела, чтобы я, как отец, в бурение шел, – вспоминает Гриша. – У нее свой план был: чтобы я на заводе инженером работал. А я обед отцу принесу – сам сижу, смотрю... Но после техникума – а я механический заканчивал – направили меня на завод. Ну, пока новые линии налаживали – это еще куда ни шло. А потом... Разве с буровой сравнишь? У отца знаешь какая бригада была? С сорок седьмого года ни один человек не уволился. Ни один! Кого хочешь спроси...
– В Грозном?
– У нас в Грозном.
– Кого же спрашивать, – усмехается Петро, – если у вас в Грозном и если все, как один...
– Ну, я угорел, – говорит Мишаня. – С сорок седьмого? Тридцать лет ту же ручку вертеть?
– А хоть сто. В бурении каждый час по-другому.
– Но тридцать лет... Нет, пусть сначала меня закопают. В натуре.
– Может, все-таки с шестьдесят седьмого? – переспрашивает Петро. – А, Гриша?
– С сорок седьмого, – отрезает Гриша. – Понял, да?
Петро уже не впервые вот так, слегка подтрунивая, осаживает Гришу. Гриша не обижается. Или делает вид, что не обижается, – пока мне трудно понять и это, и многое другое. Та внезапная стычка Гриши и Калязина в ночь после первой вахты как будто давно забыта. Гриша незлопамятен, а Калязин вообще держится в балке особняком, полагая, что его назначение на место второго верхового – не более чем досадное недоразумение и потому в вахте он человек временный.
Хотя бесплодным своим объяснением с Гаврилычем Калязин удручен, но все же не настолько, чтобы отказаться считать себя бурильщиком. Просто пока он не у дел, но о нем еще вспомнят.
Отношения в вахте не так просты, как могло бы показаться на первый взгляд, и есть в них все: дружба и противостояние, соперничество и равнодушие, зависть и стремление помочь – все это выражено или скрыто словами, отсутствием слов, дрожью бурового инструмента и скрипом лебедки, часами вахты и часами отдыха, воспоминаниями и мечтами.
Послевахтенный треп, добродушные насмешки и довольно злые подначки – естественное дополнение к неизменному чаю, и здесь нет равных Миша не, он овладевает трибуной прочно и надолго. Но и на Гришу частенько накатывает. В такие минуты Петро словно бы напрягается, внимательно следит за ходом беседы и небрежным подтруниванием старается увести разговор в сторону. Иногда мне начинает казаться, что Петро просто беспокоится за Гришу и не реплику, подходящую к случаю, подает, а протягивает участливую руку старшего брата. Гришу нередко заносит, причиной тому – нескрываемое желание выглядеть взрослее, чем есть он на самом деле. А если вспомнить еще кличку Сынок и обстоятельства, при которых она получена, – как удержаться от того, чтобы не услышать в его монологах неудержимое стремление выдать желаемое за действительное? И все-таки надо удержаться. За десять секунд я пробегу шестьдесят пять метров, а Валерий Борзов – сто. За неделю я прочитаю «Сагу о Форсайтах», а вы, быть может, выучите английский язык. Грише двадцать семь, ему мало быть только сейчас хорошим бурильщиком, быть только здесь хорошим бурильщиком – он был везде, всегда? А как же армия? техникум? завод? Не сходится арифметика? Подождем. Толян молчалив и насмешлив, Петро основателен и насмешлив, Валера всегда кажется полусонным или насмешливым, Калязин самолюбив до занудства – это слабое пятно света, а остальное размыто, затеряно, спрятано за теневой чертой. Еще в первый день я запутался в хронологии и географии бесконечных Мишаниных приключений, но разве важно всего лишь свести концы с концами?
– Мы как-то в Самаре сидим с корефаном, – туманно и значительно начинает Мишаня (по примеру одного из героев О’Генри он все время норовит вставить «изюминку разговора в пресное тесто существования», и я начинаю подозревать, что он тайно поливает и холит небольшой виноградник). – Или нет, не в Самаре – в Харькове. Толкуем о смысле жизни. Подходит один, ну, всю душу мне расковырял. В Красноводске, – говорит, – есть карьер, КрАЗами его выгребают. Хорошо гребут. Я в Красноводск. КрАЗов полно, в натуре, карьер тоже есть, вполне из себя паршивенький...
– И тогда ты в Тюмень?
– He-а. Там сейнера стояли, в порту. Я на них глядел, глядел... Занятно, думаю: кастрюля кастрюлей, а движок – лошадей триста. Тут, гляжу, по пирсу «мазуты» идут. Хотя и при параде, ясно, что «мазуты». «Работа есть, джентльмены?» – «Работа, – говорят, – есть. Путина у нас». Пошел на путину.
– И что?
– Движок как движок. Ничего особенного.
– Пеногон ты, Мишка, – говорит Валера.
– Чадо, – смеется Толян.
Сильный порыв ветра сотрясает балок. Даже рубахи, висящие на гвоздях, приходят в движение, пошевеливают рукавами.
– Все, – говорит Гриша. – Теперь точно колонну пускать придется, слышишь, какой ветер? Я давно уже эту подлую натуру приметил: как колонну пускать – обязательно мордотык метров на тридцать в секунду.
– Всегда здесь ветер, – вздыхает Ибрагим. – Особенно зимой.
– Вы что – чай пить сюда приехала или работать? – раздается сварливый голос, и громоздкий шкаф, на который напялено длинное кожаное пальто, заполняет дверной проем. – Опять Подосинин лекцию читает, знакомит с передовыми приемами в бурении? Как там в Грозном, а?
– Что на буровой, Михалыч? – спрашивает Гриша.
– Спуск с проработкой.
– Мастер там?
– Какой мастер – Гаврилыч, что ли?
– Кто же еще?
– В отпуске Гаврилыч. В очередном трудовом отпуске. Я здесь теперь мастер – Панов Виталий Михайлович. Понятно?
– Не очень.
– Ничего, поймаешь... Осознаешь, как говаривал Гаврилыч. Теперь вот что: прошаблонируем скважину – пойдем колонну кидать. Понятно?
– Вполне. Сломали конструкцию...
– Любоваться ею, что ли? – зло говорит Панов. – И вообще, спали бы вы. Завтра с утра пойдете – перевахтовка.







