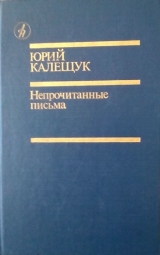
Текст книги "Непрочитанные письма"
Автор книги: Юрий Калещук
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 41 страниц)
Макарцев давно про это говорил, вспомнил я. Как раз в ту пору, когда документ по редакции гулял. Или немного позднее. Не важно. Почему же тогда я не задумался над этим? Не хватило ума? Далеко уводили нити? Не придал значения?.. Как бы то ни было, а сегодняшний вопрос мой не по адресу. С себя надо начинать. С себя. В истории со списком мне не нравилось что? Демонстративная непорочность автора: он, являясь одним из главных руководителей управления, ни к каким его просчетам не считал себя причастным. Так надо же было мне в этом разобраться! Без упоительного злорадства коллеги-обличителя, но без олимпийского спокойствия недоумка. А я? Я безмятежно писал: «Через шесть суток, в день открытия XVII съезда комсомола, бригада выполнила годовой план. Время уходило от них, но они обгоняли его. С грохотом стучали часы, бились волны прилива, и раскрывались ракушки там, где море отступало, реки взламывали лед, и лопались на деревьях почки, а они работали, дети просыпались среди ночи и засыпали снова под шум дождя, а они работали...» Как красиво писал!
– Субъективные это причины или объективные, – сказал Лёвин, – решай сам. Я на тебя давить не стану.
Недавно я прочитал статью современного врача о дуэли и смерти Пушкина. Характер раны поэта, утверждал современный врач, был таков, что его могли бы спасти в любой районной больнице. Сейчас. Но тогда медицина была бессильна: любые ранения такого рода приводили к летальному исходу. Все бывает возможно только тогда, когда бывает возможно? Даже для того чтобы увидеть море из школьного двора, увидеть, а не просто знать о его существовании, необходимо было подрасти на сорок сантиметров... Тоже красиво. Нет, тут что-то не так. Ведь было же, было это! Труд на пределе сил. Мужество буровиков. А волокита с внедрением газлифта? Тоже была. А бракованные материалы для буровых? Бывали. Безответственные распоряжения? Случались. За всем этим – тоже люди, только они навсегда останутся безымянными...
Не по моей ли вине?
«Когда зеркальность тишины сулит обманную беспечность, сквозит двойная бесконечность из отраженной глубины...»
– Открываю недавно «Смену», – улыбнулся Лёвин. – Вижу ба-а-альшущий фотоочерк Лехмуса. И сразу вспомнил, как мы все вместе после китаевской пятилетки бушевали, даже стол поломали, когда принялись с Васильичем силами мериться... Когда это было, во сне – наяву?
Было. И уже никуда не уйдет, не растает, останется навсегда с нами: светом, горечью, тревогой, раскаяньем, восторгом, обещанием...
«Служили два друга в нашем полку...» – внезапно разнеслись над рекой слова старой утесовской песни.
Наверное, это заспанный шкипер с плашкоута, уткнувшегося в дальний конец затона, решил побаловать себя музыкой.
Однако слова уже вырвались на простор, и я неожиданно подумал, что, пожалуй, это одна из самых первых песен, которую я слышал в своей жизни, и когда она снова звучит, я неизменно вспоминаю маленький городок, скорее даже поселок на берегу холодного моря и молодую женщину, которая, замешивая тесто, громко распевает в пустой квартире, а я прячусь где-то между диваном и большим цветком в кадке, чтобы не спугнуть песню.
В те дни и читать-то я еще не умел, все познания о мире получал из маминых песен. Песни были разные – полные тайн для меня, и, напротив, на редкость близкие, понятные, похожие на скупые вечерние рассказы отца о прожитом дне. Помню такую песню:
Шутя ее ранил охотник безвестный.
Шутя ее ранил, сам скрылся в горах...
Многое тут было знакомо – охота в наших краях была будничным делом. Не ясно только, зачем скрываться в горах? Слов «браконьер», «охотоохрана» тогда, кажется, и вовсе не существовало, охотились все, кто мог держать в руках ружье – моему старшему брату не было четырнадцати, а он считался заправским охотником, медведя как-то свалил, когда у напарника, бывалого зверобоя Кузьмы Ефремовича Сухачева, ружье дало осечку.
Дальше было еще непонятнее, но завораживающе красиво.
Она-а-а умерла, трепета в камышах...
Какие слова!
«Трепеща» – словно вымороженное белье, бьющееся под ветром.
«Камышшша-а-ах!» – тут всю прелесть и выразить невозможно: слово, рожденное усталым полетом ветра над сырым низким берегом реки, заключало печальную тайну; много позже я прочитал замечательные по звукописи, смутные и тревожащие стихи: «И, вздох повторяя погибшей души, тоскливо, бесшумно шуршат камыши...» – и вспомнил о чайке, которую ранил шутя охотник безвестный, а еще долго думал о маме, возвращаясь мыслью в уже почти не осознаваемые мною раздельно, прерывисто, дискретно, канувшие в далеких слитных воспоминаниях детства времена, в которых было обещание невероятной и нескончаемой жизни, люди умирали, я уже и тогда знал об этом, но то было стороннее, не захватывающее души знание, то был промельк, скользящая тень о.6лака, исчезновение, трепет в камышах; когда я впервые задумался о конечности любого существования и каждого существа, ощутил, что правило это равно приложимо ко всем без исключения, а значит, приложимо и к близким моим, и ко мне, я был ошеломлен обескураживающей беспощадностью наджизненного закона, его неразборчивой неотвратимостью. То была, наверное, моя первая бессонная ночь, я болел непонятно чем, на всякий случай местный лекарь щедро обмазал меня зеленкой от макушки до пяток и дал выпить какую-то пахучую липкую мерзость собственноручного приготовления; я лежал, тяжело барахтаясь в набухших, громоздких, как ватное одеяло, простынях, плыл в пенных волнах и проваливался в темную бездну меж гребнями, и отчетливо слышал, как всхлипывала мама; тогда я вспомнил еще одну ее песню, точнее говоря, последние строчки – мама пела их так, словно бросала вызов смыслу, содержащемуся в этих словах:
Могилы я-а-а не устрашу-у-уся-а а —
Кого люблю-у-у,
Я с тем помру-у-у... —
и вдруг стал яростно убеждать себя, что я очень, очень, очень люблю ненавистного мне плаксу и сексота Генку-Гендоса, что если мне придется сейчас умереть и тело мое, обмазанное зеленкой, сразу же сольется цветом с первой травой, то умру я непременно вместе с Генкой-Гендосом; я не хотел, чтобы со мною умирали те, кого я по-настоящему люблю...
Я не знаю ни начал, ни продолжений многих тогдашних песен; иные из них никогда больше не слышал, некоторые запомнил так, как их пела мама, а в маминой памяти они звучали, повторяя чьи-то чужие, неведомые мне голоса, иногда она бралась заучивать их со старых хрипящих пластинок, где порой нелегко бывает различить не только отдельные слова, но и суть целой фразы: накручивая патефон и придерживая диск рукою, чтобы искаженный плавающий голос выпевал текст по слогам, мама вслушивалась в это протяжное мычание и, выудив из него нечто связное, переписывала песни в тетрадку – как жалею я сейчас, что та тетрадка сгинула во время бесчисленных наших переездов, сколько неожиданных открытий могла бы она принести... Недавно, перелистывая сборник Федора Глинки, я наткнулся на популярный в свое время романс «Не слышно шуму городского». Машинально пробежав глазами первые строчки, я внезапно споткнулся и стал перечитывать текст медленнее:
Не слышно шуму городского.
В Заневской башне тишина,
И на штыке у часового
Горит полночная луна, —
и вновь зазвучал старый патефон, и ожили мамины муки – пластинка была до того заезженной, что от текста оставались одни лишь руины, однако мама непостижимым образом связала концы с концами, потому что я тут же вспомнил «бедного юношу – ровесника младым цветущим деревам» и понял, почему типографский оттиск романса показался мне несколько непривычным: третья строчка первой строфы в моей памяти оставалась слишком далекой от канонического текста: «У наших девушек в хоромах горит полночная луна...» Как видно, маме так и не удалось тогда разобрать слов, и все же появление беспечных «девушек в хоромах» показалось ей драматургически оправданным – такая коллизия лишь сильнее подчеркивала удручающую судьбу «юноши-ровесника», ибо он «одни в тюрьме заводит песню, передает ее волнам...».
Но была среди маминых песен одна особенная, слушать ее я мог бесконечно, всякий раз открывая в ней новые, до поры притаившиеся подробности:
Сы-лужили два ды-руга-аж
Вы на-а-а-ашем полку...
Непонятна была мне только ее неразрешимая печаль, надлом души, безысходный драматизм обыденной ситуации:
На Север поедет оди-и-ин из вас,
На Дальний Восток —
Ды-ругоййй...
Почему же они решили, что их разлучают?
Ведь мы жили тогда на Дальнем Востоке и на Севере одновременно, и географические эти понятия были для меня одним понятием. Я долгое время даже считал, что друзья живут рядом с нами, быть может, служат вместе с отцом, выходят в дозоры на утлых ПС (нет, «утлых» – это сейчас я придумал, а тогда крохотные катерки, то ли с малокалиберной пушчонкой, то ли с пулеметом на носу, казались грозными, непобедимыми кораблями).
Я даже пытался разыскивать этих людей. Возможно, один из них – тот добрый дядька с белесыми ресницами и бровями, который разрешал мне покрутить баранку полуторки, когда она стояла в гараже (а она почти всегда стояла в гараже). Другой, когда я приходил в часть к отцу, вел меня в солдатскую столовую, усаживал на колени и кормил из железкой миски необыкновенно вкусной кашей, секрет приготовления которой, по-моему, теперь навсегда утрачен.
Почему же я до сих пор помню об этом? Почему вспоминаю?
Должно быть, оттого, что слова продолжают жить в душе, даже если иной раз приходится им затаиться, а люди, пусть и не часты ваши встречи, остаются с вами всегда, если по-настоящему дороги. Мне трудно представить себе свою жизнь без Тюмени и без людей, с которыми свела меня здесь судьба и теперь уже не разведет никогда...
– Отсюда прямо домой? – спросил Лёвин. – В Москву?
– Нет, еще в Новый Уренгой надо добраться. Сын туда должен приехать. На практику.
– В газету?
– В газету.
Не знаю, сумел ли я ему передать, что значит для меня Север, сумел ли я вам это передать...
В ту командировку я уезжал, когда еще была весна, похожая здесь на зиму, вернулся летом, а вот сейчас, дописывая эти строки, гляжу в окно, а за окном снова скользят мокрые хлопья снега, но думаю я об этом не потому, что ненастье всегда или почти всегда безрадостно – нет, меня занимает другое: летная погода? нет? открыто небо? закрыто? На завтра я взял билет и уже отправил Макарцеву телеграмму: «ПОСТАРАЮСЬ БЫТЬ НЯГАНИ ПЯТНИЦУ».
За окнами была глубокая зима, а названия станций, у которых каждые полчаса тормозил наш поезд, звучали то как призыв: Старатель, Смычка, – то словно ласковое имя – Ляля, уютные и надежные Андриановичи соседствовали с загадочными и милыми Марсятами, титулованное Сан-Донато давно забыв о тщеславном италийском приобретении одного из Демидовых, плавно переходило в простенькую мансийскую Лаю и саамскую Выю, а Улым-Сос в надменно-невзрачный Нюрих. Но в окно глядел неотрывно только шофер из-под Ташкента, узбек Саша, который при традиционном обмене адресами оказался Абдусаттором. С другим Сашей, испытателем двигателей из Волгограда, мы толковали о стихах Есенина («Вы помните, вы все, конечно, помните, как я стоял, приблизившись к стене...») и Заболоцкого («Спит животное Собака, дремлет птица Воробей...»), спорили о хоккее, вспоминали подробности взаимодействий 62-й и 64-й армий под Сталинградом, да еще Саша не уставал костерить каких-то замечательных архимедов из Приобья, которые за неделю умудрились запороть два новехоньких двигателя, и крестил их любимым макарцевским словечком: «Ну, дятлы!..»
Абдусаттор отвалился от окна и сказал:
– Двадцать лет я тут не был, да-а... И вот два дня назад – как кольнуло. Дай, думаю, погляжу места, где служил. У нас старшина был – так он, когда уже домой провожали, сказал мне: «Ничего из тебя, Саша, не выйдет. Ты...» Как это по-русски сказать? – шалавяз?
– Шалопут?
– Ага, шалопут! «Ты, говорит, Саша, шалопут...» А у меня детей уже семеро. И уважают меня люди, да. На Доску почета недавно съемку делали. Цветное фото. Интересно, где теперь наш старшина?..
И снова отвернулся к окну.
Еще в Свердловске, когда мы располагались в купе, готовясь к отъезду, я обратил внимание, с какой непоколебимой уверенностью в себе держится Абдусаттор. При нем были двое земляков, ехали они, правда, в другом вагоне и кем приходились Абдусаттору, я не знал; однако сначала они деятельно и с торопливым подобострастием занялись устройством вагонного быта Абдусаттора, а тот сидел, не раздеваясь и не снимая шапки, величественно, как Каченный Гость, и даже на слова не тратил усилий – лишь короткими жестами указывал, куда и что надо положить или поставить. По возрасту он не был старше своих попутчиков, род его занятий, хотя и довольно престижный в любых краях, а в сельской местности особенно, не мог объяснить столь беспрекословного повиновения двоих нашему соседу, степень их родства, какой бы она ни была, вряд ли могла послужить ключом к этой мимолетной тайне; было только одно обстоятельство, не сразу открывшееся и, скорее, мелькнувшее, нежели определенным образом зафиксированное – и все же оно запомнилось, отложилось на задворках сознания, а потом, когда над сутью происходящего начала приподниматься завеса, вынырнуло оттуда, перестало быть бессловесным и темным, прояснилось, заговорило. Иногда мне казалось, что двое спутников Абдусаттора не прислуживают ему, а присматривают за ним с тем напряженным вниманием, с каким следят за поведением больного, повредившегося не столько телом, сколько рассудком. Этот трудно уловимый оттенок их отношений, заметный, вероятно, лишь потому, что его старались скрыть, не мог не заинтересовать меня, хотя, признаться, заинтересованность моя была, пожалуй, поверхностной, скользящей, машинальной, привычной данью профессиональному любопытству.
Разгадка пришла только сутки спустя, да и то благодаря случаю, на которые, впрочем, щедра дорожная жизнь.
Углядев, что одна из полок нашего купе свободна, двое стали совещаться, кому из них договариваться с проводником об обмене своего места на это, однако Абдусаттор, уловивший смысл их переговоров, так зыркнул на земляков, что те притихли, и мысль об обмене больше не возникала.
Как бы то ни было, спутники Абдусаттора почти не покидали нашего купе. Чай пили мы допоздна, земляки доставали из своих хурджинов все новые и новые, но одинаково восхитительные домашние припасы, не отдать должное которым было невозможно, – и мы отдавали, несмотря на то что жалкие наши с Сашей попытки внести в общий стол свою лепту в виде двух похожих, как первоапрельские шутки, вокзальных наборов «Тебе в дорогу, романтик!» были решительно отвергнуты экспрессивным многословием двоих и не менее выразительным молчанием Абдусаттора. Хурджины были бездонны, но во втором часу Абдусаттор что-то сказал по-узбекски, и двое обреченно поднялись; уходя в свой вагон, они прощались с Абдусаттором так трогательно и печально, словно оставляли его в беспомощном одиночестве на крохотном атолле посреди Тихого, или Великого, океана.
Утром, когда и глаз-то мы еще не успевали продрать, они деловито шуршали бумагой, бойко орудовали ножами и разливали душистый чай, заваренный, естественно, особенным образом, хотя на этот раз, мне думается, дело было не в исключительном искусстве хлебосольных земляков Абдусаттора, а в исходном качестве самого продукта: «со слоном» он всегда «со слоном», если к тому же сыпать чай не скупясь; земляки не скупились.
Но когда Абдусаттор начал свой монолог: «Двадцать лет я тут не был, да-а...» – оба они неожиданно встревожились, напряглись в испуганном ожидании, даже глаза боялись поднять на Абдусаттора, хотя проскальзывало или, скорее, ощущалось в наэлектризованном воздухе купе скрытое их желание увезти его отсюда подальше. Тут, пожалуй, я невольно смещаю времена; какое-то неясное дуновение беспокойства спутников, видимо, я действительно уловил, но конкретизировалось оно позднее, и уже обратный счет памяти вывел гипотезу о желании «увезти Абдусаттора отсюда подальше». Тем более когда Абдусаттор закончил говорить и отвернулся к окну, спутники нашего соседа не то чтобы повеселели, но дышали куда свободнее, чем минуту или две назад.
Однако вот что еще показалось мне странным – чем ближе была цель путешествия Абдусаттора и его спутников (а они выходили незадолго до Нягани, на довольно большой, судя по времени стоянки, станции), спокойная уверенность Абдусаттора, его монументальная невозмутимость словно бы таяли, испарялись, он стал вдруг капризничать, гонять земляков то за тем, то за этим, они соглашались беспрекословно, но не оставляли его одного – даже если он разом отправлял кого-нибудь в свой вагон за новой пачкой чая, а другого в ресторан за минеральной водой.
Вот тут-то и произошел случай, который неожиданно расставил все по своим местам.
Поезд замер на каком-то полустанке, было тихо – и вдруг по вагону загремели отодвигаемые и задвигаемые двери всех купе подряд, звуковая волна приближалась, на контроль это не было похоже ввиду нервозной поспешности манипуляций с дверьми; скорее всего, новый пассажир подбирал себе компанию по вкусу.
Так оно и вышло.
Мы вполне устроили этого странного субъекта в распахнутой короткой дохе, без шапки и в легких туфельках комбинированного цвета. Новичка не смутило, что нас уже пятеро: должно быть, его как раз привлекла видовая (пол) и жанровая (стол) однородность нашего состава. Порывшись в кармане дохи, он извлек две бутылки традиционного дорожного напитка, водрузил их на стол и сел, не сказав ничего, очевидно, лишь потому, что ждал случая, когда мы все обратим на него внимание.
Однако Абдусаттор, как я уже говорил, неотрывно глядел в окно, его спутники подремывали, утомленные своим добровольным дежурством, а испытателя Сашу в этот миг заело на строчке: «Вы говорили: нам пора расстаться... расстаться... расстаться...»
– Что вас измучила моя шальная жизнь, – с легкостью продолжал наш новый попутчик, – что вам пора за дело приниматься, а мой удел – катиться дальше, вниз... Есенин. «Письмо к женщине». – Он щедро плеснул себе портвейну, выпил залпом, зажевал ломтиком острой бараньей колбасы и решительно предложил: – Давайте знакомиться. Василий. – И, не дожидаясь, пока все откликнутся на его слова, заявил: – Я тоже стихи пишу. Аналогично. Вот послушайте.
И, полузакрыв глаза, раскачиваясь и подвывая, начал:
Может быть, в душе твоей купается другой,
Может быть, ты с ним немножечко счастлива,
Но не может в моем сердце стихнуть вой
До тех пор, пока оно не станет слива...
– Чего-чего?! – не выдержал Саша. – Какая слива?
– Маленькая. Синеватая. От тоски сердце сжалось, понимаешь? Как бы аналогично.
– Ну и ну, – только и сумел вымолвить мужественный испытатель двигателей, захлебываясь слезами смеха.
Неожиданно к нам повернулся Абдусаттор, поглядел на пришельца и, протянув ему руку, сказал:
– Саша. Меня зовут Саша. Так по-русски выходит. А тебя?
– Василий, – с готовностью ответил тот. – И по-русски выходит: Василий. Аналогично.
– Читай стихи, – сказал Абдусаттор и, не обращая внимания на встревоженные голоса земляков, возбужденно заговоривших с ним на родном языке, величественно повторил: – Читай, Василий.
– А она мне, – внезапно всхлипнул Василий. – Раньше, говорит, надо было думать. Аналогично. Нечего было, говорит, тогда выступать, изображать из себя незнамо кого, а меня дурочкой с переулочка выставлять». Я-то что? Думал – так, мало ли их. Думал, огляжусь, посмотрю, кто чего стоит. А вышло что? Врезалась она мне – как топор в сырое полено. Ничего с собой сделать не могу! Кругом – она да она. Никого больше не вижу. Ну, я-то, дурень, еще похорохорился чуток, повыступал... Наивняк! Короче, схватил я цветы в охапку – и к ней. А она...
– Я тебя понимаю, Василий, – задумчиво произнес Абдусаттор. – Понимаю... Когда теряешь, думаешь: а-а, не коня потерял! Пока в седле – свое всегда возьмешь... – Он что-то быстро сказал землякам по-узбекски, те хмуро поднялись и стали сворачивать скатерть-самобранку, тогда Абдусаттор снова бросил коротенькую узбекскую фразу, и земляки, оставив в покое стол и то, что на столе, занялись укладкой вещей. А по-русски Абдусаттор сказал: – Выходить нам скоро. Понимаешь, Василий... Как это все объяснить? – Он вскинул руки, и, быть может, у кого-нибудь другого этот жест показался бы картинным, нарочитым, театральным, но у Абдусаттора выглядел он естественно и печально. – Как?! Вот они двое, – показал на своих спутников, – братья моей жены, дядья моих детей – пятерых парней и двух замечательных девчонок. А сюда мы едем... Сюда я еду...
Братья жены Абдусаттора больше не вмешивались в разговор, успешно делая вид, что, кроме вещей, ничто более их не занимает, тихонечко советуясь между собой, они стягивали узлом хурджины, крепили баулы и чемоданы друг с другом – так, чтоб нести их было удобнее, чтоб на обе руки поклажа пришлась поровну; Абдусаттора, судя по всему, в свой расчет они не принимали.
А история меж тем приближалась к развязке.
– Двадцать лет назад, – медленно, с расстановкой выговорил Абдусаттор, – покинул я эти места. Отсюда не один уезжал, Василий. Она была со мной. Она. Ехали мы счастливые, веселые, налегке. Два маленьких чемоданчика было у нас с собой, ага... С них, с этих чемоданчиков маленьких, все и началось.
Абдусаттор замолчал, безучастно глянул на притихших, затаившихся земляков, шумно вздохнул:
– Нет, вроде бы никто не попрекал, стороной говорилось, но со смыслом. Бросят слово, другое, третье... Адыл женился, говорят, жена двенадцать ковров в дом принесла. Ни у кого таких ковров нету, ни у кого! Рашид женился, говорят, жена постельного белья напасла – сто двадцать гостей можно одновременно спать уложить, и все из настоящего хлопка, все ручной работы. Абдурахман женился, говорят... Нет, я не молчал поначалу, но старики только поглядывали на меня удивленно и головами качали... Потом и я умолк. Нет, разговоров не поддерживал, не поддакивал, но молчал. Будто меня это не касалось. А Маша – ее Машей зовут, не говорил я тебе, Василий, нет? – взяла свой маленький чемоданчик и уехала... Потом узнал я, что через полгода дочку родила. Я деньги посылал – назад вернула. Я подарки посылал – назад вернула. Я письма писал – назад отправила, не читая. Ну, а потом невесту мне нашли, хорошую невесту. Все как водится было – приданое, гости... Хорошая жена. Хорошие дети. Хорошо живем. Уважают меня люди. Но два дня назад – не поверишь, Василий? – меня как кольнуло. У меня ж, думаю, дочь выросла, двадцать лет ей уже, а я ее ни разу не видел... Собрался – и в Ташкент, на самолет. Эти, – показал он на братьев жены, – в Свердловске меня разыскали. На железнодорожном вокзале. Со мной поехали... А мне бы только на дочку одним глазом взглянуть!
Поезд замедлял ход, приближаясь к станции. Абдусаттор взял легкий портфельчик и, прощаясь с нами, повторил:
– Только б на дочку одним глазом взглянуть!..
А Василию он сказал:
– Ты только не теряй надежды. Не теряй, Василий, очень тебя прошу. Нельзя человеку так, чтоб надежды не было. Понимаешь, Василий? Эх, шалопут ты мой дорогой! Ну давай твой адрес. И мой возьми. Может, пригодится когда...
Братья жены Абдусаттора подхватили тяжелые, громоздкие связки, молча кивнули нам, потянулись к выходу. Лязгнули колодки, остановился вагон.
Перрон, станция оказались на другой стороне. Из нашего окна видны были только белесые цистерны.
– Мороз, наверное, за тридцать, – сказал Саша. – Видите, цистерны заиндевели.
Василий накинул доху, суетным взглядом обвел стол, буркнул:
– Прощайте, мужики.
– Ты-то куда собрался? Тебе где выходить надо?
– Мне в Свердловске. Выходит, я вообще в другую сторону дунул... Аналогично.
Мы с Сашей вышли в коридор.
Узбеки еще оставались на перроне: двое топтались у вещей, а в стороне, спиной к нам, стоял Абдусаттор я глядел на унылую, теряющуюся в матовой белизне панораму то ли перевалочной базы разного рода техники, то ли несостоявшегося городка, то ли отмирающей деревеньки. К нему подошел Василий. Абдусаттор дружески протянул руку. Поезд тронулся – и все поплыло назад: растерянные и расстроенные братья, Абдусаттор с его грустным и неудержимым стремлением прочитать пока еще неизвестные, пугающе-притягательные страницы романа «Двадцать лет спустя», смешной, нелепый Василий со своим жалким косноязычием, плоскими стихами и острой, неутихающей болью потери, о которой и рассказать толком он не сумел...
А если мы не сумели услышать?
«Вот девушка с газельими глазами выходит замуж за американца... Зачем Колумб Америку открыл?» Что в этих-то трех строчках? Надменный экспромт мастера? Проходная шутка, торопливый росчерк привычного к стихотворным забавам пера в чужом, услужливо раскрытом альбоме? Или мимолетная тень чьей-то несостоявшейся любви? Наверное, можно услышать в них и то, и другое, и третье, но проще ничего не заметить, не почувствовать, не ощутить... Саша-Абдусаттор, колхозный шофер из-под Ташкента, быть может, никогда не читавший стихов, смог уловить нечто живое в рифмованном лепете случайного попутчика; пока мы с Сашей из Волгограда давились от смеха, Абдусаттор, вероятно, и не искал отвлеченного от слов смысла, не задумывался над правилами поэтической игры, – его душа ждала понимания и защиты, но он взялся защитить того, в ком угадал слабость, растерянность, внутреннюю неустойчивость и неуют. Так ли случайны бывают случайные дорожные встречи? Нет ли в них намека, предупреждения, вызова или хотя бы осторожного совета обленившемуся, закованному в панцирь холодного и беспечного всезнания сердцу? Вот промелькнули, исчезли наши странные спутники – были они? существуют ли? или просто привиделись, как вещий сон? Нет, вот листок в походном блокноте, пляшущие строчки: Ташкентская область, Ташкентский район, сельсовет... колхоз... улица Келес, дом 4, Абдусаттор... Возникли на экране окна и стремительно растворились в дрожащей дали другие люди, про них ничего мы не знаем и уже не узнаем никогда; должно быть, не доведется услышать и имена наших спутников, которые только что сидели напротив; неотвратимо улетали назад дома, вагоны, машины; ровен и деловит был перестук колес, за окном вновь плыла белесая пустота, но рядом уже поселилась тревожащая горечь чужих неостывших чувств, которыми жили, живут и будут жить дорожные истории – у них нет начала, продолжения проблематичны, а конца не бывает никогда...
Между прочим, и в той истории, которую я пытаюсь рассказать вам, постоянно отклоняясь в сторону, тоже не видно конца, и я не берусь предугадывать или выстраивать его, сообразуясь лишь с логикой, окаменелой оболочкой простых и упрямо-обыденных фактов.
– Зря я смеялся, – глухо сказал Саша, – По-разному мужика может прижать, сразу не разберешь.
– Аналогично, – грустно усмехнулся я.
–А мы уже к Нягани подъезжали.
Вот и вокзал, вот и пристанционная площадь – она, как и прежде, забита грузовиками. Я потолкался среди них на всякий случай, но знакомых вроде не было видно, и, взгромоздив рюкзак на плечи, поплелся по заснеженной тропинке в гору.
– Ты кто? – спросил я у девочки, открывшей мне дверь. – Лена или Лера?
– Лена в десятом классе уже. Я Лера.
– Когда я последний раз виделся с вами, Лена была как ты сейчас.
– А я вас узнала! А папа на буровой! А мама встречать вас поехала! Вы потерялись!
Потерялись. Разминулись.
Геля через десять минут нашлась, а к вечеру и Макарцев объявился, похудевший и черный, но ужасно веселый.
– У нас новости! – объявил он.
– Не может быть.
– Новый генеральный директор объединения, Нуриев. Это раз. Новый начальник УБР, Путилов. Это два.
– И он еще радуется, – вздохнула Геля. – Новый начальник всего неделю как появился, молодой парень, по шестнадцать часов в сутки работает, а эти двое, Макарцев и Николай Николаевич – знаешь его? Иголкин, главный инженер – радуются как дети.
– Значит, так, – сказал Макарцев. – Завтра едем на Талинку. По всем буровым проедем.
– Макарцев, – строго произнесла Геля. – Ты обещал, что завтра за молоком съездим. Опять провороним.
– Обожди, Геля, – сердито оборвал Макарцев. – Не мешай.
Это было нечто новое. Геля просто застыла от изумления.
– Вот что прежде всего должен ты уяснить себе, Яклич, – не меняя тона, продолжал Макарцев. – Период у нас какой-то странный нынче. Вроде бы как Ренессанс.
– Ну, Сергеич!.. – не выдержал я. – Попроше не можешь? А то я тебе такую историю про Ренессанс расскажу – с незабвенным Сеней Воеводовым в главной роли.
– Могу и попроше, – согласился Макарцев. – Только не пойму я тебя, Яклич... Самого прежде куда-то всегда заносило... Может, случилось что? А?
– Да нет, – пробормотал я, вспомнив опять дорожную историю. – Слушаю тебя, Сергеич.
– Слушай, слушай внимательно. Помнишь, прошлый раз говорил я тебе, что Нягань словно бы в спячку погружена. Даже перемен никаких не ждут – так, спят на ходу, только упряжь во сне ощупывают: дела ли лямка-то? зарплату дадут? Лямка цела, зато от телеги давно она отстегнулась, сама по земле волочится... Но это уже никого не колышет. И тут приезжает новый генерал. Не видел еще Нуриева, нет? Обязательно познакомься. По нему сразу видно, что этот спать никому не даст. И не потому, что шум поднимет, на горло брать станет, а потому, что у него есть идеи. Понимаешь? Мысль у него есть, как нашу Нягань из ямы вытащить. Теперь Путилов. Никто про него ничего толком не знает, однако заметно – этот Нуриеву под стать, тоже признавать не захочет, что положение безвыходное. Понимаешь, Яклич: надежда забрезжила, вот что самое главное. Почему я назвал этот период странным? Да потому, что конец года, план у нас по всем статьям провален, и о том, чтоб в этом году выкарабкаться – речи быть не может: отставание страшное, я же сказал – мы в яме. Но нет ни уныния, ни обреченности. Более того, появилась вера, что в следующем году по-другому работать будем, не просто лучше или больше, а в принципе по-другому. Уяснил?
– Ох, Макарцев, – сказала Гели. – И ничем-то тебя не проймешь. Надежда. Вера. В принципе. Сколько я тебя знаю, вечно ты в эти бирюльки играешь, каких-то перемен ждешь. Надежда Васильевна, Вера Петровна. По-другому, по-другому! У тебя вон голова вся седая, а ты, как тот мальчик, все надеешься, что Чапаев выплывет...
– Геля, – примирительно сказал я. – Да и тебе бы пора привыкнуть...
– И ты! – взвилась Геля. – Оба вы хороши! Я думала: приехал человек из Москвы, старинный знакомый, чуть ли не родственник, – так неужто поговорить нам не о чем? А вы как заладили: ду-ду-ду, ду-ду-ду...
– Съездим на Тал инку – сам убедишься, – покосившись на Гелю, сказал Макарцев. – Конечно, пока лишь начало, пока только планы, однако настроение у людей стало иное. Переменились люди. Те же самые – а переменились.







