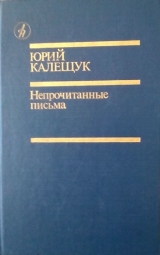
Текст книги "Непрочитанные письма"
Автор книги: Юрий Калещук
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 41 страниц)
Самотлор и китаевская буровая остались позади, а внизу простирался теперь бледно-зеленый ковер болот и петляли сдвоенные нити дорог, впечатанные в ягель, маршруты бесчисленных зимников: машина за машиной везла грузы на север, расталкивая снег, врезаясь в мерзлую землю, вминая в нее мох и траву – и к осени та не успевала выпрямиться. Странное дело, но эти отслужившие свой короткий век дороги, точнее отпечатки былых дорог, прибавляли уверенности. Во всяком случае, мне. Красная студенистая земля, оставаясь ненадежной, не была пустынной, она только притворялась необжитой. Львов вел вертолет на север, от жилья к жилью, не подозревая, что перечеркивает страницы прекрасной книги: «Едва оторвавшись от земли, мы покидаем дороги, что сворачивают к водоемам и хлевам или вьются от города к городу. Отныне мы свободны от милого нам рабства, не зависим от родников и берем курс на дальние цели». Львов не читал Экзюпери; он вел вертолет на север, петляя от одной разведочной буровой к другой, зависая над квадратами деревянных площадок, взмывал вверх, садился на лежневку, садился в траву; на одну буровую летела повариха, везла мешок хлеба, на другой в салон погрузили ящики с керном, на третьей невзрачная собачонка с жестяным номером «156» на вытертой груди, прижав уши от ветра, поднятого винтами, облаяла вертолет и прилетевшего на нем начальника экспедиции; проплывали внизу просеки – контуры будущих дорог и ЛЭП: извиваясь, терялась вдали бесцветная лента реки...
Однажды на рассвете нам случилось летать над нею.
Три дня назад из Сургута вышла на Новый Аган баржа с дизтопливом. И пропала. Так, во всяком случае, утверждал заместитель начальника НГДУ «Мегионнефть» Абзалов: «Все сроки прошли... Искать надо, командир. Ясно?» Слово «искать» обещало внести в налаженную жизнь вертолетного экипажа романтическую неопределениость. Львов, правда, не верил, что баржа могла потеряться, но мы с Лехмусом навоображали себе бог весть чего: как долго мы ищем пропавших, снижаясь над плесами, обшаривая все уголки таежной реки, расспрашиваем хантов, выставивших свои рыбацкие шалаши у заводей, мучительно гадаем над картой, отвергая вариант за вариантом, как, наконец, находим баржу, сбрасываем вниз продукты и спускаемся по раскачивающейся веревочной лестнице за больными. Не хватало только тумана и какого-нибудь захудалого шторма, но погода стояла прекрасная. Впрочем, Лехмуса это не устраивало. Он принялся набивать карманы пленками и щелкать затворами, проверяя свои камеры, а я вывел в блокноте первую фразу: «Идем на поиск – медленно, спустившись к самой воде», но тут же, взглянув на приборы, с досадой обнаружил, что высота под триста, а скорость около двухсот. Львов вел вертолет так, будто держал потерявшуюся баржу на радиопеленге.
Мы вышли к ней через тридцать пять минут, заложили вираж, второй...
Красный катер и серебристая баржа спокойно шли на Новый Аган, держась правого берега; курился дым из камбуза, и мирно сушилось белье. Часов через шесть они придут в Новый Аган. А грузу – ждать зимы: машины повезут топливо дальше на север, к Варь-Егану, протаптывая снег до мха, до травы, до мерзлой земли...
– Никуда они не терялись, – сказал Львов, передавая управление второму пилоту. – Чапали и чапали себе потихоньку.
– Ну Абзалов – нагнал страху, – только и ответил Панасов.
– Поехали в Мегион, – сказал Львов. – Оттуда будем работать с подвеской.
Бортмеханик Володя Кузьмин нацепил наушники, подключился к внутренней связи и ушел в хвост, разматывая провод; я сел на его место; Львов снова взял управление на себя и смотрел вперед, вниз, в зеркало заднего вида.
Вертолет шел ровно, но в полете его появилась какая-то несвобода, скованность; Львов сидел нахохлившись, застыв, словно стреноженность машины передалась и ему. Любовь всегда конкретна, а она невозможна без сострадания. Неуклюжая в сравнении с длиннокрылыми самолетами машина, придуманная для самых немыслимых фантазий человека, осваивающего близкое небо, она, однако, видела свое предназначение в полете, а не в извозе. Но на третьем кусте аганской площади, так же как и на острове в центре Самотлора, готовились бурить новую скважину; все неизбежно и необходимо в этих приготовлениях, но они обретают смысл, когда пойдут метры проходки, когда начнется настоящая работа, ради которой люди оставили свои дома и собрались здесь; буровая стояла в густом лесу, была осень, пахло грибами, а люди застыли, задрав головы, и смотрели в близкое небо.
Потом было много таких вот коротких подлетов; мы шли на север и возвращались на юг, болота сменялась тайгой, а леса пропадали в низинах; трубы в цемент, доски и стекловата, хлеб и дизтопливо – на Агане, Варь-Егане, новых месторождениях вокруг Самотлора закипала работа: надвигалась зима, и надо было спешить. И все же время года здесь ни при чем. Надвигалась бы весна – они бы спешили, надвигалось бы лето – они бы спешили; мы всегда спешим, стараясь успеть больше, потому что другой жизни у нас не будет. Впервые Львов увидел самолет в классе пятом, когда в маленьком городке на Урале сел на вынужденную МИГ-15. Машина ошеломила его. Она ни на что не была похожа и все же снилась ему. Потом ему удалось устроиться прокатиться на ЛИ-2. Он вылез из самолета, облеванный от воротничка до шнурков, но с твердым желанием стать летчиком. Сасовское училище, Свердловский отряд, АН-2. И снова училище. Работать в небе надо на вертолетах. Сначала то было предположение, гипотеза, которую надлежало проверить. Когда Львов первым в Нижневартовске освоил МИ-8, он понял, что не ошибся: машина была или казалась ему совершенством. Как тот истребитель, севший на вынужденную в далеком детстве, в маленьком уральском городке. А начинал он здесь на «четверках». Давно это было, но первый вылет ему запомнился: стояла середина июня, и так лупил снег, что на посадке было его по колено. А возили вахту на Самотлор – бетонки тогда не существовало. Даже дорогу в аэропорт еще не проложили – сколько раз добирался он до работы, теряя в грязи ботинки. И воды в доме ни капли, приходилось таскать на себе сорокалитровые фляги. То было начало, и тогда все так начинали.
Но сейчас уже не начало, уже есть Самотлор с его опытом и уроками, обретениями и потерями. Так почему же, подумал я, Аган и Варь-Еган должны повторять все извивы и изгибы капризной и непредсказуемой дороги первопроходцев? Не придется ли пожалеть о своей забывчивости и беспечном небрежении собственным знанием, за которое уже не однажды выложена немалая цена? Однако мысль эта мелькнула, уколола и улетучилась, а я принялся наблюдать, как на очередной площадке выгружают из вертолета короба со стеклом и ящики с гвоздями, картонные блоки с куревом и железные бочки с соляркой. Кузьмин, по обыкновению, развил бурную деятельность: на кого-то орал, кого-то гонял – от такелажников только пар шел; Панасов возился с бумагами; Львов отошел в сторонку, прихрамывая, и курил, посмеиваясь. Невысокий, коренастый, со смешным хохолком на затылке...
Отлетав неделю с экипажем Львова, мы пришли к нему домой. Что-то случилось со светом, керосина в доме не оказалось, мы сидели на кухне в дымном чаду догорающих свеч – Лехмус осуществил голубую мечту одного из неудачливых соискателей сокровища мадам Петуховой, священника церкви Фрола и Лавра отца Федора, в миру Федора Ивановича Вострикова, – открыл маленький свечной заводик. В свою затею он вовлек всех нас, вытребовал у хозяйки какие-то нитки, заставил разминать остывающий стеарин, закатывать в него скрученные нитки. Свечи получились несуразные и жалкие, горели, треща и воняя, но светили. Во всяком случае, то, что стояло на столе, мы различали.
Последний полет вышел странный.
В наряде была записана доставка партии лесорубов куда-то за Вах, но пятеро небритых молчаливых мужчин, загрузивших в вертолет лодку, два мотора, четыре бочки горючего, коптильную печь, полдюжины ружей и одну бензопилу «Дружба», меньше всего походили на лесорубов. В полете они подмигивали друг другу, затаенно сопели и мечтательно ухмылялись. Когда река осталась позади, они прильнули к блистерам и долго ругались из-за того, где лучше садиться...
– Какие они лесорубы, – сказал Львов, вспомнив о них, и чертыхнулся. – Мясорубы – вот они кто.
Керосина на обратный путь не хватало, надо было зайти в Максимкино на заправку. Вертолет был пустой и гулкий, задувал встречный ветер; над Вахом, когда посадочная площадка уже открылась на другом берегу, мощный порыв так затормозил машину, что она на мгновение зависла над рекой, потом полого пошла вниз; сели с сухими баками.
Рядом был лес, необыкновенный, в осеннем убранстве, светило мягкое солнце, мы с Лехмусом сидели на бревнах; было тепло и тихо и печально немного, как бывает всегда, когда что-то уходит, а удержать это невозможно...
Так было вчера, а сегодня льет дождь, ветер стучит в стекло, электричества нет, догорают, чадя, наши самодельные свечи, и мы говорим негромко, потому что пространство, зыбко очерченное тусклым светом, невелико, а что там, за чертою, ты не знаешь.
– Однажды перегоняли мы «восьмерки» в Югославию, – рассказывал Львов. – Двенадцать машин. Ну и после три месяца там работали, обучали югославских пилотов. Тогда я вторым пилотом был...
– А много ты на перегонах работал? – спросил Лехмус.
– Изрядно. В Корею и Монголию, ГДР и Чехословакию... Потом сюда попал. Думал сначала – не выдержу. Такое здесь было! А теперь и не представляю даже, как можно где-то в другом месте работать.
– Интересно тут, – подтвердил Лехмус. – Меня вон в Крым отправить – так я и не пойму, что там и как снимать.
Зачем в Крым, подумал я. Я и в Москве наберу не так уж много тем, которые тебе, дон Альберто, были бы интересны. Помню, как-то поручили Лехмусу снять нечто из области балета. Над этой съемкой редакция хохотала неделю: пленительная эстетика балета подозрительно напоминала яростную надсаду буровиков во время спускоподъемных операций. На журнальные полосы тот сюжет не попал, однако, если всерьез, такой подход, наверное, тоже правомочен, ибо на фотографиях был запечатлен не блистательный результат, а тяжкий, мучительный путь к нему. Ведь один художник сделал лет сто назад серию работ о балете, где были показаны будни, предшествующие праздничному действу, – и он, художник, и эта серия стали знамениты...
– Был еще такой случай, – сказал Львов. – Шел вертолет с подвеской, зимой дело происходило, и метров со ста в снег рухнул. Раковина в шестерне редуктора. Сто двадцать градусов разом выломилось. Машину рвануло набок, так левым бортом она и завалилась. Прямо на дверцу. Второй пилот на месте бортмеханика сидел, а на месте второго – командир отряда. Их с ремней сорвало – и на командира вертолета. А у того и так весь левый бок разбит. Но он первый очнулся – гарью запахло. Растолкал остальных, сказал, чтобы правый блистер в кабине откинули, выползали. И сам за ними – на сломанной руке подтягивается, сломанной ногой отталкивается. Свалился в снег, лежит в рубашке с закатанными рукавами, не чувствует ничего. А машина горит. Там дорога рядом была, шофера набежали, оттащили... А вертолет пахнул тихонько и залился белым пламенем. Жутко.
– А потом что?
– Выжил. Несколько месяцев в госпиталях провалялся и выжил. Хотели на пенсию отправить – все ж таки левая рука и левая нога плохо действовали. Но человек всего может добиться, если захочет. Если он человек. Если небо для него – и жизнь, и работа, если работа для него – только небо.
Неожиданно вспыхнул свет. Львов погасил свечи, и они долго дымили; Львов разогнал дым рукой и задумчиво сказал:
– Поставлю-ка я чай, ребята.
И пошел к плите, сильно припадая на левую ногу.
Где это вы пропадали? – ревниво спросил бурильщик Федя Метрусенко, когда мы вновь появились на озерной буровой. – Я думал, вы совсем уехали...
– Так мы с вертолетчиками летали, – ответил Лехмус. – Не видел, что ли? Мы же над самой вышкой были.
– А-а...
– Ну так! А знаешь, кто пилот? Алик Львов. Очень хороший человек. Хочешь, познакомлю?
Лехмус был убежден, что всех хороших людей надо знакомить друг с другом, и, надо сказать, довольно последовательно осуществлял свои убеждения на практике.
А на острове кипела радостная суматоха, но лишь стороннему глазу она могла бы показаться праздной кутерьмой: Федя Метрусенко придирчиво оглядывал ключ-автомат и опробовал лебедку, Толик Мовтяненко, его первый помбур, проверял основной и запасной элеваторы. Саня Вавилин и Паша Макаров начищали до блеска и без того сверкающие детали насосов, Витя Макарцев сосредоточенно корпел над формулами и расчетами набора кривизны, Китаев, весело поздоровавшись с нами, продолжал беззлобно подтрунивать и над Макарцевым, и над своим новым сменным мастером, да еще по рации говорил, вызывая геофизиков:
– На шестнадцать ровно! И чтоб без этого! Ясно?
Положив трубку в гнездо, он вдруг посерьезнел и произнес тихо:
– Ну что – начнем?
Лехмус расчехлил свои камеры и приготовился к съемке.
И тут пошел снег. Сразу исчезли с глаз озеро, и дорога над озером, и остров, и буровая вышка. Только огни на вышке были видны слабо, расплывчато; они плавали или летали в том, что не было небом, не было водой, не было землей, они плавали, сближаясь и расходясь, и как будто отыскивали друг друга...
Когда снежный заряд прошел и я вновь увидел вышку, очертания ее не переменились, и все-таки она была иной.
Она жила.
Стучали насосы, вздрагивал, трепетал буровой шланг, все ниже и ниже опускался квадрат, подталкивая турбобур в неведомые глубины, под купол месторождения.
Был последний день сентября, и его уже нельзя было считать осенним, но и зима еще только стучалась в двери. Когда мы вновь прилетели на Самотлор, зима была глубокой, как сон, и нескончаемой, как ожидание.
Он пришел раньше всех, отыскал свой автобус, 56-29, сел на привычное место, второе сиденье слева, забился в угол к окну. Было темно, как бывает темно в этих краях в шесть часов утра в декабре. И было тихо, хотя город уже давно не спал. Потом замелькали огоньки сигарет, послышались шаги и слитный шум не разделенной на слова многоголосой речи; в автобус один за другим входили люди, он не различал их лиц, но узнавал по движениям, по голосам, его тоже узнавали, хотя он сидел неподвижно и молча, здоровались с ним и продолжали прежний, начатый без него разговор. Никто не спросил его ни о чем. Сел рядом Давлетов, сказал: «Привет» – и сразу умолк. Как будто ничего не произошло.
Ладно.
Водитель зажег фары, стал приноравливаться, как половчее выбраться из толчеи вахтовых автобусов, но в дверь затарабанили, и в салон заглянул Китаев. Спросил:
– Сухоруков здесь?
– Здесь, – ответил он нехотя.
– Давай сюда.
Они стояли в свете фар, как на экране немого кино. Китаев наступал, рубил воздух ладонью; Сухоруков безразлично пожимал плечами и поглядывал в сторону вахтового автобуса; в автобусе молчали. Ладонь еще раз рубанула морозный воздух. Точка. Китаев снова открыл дверь и сказал:
– Поезжайте. Сухорукова я от работы отстранил.
Сухоруков все еще стоял в свете фар, низко опустив голову; потом шагнул в сторону, уступая дорогу автобусу. И исчез в темноте.
– О-хо-хо, – закряхтел Давлетов. – Круто берет Васильич... Это же – Сухоруков. Лучший бурильщик... Да-а... Ну, пропустил два дня. Так разобраться надо...
– Станет он разбираться!
– Прежде бы стал... О-хо-хо, – снова вздохнул Давлетов. – Что же случилось? Что же произошло, а?
Никто ему не ответил.
– Ты мне, Васильич, все того времени простить не можешь, когда ты у меня в помощниках ходил, – проводив глазами автобус, повернулся Сухоруков к Китаеву.
– Да я уж и забыл давно, – отмахнулся тот. – Будто и не было никогда ничего.
Однако все было.
Став наконец буровым мастером («наконец» – потому что долго он шел к этой цели, непрямым, непростым путем), Китаев решил, что добиться настоящего успеха он сможет, когда сумеет этих, а не каких-либо других, приглашенных в бригаду «на укрепление» людей, этих, разуверившихся в себе, привыкших, что на них махнули рукой, этих людей убедить в том, что они способны на большее, – и лишь тогда это произойдет, если каждый научится отвечать не только за себя, но и перед собой, не только за вахту, но и за бригаду. Разные то были люди: осторожный, порой до чрезвычайности, Гечь и сущий анархист Метрусенко, прошедший огонь и воду Вавилин и совсем еще не окрепшие Юсупов, Кильдеев, Мовтяненко, Мухарметов, Недильский. Китаев приглядывался к каждому, старался и в вахтах соединить людей так, чтобы не утрачивалось, а росло ощущение их необходимости друг другу. Конечно, думал Китаев, Юсупову с Кильдеевым несладко у Гечя, но чем скорее они научатся учиться, тем быстрее придет их черед. А Мухарметов, Недильский, Мовтяненко, пожалуй, уже сегодня готовы стать к пульту бурильщика. Но Сухоруков... Нет, с Сухоруковым было неладно. Он просто взял за правило поглядывать на остальных свысока, начал и к вахтовому автобусу опаздывать – все ждали его, сколько бы ни приходилось. Наконец, не вышел на работу вообще. Метрусенко отстоял за него вахту, побалагурил: «Ничего, я его под праздник какой прихвачу», – а Китаев вдруг растерялся, попросту промолчал. «Почему он так? – спрашивал у меня Китаев позднее. – Ведь я столько души с ним извел – зла не помнил, добра не жалел... Почему же он так?» – «По-моему, ты все помнил, Васильич. Всегда. Не зло, не обиду помнил – просто знал, что Сухоруков этого не забыл. И когда он сорвался в первый раз, ты сделал вид, что не заметил. Ты боялся, что он решит, что ты сводишь с ним счеты за прошлое». – «В конце концов, он так и решил...» Нет, после первого срыва Сухоруков затаился, вроде обмяк, но Китаев знал, что это ненадолго – только бы повод нашелся.
И повод представился: приехал Сериков.
Сухоруков с первого дня невзлюбил нового бурильщика: и ходит не так, и говорит не то, и выставляется. Сериков действительно не отказывал себе в удовольствии быть на виду. Предложит какую-нибудь новинку – а на это он был горазд – и тут же всем растрезвонит, что эту штуку придумал он, Сериков, а не кто-нибудь другой. Забавно, но его старания часто приносили обратный результат: когда вся бригада постепенно привыкала к новому правилу (ну, предположим, собирать все сработанные долотья в каком-то определенном месте, в конце мостков, что ли), неожиданно обнаруживалось, что только одна вахта по-прежнему разбрасывает инструмент где попало – вахта Серикова. Когда это дошло до Сухорукова, тот загоготал, не скрывая пренебрежения: «Ну, что я говорил! Показушник!» Иные чувства пришлось изведать ему, когда Сериков «достал» Сухорукова по метрам проходки. Тут его понесло, и неизвестно, чем бы закончилось дело, однако Сериков неожиданно для всех вступился за него и сказал: «Мне интересно соревноваться с таким классным бурильщиком, как Сухоруков». Это был предел, и Сухоруков знал, что это предел, и было ему тоскливо.
Одна за другой вкатили на остров две машины: китаевский фургон, полоскавший брезентовым пологом над задним бортом, как кормовым флагом, и принаряженный «уазик», ослепительно сверкавший никелированными колпаками на колесах, – это машина главного инженера управления Усольцева. «Уазик» остановился прямо под окнами культбудки, а фургон развернулся, проехал к насосной. Китаев выпрыгнул из кабины, стал распоряжаться разгрузкой; Усольцев стоял в стороне, нетерпеливо ожидая, когда Китаев подойдет к нему.
– Ну хорошо, – раздраженно сказал Усольцев. – Какие еще у тебя аргументы?
– Я уже сказал: не могу уйти, пока не закончу того, что обещал сделать.
– Словеса!
– Не считаю.
– А я считаю! Я считаю, что ты занимаешь чужое место. Виталий Недобитков должен быть мастером твоей бригады, хватит ему сменным мастером болтаться. Молодой, перспективный парень... А ты, выходит, не даешь ему расти.
– Выходит...
– Это раз. В управлении тебя ждет место начальника ЦИТС. Центральная инженерно-технологическая служба, цех бурения – это только по меньшей мере. Может, предложим тебе должность начальника ПТО – Заки Ахмадишин собирается в науку податься, диссертацию заканчивает. Довольно нас упрекали, что управление не выращивает свои кадры. Вот мы тебя и вырастили. Это два. Думаешь, работы будет меньше? Не будет. Ответственности меньше? Не меньше. Это три и четыре. Чего же тебе еще надо?
– Да ты пойми: не могу я бросить бригаду. Тем более сейчас. Надо пятилетку довести до конца.
– Что значит бросить? Что это за мелодекламация! Просто перейти на другую работу.
– Все-таки бросить...
– Слушай, Виктор, я знаю тебя тысячу лет, и ты мне надоел. Ты еще в институте надоел мне своим занудством. Сколько тебе лет? Тридцать четыре. Кто ты есть? Бригадир комсомольско-молодежной бригады. Ну?!
– Нет, Александр Викторыч, не могу.
– Ну, знаешь! Ладно. Хлебай горе со своим Сухоруковым. Кстати, я бы уже давно выгнал его из бригады...
– Выгнать легко.
– Утирай носы подрастающему поколению, бегай в коротких штанишках, раз это тебе так нравится. Задумаешься потом, а поздно будет.
«Уазик» рванул с места. Только колпаки засверкали.
– Послушай, – сказал мне Сериков, – я тут на восемь утра подсчитал метры, и вышло у меня семьдесят тысяч с лишком.
– Точно?
– Как в аптеке.
– А подъем вы когда начали? – поинтересовался я.
– В половине седьмого.
– Значит, годовые обязательства вы выполнили примерно в шесть утра.
– Чур, я тебе первый сказал! – заторопился Сериков.
– А Китаев знает? – спросил я.
– Зна-ает... Он мне намекал что-то, я не понял...
– Сейчас я в газету позвоню, – предложил я, – в «Ленинское знамя». Пусть Федя Богенчук информацию даст: «Сегодня в шесть часов утра вахта Владимира Серикова пробурила семидесятую тысячу метров. Комсомольско-молодежная бригада Виктора Китаева выполнила годовые обязательства!» Пойдет?
– Вполне.
– А почему вахта Серикова? – ревниво спросил Давлетов. – Пускай бурильщик с нами был Сериков, но вахта же сухоруковская. Сухоруковские мы. Да.
– Но он же со своей вахтой пробурил, – пояснил я. – Еще в шесть утра. А пересменка была в восемь.
Давлетов посмотрел недоверчиво, потом взял журнал, стал пересчитывать, морща лоб и шевеля губами.
– И все-таки семьдесят тысяч, – вздохнул Китаев, – только семьдесят тысяч. – Вместе с вахтой мы возвращались автобусом в город. – В следующем году надо сделать восемьдесят пять, не меньше...
– Больше! – выкрикнул Саня Вавилин.
– Сколько же? – полюбопытствовал Китаев.
Вавилин задумался.
– Если поднапрячься, то возьмем и восемьдесят шесть...
– Ну, это не девяносто, – улыбнулся Китаев. Однако, помолчав, добавил: – Девяносто мы тоже взять можем... Можем... Что для этого нужно? Чтобы каждый думал не только и не столько о себе, сколько о других... Понимаете?
– Именно что каждый, – отозвался Давлетов. – Ведь мы, наша вахта, почему работаем хорошо? Потому что привыкли друг к другу, чувствуем друг друга, понимаем. А поставили к нам в вахту чужого бурильщика – так мы и не понимаем его совсем...
– Не так ты Сухорукова защищаешь, – поморщился Китаев. – Не так. Его от себя надо защищать.
– Но это же Сухоруков! – воскликнул Равиль Мухарметов. – Серьезно, Виктор Васильевич...
– Скажи, Рома, – спросил Китаев у Мухарметова, – на сколько медленнее ты делаешь спуск-подъем, чем Сухоруков?
– Я же его ученик, – уклончиво ответил Мухарметов. – Только ученик...
– Не нравится мне, Рома, что ты юлишь. Ты прямо говори.
– Ну, на час.
– Так вот. Мне этот час не нужен. И метры мне сухоруковские не нужны, хотя их он дает поболее, чем другие. Не нужны мне его метры! Мне человек нужен. Ты понимаешь, Рома?
– Понимаю.
– И только сам он может вернуть себя. Только сам. Помогите ему это понять.
– Ты, Васильич, – кипятился Лехмус, – хочешь, чтоб люди у тебя были как кирпичики, один к одному. А они разные. Понимаешь – разные! То ты на Сухорукова нападаешь, теперь к Метрусу начал цепляться. Да ведь это лучшие твои бурильщики! Асы!
– Перестань, Альберт, – вяло отмахивался Китаев. – Разве ж только в этом дело? Лучшие, хорошие, замечательные... Мало мне, чтоб они только бурильщиками хорошими были! Надо, чтобы еще и людьми вырастали порядочными. А эти, твои асы... Один возомнил о себе бог весть что. Другой метры рвет, пока вышка не развалятся, – а остальным, значит, обломки за ним подбирать, мусор выносить, да?
Погода никак не благоприятствовала такому ходу разговора. Высокое безмятежное солнце не жалело тепла; ветер, неизменно дежуривший над озером, на этот раз был даже приятен, он нес с собой терпкий запах пробуждающихся трав и деревьев; мы сидели втроем на чистом крылечке культбудки, чуть поодаль пристроился Макарцев, читавший толстую растрепанную книгу; на соседнем островке готовились к передвижке; мы ждали, пока придет вахтовый автобус, но уезжать не собирались: до конца пятилетки бригаде оставалось пройти неполных три сотни метров, и, скорее всего, сегодня вечером это событие произойдет, а вместе с ним завершится сюжет, который мы с Лехмусом в течение полутора лет называли «хроникой бригады Виктора Китаева».
– Послушай, Васильич, – сказал я. – А как теперь у тебя с Усольцевым? Ну, после того разговора о переходе в управление?
– По-разному, – уклончиво ответил Китаев. – По-всякому... – Он сидел с непокрытой головой, и его рыжеватые, уже начавшие седеть волосы постоянно меняли оттенок, поддаваясь дуновению ветра. – Ведь мы домами с ним дружим... И в институте вместе учились, тоже не чужими были. А на работе – ну просто враги. У него один подход к делу, у меня другой. Он за свои решения цепляется, а я спорю. Вообще-то так и надо – дружба дружбой, а дело делом, Но его переубедить невозможно. Даже нелепую точку зрения – если это его точка зрения – он будет отстаивать до конца. Упрямый. Конечно, в тридцать пять лет главный инженер такого управления, как наше, – это что-то. Но можно в тридцать пять и министром быть. Трудно стало работать. С тех пор как отказался перейти в управление, труднее стало. Труднее. У него память хорошая. Особенно на то, когда ему поперек скажешь. За чем к нему ни зайдешь – он тут же: «Не захотел идти в управление? Доброго совета не послушал? Ну вот. Теперь сам выкручивайся!» Да не хочу я выкручиваться. Я работать хочу...
– Между прочим, – снова проворчал Лехмус, – Метрусенко сегодня на рыбалку не поехал. Потому как понимает, что за день нынче. А ты, Васильич, говоришь, будто он только о себе да о себе...
– Что же мне теперь, Альберт, – раздраженно сказал Китаев, – в ножки твоему распрекрасному Метрусенко кланяться? Да еще спасибочки ему сказать, что он румынское долото похерил и всю бригаду целые сутки заставил в дерьме ковыряться?
– Ладно вам, – примирительно сказал я. – День и впрямь такой, что не стоит вспоминать про дурное.
Китаев поглядел на меня насмешливо, но ничего не сказал.
Вдали показался автобус. Дорога уже просела, и было видно, как на стыках плит машина подпрыгивает, словно школьница, играющая «в классы». Автобус повернул сначала к соседнему островку, оставил там вышкомонтажников и вахту Гечя и, не задерживаясь, двинулся к нам. Макарцев сразу же принялся собирать свой нехитрый инструмент, встрепенулся и Лехмус, автобус заскрипел тормозами.
Первым прыгнул с подножки Сухоруков, спокойный, с гладко выбритым лицом, и нарочито медленно зашагал к вышке.
Несколько раз после того памятного декабрьского утра, когда Китаев оставил его на морозной пустынной площадке автостанции, я пытался поговорить с ним, и всегда это было тягостное изматывающее занятие, доставлявшее удовольствие, кажется, только Лехмусу, – пристроившись где-нибудь рядом, он щелкал затвором камеры, приговаривая: «Теперь сходитесь... Хладнокровно... Вот так... У тебя, Федя, право первого выстрела... Нормально... А теперь ты, дед...» Но, как бы ни были мучительны наши объяснения, прок от них был немалый: и Федор постепенно выговаривался, да и я стал понимать в жизни бригады чуть больше, чем ранее. Талантливый по природе человек, Сухоруков вдруг уверовал в то, что будет первым всегда, не прилагая к этому особых усилий, при любых обстоятельствах, а когда вышло иначе, неожиданно принялся винить в этом не себя, не самодовольную леность свою, а вздорный характер и дурные свойства натур других людей. Но он не был бы Сухоруковым, если бы не сумел – пускай и не сразу – отличить ложные причины, вымышленные от подлинных.
– Федор, – сказал Макарцев, – шарошки расходить надо – заклинило.
– Сделаем, Сергеич! – весело ответил Сухоруков.
Макарцев совершал таинственные пассы у ротора; взмахивал руками, помечал мелом положение кривого переводника, переносил отметки на трубы, считал, рассчитывал, проверял заново. Не страх ошибиться, а привычное желание сработать хорошо, грамотно, как здесь любят выражаться, жило в нем неистребимо и, казалось, уж не зависело от него. Сухоруков поглядывал на Макарцева, и вся вахта работала до того слаженно, что даже улыбаться они начинали одновременно.
– Теперь пойдем, – сказал Макарцев. – Метров шестьдесят. А там замер.
Пошли. Прошли квадрат, нарастились, снова квадрат...
– Нет, это только Сухоруков, – восхищенно сказал Макарцев четыре часа спустя. – Начали кривить в шестнадцать – и уже заканчиваем. Да такого никогда еще не бывало.
Федор ухмыльнулся. И вся вахта заулыбалась следом.
– Если и этот замер пройдет нормально, – пробормотал Макарцев, – значит, осталось десять метров. До пятилетки. Последние десять метров...
Разматывался трос, уходил вниз квадрат; на одной из граней его была сделана отметка мелом. Я следил, как она приближалась к ротору. Ниже, еще ниже. Все. Солнце коснулось озера. Было девять часов вечера. Сухоруков вновь отпустил тормоз, и меловая отметка исчезла.
Все? Квадрат продолжал опускаться, долото вгрызалось в породу, шло бурение.
Бригада Виктора Китаева начала десятую пятилетку.
– Ура? – то ли спросил, то ли сказал Лехмус.
– Ура-а-а!
Китаев шагнул к Сухорукову, обнял его. А Макарцев задумчиво произнес:
– А вообще-то здорово все это. И только здесь такое по-настоящему понимаешь... Но если, к примеру, отобью я сейчас в Куйбышев родственникам телеграмму: «Поздравьте выполнением пятилетки», – то даже мой высокоидейный тесть решит, что я спятил.
По дороге к буровой стремительно мчалась «Волга». Китаев пригляделся, удивленно сказал:
– Лёвин едет...
Ну, а после, уже в городе, мы долго не могли угомониться, ходили из дома в дом, то обрастая новыми людьми, то теряя своих спутников, побывали у Вавилина, отдали должное его коллекции значков, навестили Метрусенко, умяли гору жареных карасей да еще пирог с нельмой не пощадили, зашли к Мовтяненко, поглядели захватывающий дух фильм про хантыйскую охоту на медведя – режиссером, оператором и продюсером фильма был Толя Мовтяненко, а сценаристом, актером и каскадером Федя Метрусенко, долго провожали Лёвина и еще дольше Китаева, хотя все было рядом, потом вместе с Лехмусом и Богенчуком, которого, мы, конечно же, разыскали, хотя было это не так уж просто, приперлись на ночь глядя к Макарцеву; жене Макарцева Геле, по-моему, это не очень понравилось, а мраморную догиню Альму возмутило до крайности; Богенчук сказал ей:







