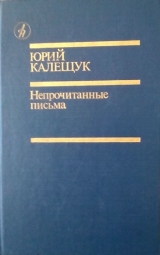
Текст книги "Непрочитанные письма"
Автор книги: Юрий Калещук
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 41 страниц)
– Тысяча семьсот восемьдесят пять метров тридцать пять сантиметров.
– Тысяча семьсот восемьдесят пять метров и тридцать пять сантиметров, – серьезно повторяет Морозов. – Вахту принял. Точка.
Обложившись рюкзаками и тесно прижавшись друг к другу, мы сидим в темном чреве вездехода, а он мчится, раскачиваясь, по снежной целине. «Подгоняемый нежным пассатом, клипер нес свою парусину и бесшумно скользил по Атлантическому океану, узлов по семи». Вот уже тридцать лет вспоминается мне эта школьная фраза из Станюковича, и каждый раз я открываю в ней необъятность пространства и тайну движения. Час назад мы собирались на вахту, но пришел Володя Шиков и, стараясь казаться равнодушно-веселым, сообщил: самолет вышел из Тюмени, нашей вахте пора лететь на отгулы – вездеход ждет нас. Калязину он сказал, чтобы тот тоже собирался: отставший от своей вахты бурильщик Гена Ослин наконец-то объявился на «горке». Солдатик молча и безучастно наблюдал за нашей предотъездной суматохой, а Гриша строго заметил: «Ты чего сидишь? Ты же в нашей вахте. А мы всегда все вместе. Понял, да?» И Солдатик бросился переодеваться. Все было так поспешно и буднично, что даже сейчас мы молчим в этом зыбком грохочущем мраке, и только огоньки раскуриваемых сигарет на мгновение обозначают лица. Я чувствую рядом чужие спины и плечи. Хотя нет, не чужие – и теперь я знаю это наверняка.
Мне всегда везло.
Лет двадцать назад я услышал о том, что на целине открылась молодежная газета, и пошел брать билет на поезд Рига – Москва – Целиноград. В Москве я встретил редактора этой новой газеты, и тот, улыбаясь своей знаменитой улыбкой, которая впоследствии свела с ума сотрудниц провинциальной газеты, московского журнала и двух центральных издательств, доходчиво объяснил, что штаты заполнены, вакансий нет и ехать мне незачем. В Целинограде мы встретились снова, и в конце концов я был зачислен в редакцию газеты «Молодой целинник» на должность истопника. Это было неслыханное везение: двое моих коллег, приехавших раньше, делили ставку машинистки. Наш бедняга бухгалтер – каково ему было! Его бросало в дрожь, когда он, отсчитав деньги на командировочные расходы, подшивал в дело приказ: «Командировать машиниста Чернова Ю. в г.г. Кустанай, Рудный для сбора материала... Командировать машиниста Розенштейна Г. в Атбасарский район... Командировать истопника Калещука Ю. в г. Аркалык...» Газеты нашей давно уже нет, но каждый год 13 марта, в день рождения «Молодого целинника», мы собираемся вместе, поем старые песни и вспоминаем дороги, на которых взрослели и без которых мы были бы совсем другими.
После целины я собрался в море, на траулере, приписанном к Клайпедской базе экспедиционного сельдяного лова. Прошел медкомиссию, безуспешно пытаясь обмануть окулиста, получил санкнижку моряка, на одной из страниц которой было жирно подчеркнуто: левый глаз: – 0,2, правый: – 0,3, а на обложке поставлен безнадежный штамп: «Годен только на должность камбузника». Проще говоря, уборка судовых помещений и чистка картошки на теплом и сухом в любую погоду камбузе. Мне, разумеется, хотелось в палубную команду, где настоящее дело и настоящий ветер, а камбуз...
Что ж, камбуз, так камбуз.
И опять повезло: добродушный толстяк, ходивший в предыдущий рейс камбузником, а теперь попавший на палубу, робко спросил, не соглашусь ли я поменяться. Еще бы не согласиться! Северное море и Норвежское, Шетландские острова – «подгоняемый нежным пассатом, клипер нес свою парусину и бесшумно скользил по Атлантическому океану...»! Лишь при подходе на разгрузку к плавбазам, если выпадала моя очередь нести рулевую вахту, старпом безжалостно гнал меня из рубки, объясняя это гуманными соображениями: «Так ведь эти, на базах, увидят рулевого в очках и тронутся от изумления...» Но к базам мы подходили не часто. Пять или шесть раз за рейс.
Мне и дальше везло. Повезло и здесь. Повезло, что я встретил этих людей и сейчас сижу рядом с ними, чувствуя их плечи и спины.
Вездеход сбавил скорость, недовольно крутанул носом и совсем остановился.
– Неужто приехали? – удивленно спрашивает Вовка Макаров.
– Не должна еще быть «горка», – отвечает Калязин. – «Горка» еще быть не должна.
Гриша откидывает заледенелую дверь.
– Какая-то буровая...
– Восьмой номер, – поясняет водитель. – Вахту испытателей заберем отсюда.
Солнечный морозный день. К вездеходу неторопливо идут усталые люди. Один из них, укутанный шарфом так, что только глаза видны, останавливается рядом и спрашивает:
– Не узнаешь, земляк?
– Годжа! Откуда ты здесь, Годжа? Ласточки давно улетели...
– Так то ласточки. А мы испытания заканчивали.
– Газ?
– Газ.
– А как же Баку? Отпуск?
– Вот теперь и в отпуск пойду, ага.
– Все сели? – спрашивает водитель. – Поехали. А то улетят без вас самолеты...
– Без нас не улетят...
Взлетная полоса – песчаная насыпь вдоль берега моря, в котором нарождающийся молодой лед соседствует с неумирающими глыбами вечных полярных странников. Дымят трубами запоздалые пароходы. Прямо – силуэт десятой буровой. Слева – тринадцатая. Направо, если бы можно было увидеть, – седьмая.
Тишина. Пустынна взлетная полоса.
– В футбол сыграем, Годжа?
– Сыграем, ага.
Подбегает Норд, деловито обнюхивает рюкзаки. Неподалеку держится еще один пес, черный, патлатый, коротконогий.
– Да это же Ева! – кричит Годжа. – Ева, ага.
– Ничего вымахала...
Ева вежливо тявкает, но Норд строго смотрит на нее, и она умолкает. Норд застывает, настораживая уши. И, внезапно сорвавшись с места, огромными скачками несется к дальнему концу взлетной полосы; Ева поспешает за ним.
– Борт идет!
«Аннушка» катит по полосе. Наверное, кто-то сейчас смотрит в блистер и говорит, облегченно вздыхая: «Вот мы и дома». Сопровождая крылатую машину, восторженно лая, мчатся Норд с Евой – все, как было уже когда-то.
– Молодец, Норд! Взял Еву в науку.
Из самолета показались люди, одетые довольно легкомысленно для семьдесят второй параллели. Они торопятся в тепло аэропортовского балка. Впереди, скользя на утоптанной тропинке и неуклюже размахивая руками, бежит человек в громоздком кожаном пальто и кожаной шляпе с маленькими полями.
– Я сразу домой, – мечтательно говорит Калязин. – Сыны меня ждут. Ждут сыны, ждут...
– Я, конечно, пару дней погуляю, ага, – рассуждает Годжа. – Ну, расчет получу, то да это. А потом – в Баку. Ты был когда-нибудь в Баку, земляк? – спрашивает он у Солдатика.
– Не был.
– Зря. Ты в Баку обязательно приезжай, ага.
И возвращается все, что должно возвращаться, все «после» и все «потом».
– Ты как полетишь? – спрашивает Гриша у Годжи. – Через Куйбышев? Через Москву?
– Можно – через Куйбышев. А можно и через Москву.
– Я тоже думаю слетать, – говорит Гриша. – А что? Неделя все-таки. Успею. Дочку надо повидать.
– Дочку – это хорошо, – говорит Калязин.
– И виноград, между прочим, поспел. Вино молодое... Может, со мной, Годжа, полетишь? В гости заедешь...
– Можно и с тобой, – легко соглашается Годжа. – Только сначала в Баку, ага? Все-таки – два года дома не был.
– Я тоже – два года...
Домой. Дом. Дома...
– Надо, чтоб меня кто-нибудь на харасавэйский рейс записал, – озабоченно говорит Гриша. – Ну, обратно когда полетим. Чтоб заранее сделать...
– Да я запишу, – говорит Калязин. – Пойду сам записываться – и тебя запишу.
– Представить страшно, мне тепе-е-ерь, – дурным голосом поет Годжа, – что я не в ту открыл бы две-е-ерь...
– Не ту.
– Не в ту, ага.
В самолете холодно. Ледяной озноб от дюралевых скамеек пронизывает до лопаток. Вовка Макаров, пошарив на полу, подтаскивает чей-то рюкзак и утверждается на нем.
– Догадливый паренек.
– А то.
– Ничего, сейчас в Каменном погреемся, – подмигивает Калязин.
– На мою долю оставьте, – говорит Мишаня, заглядывая в салон. – Вот и вся компания в сборе.
– Летишь с нами?
– Не, я вам ручкой сделаю. – Повернувшись, он кричит кому-то: – Да сейчас я, сейчас! – Улыбается: – Счастливо, вам, мужики.
Он топчется в дверях, его зовут, он отмахивается, балагурит, ругается, хохочет.
– Ну, вот и все. Пойду, пожалуй. Да, – вдруг останавливается он, – Панов прилетел. Видали?
– Видели, – говорит Гриша. – Голубь наш ненаглядный.
– Говорит, уезжал – нормально все было. А как Шиков на буровую приехал – сразу авария за аварией. И обрыв инструмента, и прихват, и пятое, и десятое. Сегодня, говорит, собрание на «горке» – так он всем там покажет...
Ну, вот и Панов появился, замыкая сюжет. Вполне логичная концовка.
– Что-то не летим долго, – подает голос Солдатик. – Может, летуны заснули? Или погоды нет в Каменном...
– Помолчи, – советует Вовка Макаров.
Гриша, присев на корточки, роется в вещах, нетерпеливо отбрасывая один мешок за другим. Добирается до Макарова, выдергивает из-под него линялый рюкзак.
– На мой, что ли, не мог сесть? – обиженно говорит Вовка Макаров. – Какая разница?
Гриша бросает рюкзак в снег и сам прыгает следом.
– Куда ты?
Медленно разворачивается ГАЗ-66 с крытым кузовом, кося загоревшимися подфарниками. Поскрипывает снег. К самолету неторопливо шагают пилоты. Волна за волной, смывая следы, накатывается на пологий берег холодное море.
– Нетушки, – говорит Гриша, перекидывая рюкзак через плечо. – Нетушки, – повторяет он, продолжая разговаривать сам с собою. – На это я не записывался. Э-ге-гей! – машет он вслед отъезжающей машине. – Э-гей! Шикова я одного не оставлю. Тут уж ты, Панов, не рассчитывай. Понял? – решительно выкрикивает он. – Понял, да?

ПРЕДПОЛАГАЕМ ЖИТЬ
ПРОЛОГ. СЛОВА
Давно мне хотелось узнать, куда исчезают наши несостоявшиеся, наши несбывшиеся мечты – да полно: исчезают ли они совсем? или, быть может, томительно замирают в низинах и распадках души, как застаивается ночной туман в густой чаще овражного подлеска, а если все-таки исчезают, то не превращаются ли они, тайком вернувшись, в едкую кислоту наивного и горького всезнания, когда возможно всего лишь возможное, и близка только близкая, краткая дорога и ничей «мгновенный взор из-под платка» уже не затронет твое охолоделое сердце, и куцая мудрость рассудочных решений и смиренная половинчатость поступков становится единственным мерилом подлинного существования? давно мне хотелось узнать, что заставляет спустя десятилетия вспоминать обыденные подробности позабытых, ставших слитными дней, – в том ли дело, что в них мы ищем объяснение каждому сегодняшнему часу, или это неосознаваемая потребность памяти, для которой губительна любая прерывность, любой пробел бытия – разве так не бывало, что краткий миг беспамятства рушил ваши надежды или искажал представления – о человеке ли, о предмете, о планах? давно мне хотелось написать о том, как мы, сами того не подозревая, повседневно зависим от когдатошнего осеннего рассвета над рекою Непрядвой, от вечной пушкинской строки, от незатейливой переклички едва народившихся птах, от мимолетного взгляда друга, – и где бы ты ни был, в чем бы ни состояла твоя забота или твоя печаль, был ли ты счастлив или мучался беспокойством, все остается с тобою и в тебе, и не существует несбыточного – «Ну что ж? Одной заботой боле – одной слезой река шумней», – есть только несбывшееся, но это значит всего лишь, что еще не наступил час...
1– Тогда и не то бывало, – сказал Вавилин.
– В шестьдесят девятом?
– Ну.
Они только что приехали на буровую и переодевались в сушилке, готовясь к вахте. Юсупов, правда, уже был одет, он всегда одевался по-военному быстро, но Кильдеев таращил глаза на Вавилина, суетливо дергался а никак не мог попасть ногой в сапог.
Хотя спешить им было некуда.
Сентябрьское утро едва разгорелось и еще не решило для себя, каким быть дню; над чахлым лесом и над бетонной дорогой светило солнце, по озеру молотил град; из бурых вод неспокойного озера поднималась зеленая вышка, нездешняя, непохожая на здешние, ядовито-зеленая, словно всплыла она из глубин болота и тина не успела высохнуть, поблекнуть. Новый куст строили на искусственном острове посреди Самотлора, в центре озера, над куполом месторождения. «А коль над куполом, – подумал Вавилин, – то все газовые шапки наши. Все до единой. Да-а...» Но вслух сказал не об этом:
– Однажды неделю мы не могли смену дождаться. Все продукты извели, клюкву окрест выели подчистую. А вертолет не летит. И тогда Заки Ахмадишин...
– Это какой Ахмадишин? – спросил Юсупов. – Начальник ПТО, что ли?..
– Ну.
– Разве он был здесь тогда?
– Ахмадишин? Он всегда был. О нем даже песня есть.
– И ты, Саня, тоже всегда был? – улыбнулся Юсупов.
– Залез Ахмадишин на вышку, – продолжал Вавилин, – компас вытащил, карту. Маршрут наметил, как до Вартовска добираться. Пошли по маршруту, потом без маршрута. Ледок уже кое-как намечался, так от него только треск стоял. В сплошной каше ползли – по колено, по пояс, по грудь...
– И долго шли?
– В час дня отправились, а в шесть утра я уже домой стучал. Долго стучал: жена не открывает, не верит, что это я, – знает, что вертолета не было. Ну, а я просто рассвирепел: открывай, кричу, – вроде бы громко кричу, а сам себя еле слышу. Открыла-таки. Раздеваюсь, все хрустит, штаны в угол бросил – стоят. Потом подтаяли, осели. А меня колотун трясет.
– Надо было принять...
– Ну! – воскликнул Вавилин с такой неподдельной, незажившей обидой, что все расхохотались.
Даже бурильщик Гечь, степенный носатый мужик, который стоял, уткнувшись в геолого-технический наряд, и до сих пор не проронил ни слова, усмехнулся. Но усмешка тут же сползла, стаяла с его лица. Не нравился ему этот наряд. Талицкая свита ему не нравилась. Сеноман ему не нравился.
– Так-то оно лучше, ребята, – сказал Вавилин и хитровато ухмыльнулся. – А то закисли вы ни с того ни с сего. Вышкарей нет? Будут. Китаев приедет, капитальный разгон им устроит. Забегают. Все ж таки Васильич – это Васильич. Уж если и повезло нам в чем – так это с бурмастером. Разве нет?
– Напоремся мы на глазок, Саня, – прошептал Гечь, словно боялся, что его могут услышать там, в газоносных пластах сеномана и талицкой свиты. – Чувствую, что напоремся...
– Да что ты, Палыч, – возразил Вавилин. Хотя и сам думал о том же.
– Точно говорю. Ты только погляди, что творится в талицкой свите.
– Задавим раствором, – уверенно произнес Юсупов.
– Задавим... – хмыкнул Гечь. – Или он нас задавит.
Гечь не любил неизвестности, не чтил торопкость; ничего он не мог делать кое-как, на глазок да наспех, душе его были милы основательность, солидность. Он знал, что вахта ворчит, мается, рвется в бурение, ревниво подсчитывает чужие метры, – и все же был убежден: рано, пускай еще пообвыкнут. Его и в буровом мастере порою пугал азарт, стремительность решений, жажда скорости, но тут Гечь был бессилен что-либо изменить, разве что иногда потихоньку пенял Китаеву да у себя в вахте свою линию гнул.
– Так что же ты хочешь, Палыч? – спросил Вавилин.
– Другой бы куст. Отработанный, отлаженный. Чтоб и нам хорошо, и Китаеву спокойно.
– Нужно ему спокойствие!
– Спокойствие всем нужно, Саня.
– Пошли! – сказал Юсупов.
Ветер, никогда не унимавшийся над озером, без устали трепал экспериментальную буровую. Вздрагивал под ногами экспериментальный остров. Громыхал, трещал, жалобно поскрипывал экспериментальный пластик бурукрытия; одну панель вырвало «с мясом», и она долго летала над желобами, пока очередной порыв не швырнул ее в озеро. И даже экспериментальная дорога, перерезавшая Самотлор, казалось, покачивалась в темно-бурых волнах.
– Однако... – поежился Кильдеев.
– Нагнал на тебя Гечь страха! – засмеялся Вавилин.
– Психует старикан, – проговорил Юсупов. – Психует... – Гечю было сорок шесть лет, но Юсупов с безмятежной жестокостью молодости и впрямь думал о бурильщике как о глубоком старике, принимая спокойную медлительность Гечя за несомненный признак психического расстройства. – Ничего, вот начнем здесь бурить...
– Все ж таки купол, Рома, – примирительно произнес Кильдеев.
– Ну и хорошо, что купол. Никто здесь до нас не бурил. А мы будем!
– Машина идет, – присмотревшись к дороге, сказал Кильдеев. – Наверное, Китаев едет.
Я стоял, прислонившись к пустым стеллажам, вяло наблюдал, как Лехмус, обвешав себя камерами различного вида и назначения, карабкается по крутому трапу, ведущему к самой макушке буровой вышки. Каждое утро еще затемно мы спешили на автостанцию и вместе с вахтой приезжали на буровую; однако все эти дни бригада отчаянно и безуспешно пыталась запустить новую установку – постоянно чего-то не хватало, что-то не ладилось, что-то отказывало. Если бы не та, летняя авария, все выглядело бы вполне обыденно, однако она была, случилась, и люди нетерпеливо рвались вперед, стремясь наверстать потерянное, однако каждый день и час промедления, любая новая задержка или неувязка приумножали печаль, горечь, раздражение. Многих из них мы с Лехмусом знали уже достаточно близко, с иными встречались не только на буровой, но в этот приезд решительно не складывались ни дела, ни беседы. Китаев попросту нас избегал, а если случалось обменяться словом на бегу, то проку от таких обменов было немного: Макарцев, который был способен часами толковать о сложностях геологического порядка и инженерного свойства, замыкался, едва я пробовал перевести разговор на не ясную мне природу организационных или управленческих просчетов; Сухоруков вообще не отличался красноречием; Метрусенко, никогда не любивший суеты подготовительных работ, отводил душу на рыбалке; Сериков, еще один бурильщик бригады, в чью вахту и произошла та злосчастная авария, тоже не в пример себе был немногословен – вообще-то он, невзрачный на вид, отличался редким тщеславием и потому любил поговорить, что называется, о времени и о себе...
Лехмус добрался до площадки верхового и что-то орал оттуда, размахивая руками, как матрос-сигнальщик; ветер срывал его слова и отбрасывал в озеро – туда же, где бултыхалась в волнах зеленая панель бурукрытия. На остров вкатил красно-желтый агрегат геофизиков, из него выпрыгнули Китаев и Макарцев, направившись тотчас в разные стороны – один в культ-будку, другой к желобам растворной системы, на которые, честно говоря, не стоило и смотреть, чтобы поберечь нервы, – все стыки, развязки, уголки, переходы только лишь предстояло сварить. Я побрел в насосный сарай. Здесь тоже было довольно холодно, но Саня Вавилин с Пашей Макаровым этого, казалось, не замечали. Раздевшись по пояс, они ворочали немыслимые глыбы металла, уже приобретшие разумные формы, но пока лишенные жизни. Детали насосов надобно было очистить от грязи и накипи и соединить друг с другом так, чтобы они смогли дышать.
– Порядок, – сказал Вавилин, бросая кувалду. – Теперь маленько отравимся.
Укрывшись в закутке под желобами, мы затянулись сырыми кислыми сигаретами. Появился Лехмус. Щеки у него были багровые, борода заиндевела, глаза слезились, однако выражение лица невероятно довольное. Не иначе как подходящий кадр он себе вытопал, с пыхтением поднимаясь по шаткому трапу.
– Ну и ветер сегодня, – сипло произнес он.
– Да здесь всегда ветры свирепые, – отозвался Вавилин. – Особенно зимой.
– Ничего, – пробовал утешить его Лехмус. – Зато комара не будет...
– Комара? – изумился Вавилин. – Так зимой комар нас это... не беспокоят.
– Да пока ж только осень, – беспечно сказал Лехмус. А, – мотнул головой Вавилин. – Разве это осень?
– Саня, – спросил я. – Надолго еще осталось здесь подготовительных работ? Дня через два забуритесь, нет?
– Через два-а, – протянул Вавилин. – Навряд ли.
Он умолк, уткнувшись взором в две фигурки, которые стояли рядом с культбудкой и возбужденно жестикулировали. Появилась на острове еще одна машина, непривычно нарядный «уазик». До культбудки от нас было далеко, но иные порывы ветра доносили обрывки слов, однако чаще звуки сливались в высокую свистящую ноту: «И-и-и-и-и!..»
– Крикотерапия, – хмыкнул Вавилин. И пояснил: – Покричат Китаев с Усольцевым друг на друга – и вроде обоим им легче становится. – Он старательно затоптал окурок тяжелым разбитым сапогом, добавил: – А забуримся мы не раньше как через неделю... Вот так-то. – И бросил напарнику: – Пошли, Паша.
Горечью еще не подмерзшей рябины и бензиновой сладковатостью остывающих двигателей отдавал этот ветер. Низко над озером летел вертолет, но гул его не был слышен, оставаясь там, в близком оловянном небе. Громыхая большими, не по размеру, сапогами, прошел по эстакаде Макарцев; Юсупов с Кильдеевым готовили ствол для квадрата – Кильдеев вырезал газорезкой аккуратные треугольники на конце трубы. Юсупов загибал кувалдой теплые стальные лепестки; Китаев с Усольцевым уселись в «уазик» и рванули неведомо куда; неспешно шагал от столовой к своей машине водитель каротажного агрегата – видимо, тоже собирался уезжать: геофизики понадобятся здесь еще не скоро.
– Дон Альберто, – сказал я Лехмусу. – Давай-ка мы отсюда смотаемся. Хуже нет, чем у людей над душой стоять. Помочь им мы ничем не можем – так уж по крайней мере не будем мешать.
Лехмус долго молчал, потом произнес:
– Папа-Лех согласен. – Иногда в моем друге проявлялась трогательная потребность говорить о себе в третьем лице. – Но дальше-то что? Улетать?
– Да нет. Переждем неделю, займемся пока чем-нибудь другим...
– Чем?
– Поехали в редакцию. Подкинут нам идейку, уверен.
Впереди шел коренастый человек, тащил, часто меняя руку, ведро, над которым поднимался густой пар, и оживленно беседовал сам с собою:
– Ну надо же – до чего дошли! Такой бульон выливать, а? Руки-ноги за это отрывать надо. Вместе с головой.
– На кого ты так расшумелся, Ваня? – спросил я, когда мы догнали человека с ведром и помогли ему открыть тяжелую дверь с табличкой «Нижневартовская городская газета «Ленинское знамя».
Ваня Ясько, фоторепортер городской газеты, поставил на порог увесистое ведро, вытер пот с высокого лба и сердито произнес, отдышавшись:
– Да эти... из «Белоснежки». Представляете, до чего додумались? Сварили кур на продажу – ну, через кулинарию, – а бульон вылить решили! Надо же, а? Хорошо, я рядом случился... – И без перехода зачастил: – А вы вовремя угодили! Я сегодня как раз отвальную даю! Пошли!
– Какую отвальную? – спросил Лехмус.
– Все, уезжаю. К себе в Донецк возвращаюсь.
– Да ты уже возвращался однажды, – вспомнил я. – И отвальную давал. Ты мне все еще норовил проявитель вместо минералки налить.
– Закрепитель, – поправил Лехмус.
– Какая разница! Хорошо, Лехмус, ты тогда меня спас. Все ж таки – профессионал.
– Не, на этот раз точно, – упорствовал Ясько.
За разговорами мы дошли до фотолаборатории, узенького пенала, стараниями Вани Ясько приспособленного для съемки портретов, проявления пленок, печатания снимков и ряда других нужд; раньше здесь, кажется, был сортир, теперь – фотосалон, мастерская, а еще и банкетный зал «для узкого круга». Здесь, насколько я понял, и намечалась очередная «отвальная» Вани. В полумраке лаборатории я заметил Федю Богенчука и молоденького Володю Чижова, Фединого практиканта – его щеки светились таким победительным алым огнем здоровья, что Лехмус мог бы безбоязненно перезаряжать своя камеры.
– Э-хей! – приветствовал Богенчук. – Чингачгук Большой Змей! Лехмус Обской-Ямской!
С Федором я знаком подольше, чем с другими. Разве что с Лехмусом непутевая журналистская судьба столкнула нас в том же 1964-м, однако подружились мы позднее. Прекрасной осенью 1964 года я попал на Сахалин, прилетел в Оху и зашел в редакцию местной газеты, чтобы расспросить коллег о подробностях одной романтической истории, о которой узнал случайно на юге острова. Редактор, выслушав меня, сразу же заключил: «Вам нужен Богенчук. Про нефть и нефтяников он знает все», – и привел меня в крохотный кабинетик, убогое пространство которого занимал письменный стол. На низком подоконнике сидел вихрастый паренек, говорил по двум телефонам одновременно да еще быстро писал на узких полосках срыва. Когда телефонные трубки были водружены на место, полоски бумаги отправлены в машбюро, паренек протянул руку, сказал: «Богенчук» – и тут же воскликнул с непонятной мне торжественностью в голосе: «Видишь этот стол? На нем Глеб Горышин спал. То-то». Когда я заговорил с ним о деле, он тут же перебил меня и схватил телефонную трубку: «Все ясно. Тебе надо на Паромай. Сейчас в клубе идет пленум райкома партии. Баранов, парторг промысла, здесь, я с ним свяжусь – он тебя и захватит в Мухто, познакомит с Белоусом». Через час я уже ехал по узкой горбатой дороге, светила полная луна, но когда машина ныряла в распадок, нас окутывал густой туман, потом из-за бугра вылетела встречная машина, ослепила нас фарами, мы метнулись вправо, встречная – влево, и оказались в кюветах по разные стороны дороги, сначала дружно обматерили друг друга, затем дружно помогли друг другу выкарабкаться на колею и отправились каждый своим путем... От той поездки в голове у меня осталась пестрая мешанина впечатлений и стойкое ощущение собственной профессиональной несостоятельности: впечатления были разрозненны, прихотливы, бессвязны, старательно записанные диалоги пусты и невнятны, суть дела осталась непостижима, романтический флер легенды, услышанной на юге острова, оказался размыт жесткой прозой производственно-технологического конфликта. Через две недели я вернулся в Оху, уже начинался сезон метелей, и я застрял в этом городке на несколько дней; самолеты летали редко и робко. Эти дни мы проводили вместе с Богенчуком: он был всего на год старше меня по возрасту, а по знаниям превосходил недобрый десяток лет; и еще жила в нем неистребимая убежденность, что ты можешь, должен мочь, уметь, а потому обязан сделать все, что зависит от тебя на этой земле. И последствии я еще не раз бывал на Сахалине, выслушал о Богенчуке множество мифов и легенд, одна из которых повествовала о героическом рейде охинских газетчиков, во главе с Федей, на мотоциклах к крайней северной точке острова, мысу Елизаветы; мотоциклы, правда, пришлось бросить по дороге, потому что большую часть пути надо было пробираться по узкой тропе, ограниченной скалами и прибоем, – но самого Федора больше я не встречал, и никто не мог объяснить мне толком, куда он исчез... Оказавшись в феврале 1973-го в Нижневартовске, я забрел в редакцию «Ленинского знамени» полистать подшивку да потолковать со знающими людьми и неожиданно наткнулся в одном из газетных номеров на репортаж, подписанный «Ф. Богенчук». «А как зовут этого Эф Богенчука? – спросил я. – Феликс? Феофан? Федор?» – «Федор», – ответили мне. «А он случайно на Сахалине не работал?» – «Да». – «Где же он сейчас?» – «В командировке. Завтра должен прилететь». И назавтра он прилетел – это был прежний Федя Богенчук, с изрядно поредевшей шевелюрой, но с той же неугомонностью в замыслах и поступках. В каждый приезд мы теперь непременно встречались. У Федора была удивительная черта – про здешние дела он знал все и считал своим долгом передать другим свое знание.
– Как дела на озерном? – спросил у меня Богенчук.
– A-а... Кризис жанра.
И объяснил, что мы с Лехмусом решили пока заняться чем-нибудь другим.
– Ну и правильно, – одобрил Богенчук. – Нечего людям в затылок дышать.
– Тогда вот что, – вмешался в разговор Ваня Ясько. – Вам надо к дорожникам отправляться.
– Ладно тебе, – сказал Богенчук. – Ты, Ванечка, у нас отрезанный ломоть. Потому только про дорогу да про дорожников думаешь.
– Может, им на Аган податься? – неуверенно предложил Чижов.
– Может быть... – сказал Богенчук и хитровато улыбнулся. – Вообще-то есть у меня одна думка...
– Это про Корлики, что ли? – спросил Лехмус, и все рассмеялись.
–Был тут один мелодраматический сюжет, когда Федя и еще двое его соратников заморочили всем головы, объясняя, что едут на три дня в маленький поселок Корлики – полосу делать или что-то в атом роде. Да вот незадача: одного из командированных его собственная жена неожиданно встретила в собственном подъезде, ибо «Корлики» в тот раз помещались двумя этажами ниже квартиры бедолаги «командированного».
– Геть, – сказал Богенчук. – Ишь, развеселились, бисовы дети! Вы мне лучше вот что скажите: про вертолетчика Львова слышали что-нибудь?
– Ага, он первым в Вартовске «восьмерку» освоил, – подхватил Ясько. – И еще была тут с ним история...
– Ладно, – оборвал Богенчук. – Про историю Алик Львов сам им расскажет... Мне тут еще такое дело кажется важным. Вертолет Львова работает на обустройстве только что открытых месторождений севернее Самотлора. Аган, Варь-Еган, Северный Варь-Еган... Короче говоря, на завтрашний день работает. Занятно, как он, этот завтрашний день, складывается...
– Хорошо сегодня полетали, а? – сказал второй пилот.
– Но пока не сели, – заметил Львов.
– Да что случится? – беспечно отозвался второй. – Пять минут лёта до Мегиона...
– Вот сядем в Мегионе, – проворчал Львов, – а еще лучше дома, тогда и поговорим.
Он как в воду глядел.
Был конец долгого дня, вертолет возвращался с Агана. Лохматый паренек дремал, обняв долото, завернутое в драный ватник. Лехмус, удовлетворенно сопя, перебирал в кофре отснятые пленки. Сели в Мегионе. Паренек поднял голову, поглядел в блистер и заканючил:
– Не на ту площадку сели... Отсюда четыре кэмэ переться... Ты уж, командир, сделай как надо...
– Ладно, – кротко ответил Львов.
Вертолет стал раскручивать винт.
И сразу же запахло паленым.
Паренек схватил долото и лихо спрыгнул вниз. Выглянул бортмеханик, присвистнул и стал доставать складную лестницу.
Метрах в ста от вертолета, стремительно уменьшаясь в размерах, мчался лохматый, высоко задирая длинные ноги и разбрызгивая жидкую грязь, – пудовое долото, которое он держал на плече, ему абсолютно не мешало.
Левый мотор вертолета горел. Львов и бортмеханик тушили его кожанками и с убежденностью отпетых второгодников спорили о причинах пожара. Лехмус стоял в какой-то луже шагах в десяти от вертолета и деловито щелкал затвором камеры...
Минут через пять мы взлетели, а еще через десять зависли над вертолетной площадкой Нижневартовского аэропорта.
Отсюда несколько дней назад начались наши полеты с экипажем Львова.
Мы отправились на север, и вскоре под нами был Самотлор – сверху это знаменитое озеро мы с Лехмусом видели впервые. Ничего примечательного в нем не было, если бы не бетонная дорога, рассекавшая его пополам, да два островка, на одном из которых стояла та самая буровая, экспериментальная буровая китаевской бригады.
– Красиво, – сказал Львов. – И облака в воде...
– А знаешь, какие парни там работают? – спросил Лехмус. – Сейчас вахта Феди Метрусенко. Это очень хороший человек. Хочешь, познакомлю?
И стал отвинчивать барашки блистера, потом просунулся наружу камерой, половиной носа и бородой. Я поглядывал на его занятия с некоторым ужасом, но, определив, что блистер достаточно узок, успокоился. Впервые мы поехали с ним вместе в командировку поздней весной или ранним летом 1972 года. По какой-то причине он застрял в Москве и объявился в Уренгое, когда я уже извелся от ожидания. Однако выговорить ему за опоздание не успел: едва оказавшись на порожке гостиницы, Лехмус начал возбужденно толковать о том, что такой разлив он видит впервые, что это же дикая красотища, что хорошо бы подняться над поселком на вертолете и снять его сверху. Ну да: в ту весну Пур разлился широко, и весь поселок как бы покачивался на плаву. Конечно, наутро мы летали над поселком, Лехмус потребовал открыть дверь МИ-4, и через мгновение мы с бортмехаником держали его за ноги, – сам он уже ни о чем не помнил: целился вниз из своих камер и стрелял, стрелял...







