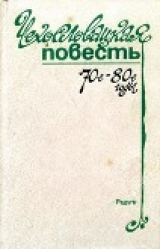
Текст книги "Чехословацкая повесть. 70-е — 80-е годы"
Автор книги: Владо Беднар
Соавторы: Любомир Фельдек,Валя Стиблова,Ян Костргун
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 45 страниц)
Дед растерянно ширкнул носом.
– Куда ж мы его денем? В кухне поставим, что ли?
– Мы построим ему домик. Олин нам поможет.
– А ты представляешь, сколько забот с настоящим конем? – Дед медленно, по частям, поднялся, кривя лицо и прислушиваясь к треску в суставах. – Поди сядь в холодок и карауль, чтоб не прилетели скворцы. Если что – сразу беги за мной в погреб.
Дед ушел, а Еник уголком глаза с уважением посматривал на стоящие наготове жестянки. Запрокинув голову, сворачивая шею, он со страхом высматривал скворцов. Напряжение сморило его, он заснул, даже не заметив когда. Трава была мягкая, а воздух пропитан запахом орехов.
* * *
Дед намазывал бочки льняным маслом и до блеска натирал их фланелью. Все бочки, одну за другой, он аккуратно уложил на подставки, закрепил краны, чтоб случайно не повернуть, и, наклонив голову, внимательно проверил, прочно ли каждая бочка улеглась на свое место.
В погребе он поддерживал больничную чистоту и порядок, это был его принцип. Он скорее напился бы воды прямо из Дыи, чем вина из липких стаканов, из побуревшего, с налетом, ливера или из погреба, где бочки окутаны белой плесенью и где стоит запах уксуса. А встречались ведь и такие погреба, и соответственно этому было в них вино. Истинные виноделы перевелись, и иным ловкачам нынче смешон любой, кто делает вино из винограда. Теперь научились ловчить с разными там эссенциями, растворами и сиропами, с алжирскими винами и бузиной, а главное – сахаром, на сахар легче всего было подловить расчетливых городских покупателей.
Начинал «химичить» папаша, а сын другого, не «балованного» вина уже и не знал. Чем пить такое «вино», дед предпочитал постоять, опершись о забор и любуясь природой. Или покупное! Стоило ему увидеть бутылку вина в витрине, как череп его начинал раскалываться по всем швам. Это вообще было не вино, а разбавленный раствор серы, обладавший одним преимуществом: такое «вино» могло месяцами валяться в магазине самообслуживания, его нещадно жгло солнце, высушивая пробки, а оно тем не менее выглядело сносно хотя бы внешне. Покупное вино! Деда передернуло, он поспешил плеснуть себе из кувшина, запить неприятный привкус во рту.
И тут он услышал скворцов.
Эта проклятая ненасытная братия снова готовилась к пиршеству. Он немного подождал Еника с тревожной вестью, но долго бездействовать было рискованно. Ведь стае хватит пяти минут, чтобы обчистить виноградник догола. После налета скворцов среди листьев остаются сохнуть лишь печально поникшие ошметки ягод.
Дед выбежал из погреба. Енику грезились прекрасные сны, и он улыбался им. Дед понимающе кивнул.
Скворцы молча и с остервенением принялись за дело.
Дед нагнулся, взял консервную банку, поплевал на карбид, прикрыл крышку и чиркнул спичкой; отбросил он ее, лишь когда она обожгла ему пальцы.
Чиркнул второй раз; он стоял, расставив ноги, и беспомощно глядел на спящего Еника. Нет, этого я не сделаю, отдавалось у него в мозгу. Не стану пугать его до полусмерти из-за жалкой горсточки винограда!
В левой руке дед сжимал шипящего черта, а другой ощущал испуганную дрожь невинного и ничего не подозревающего человечка. За мгновенье он вспомнил с десяток историй о детях, испуганных во сне.
Он швырнул жестянку в виноградник, три скворца лениво приподнялись и тут же сели.
Он бегал по рядам, хлопал в ладоши и подпрыгивал, танцуя диковинный танец.
Скворцы снялись, отлетели немножко и с дерзкой алчностью снова ринулись на виноградник, исчезнув среди листьев.
Улетели они вдруг и все разом, как и прилетели. Дед спрятал лицо в ладони, а когда он снова поглядел на свет божий, из ладоней вылился ручеек. Виноградник был похож на безутешную вдову над могилой супруга.
Дед встал на колени возле Еника, погладил его по волосам:
– Вставай… Будем потихоньку собираться.
Еник открыл глаза так резко и были они такие ясные, что у деда закружилась голова.
– Знаешь, что мне снилось?
Дед смущенно поморгал.
– Я летал, а скворцы меня боялись.
– Очень красивый сон, – выдавил из себя дед. Он запер погреб на ключ и на засов и еще дважды проверил, чтоб убедиться, хорошо ли он это сделал.
Они медленно пошли меж рядов. Еник с удивлением остановился. Он оглядел поникшие ошметки гроздьев, просвечивающие в листве. Пальчиками отщипнул забытую виноградину.
– Деда, а где виноград?
Деду трудно было говорить. Сперва он поднял к небу большой палец и героически осклабился:
– Улетел… Скажу тебе, мои золотой, что так мало забот со сбором винограда у меня в жизни еще не было.
Если б перед Еником разверзлась земля, он удивился бы меньше..
– А я спал… А я ничего не видел, – плаксиво протянул он. И вдруг остановился. – Как же я не слышал выстрела?
Дед сокрушенно покачал головой.
– Почему ты меня не разбудил? – Еник зарыдал, размазывая слезы по всему лицу. – Мы прогнали б их… Я палил бы вместе с тобой!
* * *
Не было и восьми, а Еник уже лежал в постели; дед, сгорбившись, сидел у него в ногах. В тишине тикали часы с длинным маятником и тетеревом на золотой тарелке; под стрелками на циферблате красовался за́мок, тоже золотой. Часы тикали упорно, а возле дома ухал сыч.
– Деда, из чего ты будешь делать теперь вино, раз у нас больше нету винограда?
– Не знаю, парень. Из ничего. Просто не будет никакого вина.
Еник жалобно скривился.
– Деда, ты меня любишь?
Дед прерывисто вздохнул.
– Ты и сам знаешь, что люблю, – ответил он без всякого выражения и превозмогая себя. – Чего тебе пришло такое в голову?
– Потому что я-то люблю тебя.
– Я знаю, – продолжал дед таким же бесцветным голосом. Он не мог не думать о винограде, о том, что же теперь делать, и этот разговор стоил ему усилий.
– Откуда ты знаешь, я ведь только сейчас сказал тебе об этом?
Все же дед улыбнулся:
– Так. Знаю, и все.
Еник сосредоточенно нахмурился.
– Олин тоже меня любит… Это сразу понятно, не надо и спрашивать.
– Спи, – шепнул дед.
Еник повернулся на бок и укрылся с головой.
– Спокойной ночи.
Еник высунул из уютного гнездышка руку и помахал деду.
Дед потер глаза. Потом еще раз потер.
* * *
Утром дед сидел во дворе в плетеном кресле-качалке и смотрел на облака. Они терлись, поглаживали друг друга, мягкие, белые, безмятежные, а потом молча расходились, даже не помахав на прощанье. Солнце золотило им макушки и наполняло небесную лазурь теплой прозрачностью.
Лучшей погоды для винограда давно не было, повторял про себя дед с самого рассвета. Он думал об этом, как проснулся, если вообще спал в эту ночь.
Винца будет ему недоставать.
Где-то по самому донышку глаз обжигающими лапками пробежало сожаление. Конечно, ему грустно не из-за пустых бочек, а оттого, что без дела будут стоять пресс, и надраенный короб, и щиток, свежевыкрашенный белой краской, и смазанный гусиным салом винт. Удручала нечаянная ненужность вещей, которые еще существовали, чтобы занять его руки и время, летящее в бесконечность.
Он смотрел на свои руки, лежавшие на коленях, и не знал, что им сказать. Они тихо жаловались, им было жутковато.
Еник играл на улице с Олином. Желтой лопаткой с красной ручкой они разрывали кротовьи холмики возле анютиных глазок и на синей тележке отвозили землю на тропинку к соседу.
Дед аккуратно запер за собой дверь и с упреком наморщил лоб:
– Что это вы вытворяете?
– Мы прогоняем крота. – Еник с важным видом приподнял плечики.
– Кроты вредные, – выпалил Олин.
– Такие же, как я или вы, – проворчал дед. – Ничего-то люди не понимают.
– Ты куда? – поинтересовался Еник.
– Вот. – Дед брезгливо, будто дохлую ворону, приподнял хозяйственную сумку.
– Еня хвалится, что у вас есть пушка.
– Само собой, – осадил дед Олина.
– Я с тобой пойду. – Еник воткнул лопату в яму и повернулся к Олину. – Ну и копай сам, раз не веришь, что у нас есть пушка.
– Не ходи, – заныл Олин. – Если уйдешь, я не буду с тобой водиться.
Еник пренебрежительно фыркнул и взял деда за руку.
– Полчаса не можете дружно поиграть вместе, – проворчал дед. – А врозь пяти минут не выдержите.
Еник поднял к деду серьезное смуглое личико. Брови и волосы за лето у него выгорели добела.
– А у тебя есть товарищ?
Дед даже поперхнулся.
– У меня? – Потом он засмеялся и погладил Еника по волосам. – Как не быть… Только ты этого еще не понимаешь.
– Почему же? – по привычке возразил Еник.
К счастью, сидевшая под акацией собака налетела на черного кота, а от часовни с воем вылетела «скорая помощь», оглядывая дорогу фиолетовым глазом, и деду не пришлось ничего объяснять. Тем более он все равно не знал, что сказать.
* * *
Двор Яхима был загроможден всевозможными винодельческими снастями, сам он расхаживал по двору в синем фартуке, словно заведующий складом.
– Здоро́во, Яхим! – радостно окликнул его дед. – Как живешь?
Ему сразу стало легче от сознания, что земля, как ей и положено, по-прежнему вертится и время не остановилось в своем хлопотном беге, торопясь к сбору винограда.
– Твоими заботами… – недовольно проворчал Яхим. – А здоро́во, так здоро́во.
Яхим частенько бывал зол; с тех пор как его покусала собака, видимо, в крови остались капли ее злобной слюны.
– Что делаешь? – спросил дед, словно приезжий из города.
– Не видишь? – ощетинился Яхим. – Пришло наше время, черт побери, не так, что ли?
У деда даже ладони зачесались при виде золотистых гроздьев, нагих и округлых и совершенно беспомощных.
– Хороший у тебя урожай, – произнес он с трудом.
Яхим опустил в бочку шпагат, плеснул в нее ведро воды и стал раскачивать бочку, поставленную на старую шину.
– А ты как? Слыхал, будто нонешний год ты чуток поторопился со сбором?
Яхимову издевку дед проглотил с покорностью мученика.
– Деда, держи меня крепче, – прошептал Еник.
Дед глянул вниз, нашел Еникову руку и крепко ее сжал. Они держались друг друга.
– Я пришел спросить, – с усилием выжал из себя дед. – Не надо ли чем помочь?
– Помочь? – изумился Яхим. – А чего помогать?
Дед растерянно потоптался на месте.
– Ну там… виноград носить… Или давить прессом…
– Тебе, значит, аккурат хочется давить?.. – Яхим хрипло засмеялся.
– Могу и посуду, инструмент вымыть… Бочки и все такое… Я подумал, если уж мы… – Вместо последнего слова дед лишь кашлянул и пальцем осторожно тронул почерневшее брюхо бочки.
– Не трогай ничего! – сердито закричал Яхим. – Ничего тут у меня не трогай! Еще разобьешь! И вообще… Терпеть не могу, если мешаются под руками, когда я занят делом!
– Тогда знаешь что? – воскликнул дед страдальчески. – Тогда… Тогда… Подавись всем этим!
И, отвернувшись, потащил Еника за собой.
– Иди хоть нарви винограда для малыша, старый дурак! – крикнул вслед им Яхим.
– Хочешь? – спросил дед.
Еник мрачно зыркнул на деда и ничего не ответил, сердито дернув головой.
Лучше было сломать об колено этот чертов ливер, с сердитым сожалением угрызался дед. Жадина ненасытная! Сломал бы я ему ливер, и мы были бы квиты. Потом ему пришло в голову, что он преспокойно может разбить и тот, свой единственный ливер, который без всякой надобности висит в погребе на скобе рядом с кувшином, что некогда выкопал молодой человек с ясным взглядом и горячей головой. Или преспокойно отдать его кому-нибудь, потому что ему самому он пригодится разве что для подсасывания воды из ведра.
* * *
Дед впереди, Еник за ним, шли, не разговаривали. Медленно и будто незнакомые, вошли они в распахнутые кладбищенские ворота. Могучие каштаны встряхивали золотистыми головами, дикий виноград на белой каменной ограде светился багрянцем. Они шли между могилами, у которых давно никто не останавливался, не клал на них рук, не зажигал свечу. Дед не помнил даже имен на памятниках, и бог весть, помнил ли еще кто-нибудь, кого охраняет ангел из желтого песчаника со сломанной веткой. Мимо нескольких могил с пожелтевшей травой, сразу за воротами, люди проходили, не удостаивая их вниманием. Когда все забудут их окончательно, вот тогда они в самом деле совсем умрут, подумал дед. Он остановился, дожидаясь Еника.
На аккуратно разровненном песке тропинки после них оставались следы – большой след и маленький, следы вели к могиле с мраморным крестом и кустом папоротника.
На основании креста сверкала свежая золотая надпись: «Анна Добешова». И рядом было достаточно места, по крайней мере еще для одного имени. Золотые надписи нынче не в моде. Это дед недавно слыхал в трактире. Вот полоумные, мысленно выругался тогда дед. Ополоумел народ, не иначе. И в самом деле – на многих пышных памятниках вокруг, из черного мрамора в виде модной теперь открытой книги, каменщик из соседнего города, мелкорослый мужчина, замазав серой пастой надпись, старательно снимал золото, которое, как предполагалось первоначально, должно было выдержать до скончания света. Возможно, это была та самая паста, какой Губерт шлифовал зеркало, с помощью которого смотрел на звезды.
Земля на могиле продолжала оседать.
Черные трещины выглядели таинственно и пугающе.
Может, они ведут прямо к ней, подумал дед, и она – как знать – видит меня.
– Вот здесь лежит мой товарищ, – сказал дед. – Очень хороший товарищ.
И он молча постоял со шляпой в руке, пока Еник не потянул его за рукав.
Дед виновато улыбнулся. Опустившись на колени, с каким-то странным ощущением стесненности в груди он заровнял трещины. Они оказались не такими глубокими, как со страху почудилось ему сначала. Земля не могла осыпаться и падать на нее, даже если б это еще могло причинить ей боль. Странные мы, странные. Дед мотнул головой. Возле мертвых ходим на цыпочках и с благоговением, а живых обижаем и при этом нередко готовы лопнуть от гордости.
– Я помогу тебе. – Еник встал на колени рядом с дедом и маленькой ладошкой загладил рассыпчатую землю.
* * *
Дед тихонько и осторожно прикрыл за собой стеклянные двери магазина самообслуживания. В этом новом здании, похожем на аквариум, что торчало посреди деревенской площади бородавкой на носу, деду все было противно. Но чего он прямо-таки терпеть не мог, так это стеклянные двери. Деду казалось, что они издеваются над ним. То они вырывались из рук, как вспугнутые кони, то, вроде почти остановившись, с такой силой ударяли по серебристому косяку, что звенела вся стеклянная стена длиной двадцать метров. Обошлись они не в одну сотню и уже неоднократно разбивались и высыпались. И всегда кто-то был виноват. Самозакрывающиеся двери. Ерунда какая-то. И дед предпочитал закрывать их собственными руками.
Сначала двери дернули его, как пара хорошо отдохнувших жеребцов, затем он принялся толкать их, как увязшую в грязи телегу, и наконец уперся пятками, будто сдерживал воз, катившийся с пригорка. Что и говорить – двадцатое столетие.
Дед недовольно поровнял рогалики, лежавшие в корзине на растопыренной морковной ботве. Он сохранял тот же неустрашимый вид, с каким вошел в магазин; имея другое расположение морщин на лице, он, вероятно, и не смог бы делать покупки. Прохаживаясь между полками и укладывая в корзину лапшу, сыр с копченым мясом и кнедлики в порошке – все по записке, как слабоумный, – дед испытывал ощущение, что женщины в магазине готовы глаза растерять при этом зрелище. К сегодняшнему дню он, правда, преуспел настолько, что обходился без записки, поняв, что покупки его повторяются. Но, придя сюда впервые, он долго топтался у входа, пока не уломал одну бабку взять ему все необходимое. Сам он при этом стоял поодаль, прикидываясь, будто его и нет вовсе. На другой день несколько хозяек, завидев деда, стали подталкивать друг друга локтями и хихикать, потешаясь его беспомощностью. Он проследовал мимо них, словно выпал из самолета. С тех пор дед держался в магазине всегда одинаково – как во время первой мировой войны, покидая окопы перед атакой.
Оглянувшись на внука, дед зашагал решительнее. Еник упрямо клонил голову, а возле него сидела на корточках девица Кширова. Одежда ее производила впечатление мыльного пузыря, который вот-вот лопнет. Нельзя сказать, что деда подобное зрелище чем-то не устраивало, но ему показался подозрительным интерес девицы к Енику. Она настолько была поглощена намерением во что бы то ни стало поднять голову Еника с помощью ласковых слов, что вся порозовела и присутствия деда не заметила. Через вырез ее платья можно было сосчитать камешки на дороге, если бы дед выдержал смотреть туда дольше полсекунды. Неудивительно, что сын его терял голову. От такого потеряешь. Терпеть подобное испытание ежедневно и оставаться каменным невыносимо и до того изматывает, что человек поневоле размякнет. А женщинам двадцатого столетия только того и нужно, они по большей части не выносят одиночества. Природе же на все наплевать. Сватовство не сватовство, счастливый брак или траур – кровь-то все равно горячая.
Дед встал столбом и задумался, возле носа у него защекотало.
– Возьми, – шептала, как липа в цвету, девица Кширова. – Или ты, может, не любишь шоколад?
Еник – ни звука.
– Ну как тебе не стыдно… Такой большой…
Шоколад! Ни с того ни с сего – и шоколад! Дед вспомнил ту стопку водки и слезу, странную слезу на ее щеке – сине-зеленую. Конечно же, просто так, за здорово живешь, она не подносила б ему выпивку!
– Янко, пошли! – скомандовал дед.
Девица Кширова изумленно вскочила, испуганная и растерянная.
– Извините… Я вот…
– Дорогая девушка, – сладко проворчал дед, – вы уж как-нибудь оставьте Янко в покое, хоть на нем не испытывайте свои чары… Будьте так добры, ладно?!
– Что вы… Уж не думаете ли вы?.. Я понятия не имела, что…
Девица Кширова растрогала бы, наверное, и прокурора. Но не деда.
– До свиданья!
Кширова резко повернулась, вырыв каблучком ямку в твердой земле. И понеслась, легкая, как зонтик одуванчика, и еще похожая на тюльпан, освещенный полуденным солнцем, когда дует ветерок настолько невесомый, что даже не ощущаешь его на лице.
– Дед… а дед… Можно я съем шоколад?
– Шоколад? – изумился дед. – Какой шоколад? Когда ж он у тебя оказался?
Еник пожал плечами и поднял на деда до того невинный взгляд, что дед беспомощно заморгал.
Олин поджидал их, сидя на ступеньках, грустный, с сокрушенным видом. Еник помчался к нему – только голова затряслась. Дед не поспел бы за ним, если б даже захотел, и проводил его взглядом сквозь пелену грустных раздумий, глядя, как малыши здороваются, касаясь потихоньку друг друга ладошками.
Подойдя поближе, дед услышал слова Еника:
– Ну что тебе крот, Ольда… Давай выкопаем себе могилки. Твоя будет здесь, а моя рядом, чтобы тебе не пришлось меня искать.
* * *
Дед сидел на кушетке у окна и читал газету. Очки балансировали у него на самом кончике носа. Читая газету, дед с упоением спорил со всем миром. Во-первых, он отстаивал точку зрения, что важные сообщения необходимо печатать крупным шрифтом. Скажем, объявления, но и не только объявления. Дед читал газету от корки до корки. Заявления государственных деятелей и письма читателей. С интересом размышлял о срыве поставок молока и ничуть не с меньшим интересом – о нефтяных пятнах в Атлантическом океане. Читатель газет, каких, должно быть, миллионы. Столько их, по-видимому, не было, потому что жить становилось все сложнее и сложнее. Люди ужасно поумнели, и в этом их несчастье. Школьник прикидывает, как в домашних условиях смастерить атомную бомбу, и не находит ничего лучшего, как похвастаться этим не кому-нибудь, а газетчикам. Всыпать бы этому умнику и дать в руки лопату. С фотографии во весь рот улыбаются два государственных деятеля, ни дать ни взять – родные братья, а назавтра с помощью телеспутника они поливают друг друга грязью. Возможно, их могла бы наставить на путь истинный однокомнатная квартирка в панельном доме, но вместо этого у них белые виллы и любовницы, ну и, само собой, всегда пожалуйста – газеты. Генеральный директор объясняет, почему у коленчатых валов совсем не те колена, какие надо, и объясняет это так здорово, что человечество, видимо, просто обязано со слезами на глазах выражать ему свою признательность. Читательница, вожделея любви, поверяет свою мечту газетам. Сегодня свадьба, кремация, завтра развод. Природного газа полно, и в то же время его не хватает. Продолжительность жизни увеличилась, но инфарктов прибавилось. А газеты всегда в центре событий. Читателей, помнящих сообщения с прошлой недели, ничтожно мало. А шрифт покрупнее намного дороже, что ли, черт вас побери?! Очки на дедовом носу балансировали, как балерина на пуантах.
Под окном раздались торопливые шаги, затем загремел ключ в замке. Проблемы мирового масштаба сразу потеряли жгучую актуальность – стоило свернуть газету и отложить ее в сторону на расстояние вытянутой руки. Дед резво вскочил, спрятал очки и газету в ящик стола и профессиональным движением схватил стоящую наготове щетку. Дед подметал, словно выискивал золото. Я и сам, как газета, подумал он, но не плакать же из-за этого. Не говоря уж о том, что все слезы израсходовал, пока был молодой и глупый.
В кухню ворвался Добеш, красный, как пасхальное яичко, которому оставалось только лопнуть. На щеках можно было обнаружить все известные и к тому же несколько еще не открытых оттенков красного цвета.
– Что ты ей сделал? – простонал он и загнанно перевел дух.
Если бы пришлось бежать на один дом дальше, наверняка его увезла бы «скорая». Красные щеки начали подергиваться синевой.
Дед угрюмо воззрился на сына. Он вообще не понимал, куда клонит сын, пока с ним чего-нибудь не случалось. Нельзя сказать, что Добеш выглядел хорошо, но не из-за этого дед выпрямился и оперся о щетку.
– Откуда ты взялся, черт возьми? – заворчал он недовольно.
– Что ты ей сделал? – простонал Добеш.
Дед вопросительно прищурил глаза, щетку прислонил к стене, а руки спрятал в карманы.
– Она прибежала ко мне вся зареванная… – Добеш говорил, словно проваливал экзамен на аттестат зрелости.
– А кто такая? – спросил дед. Он нарочно спросил, чтобы собственными ушами услышать, что сын его потерял голову. Ну почему все так упрямо повторяют одни и те же глупости, будто надеются открыть что-то новое, подумал дед. Когда-то он сам испытал подобное на собственной шкуре.
– Кто-кто… Она! – Глаза у Добеша были как осеннее небо, как сентябрьское небо на Вацлава, когда все показывает на снег, а потом вдруг начинает лить дождь. – Какой срам, – вздохнул он сокрушенно.
– Срам? – удивился дед.
– А ты скажешь – не срам? – Добеш по-боевому расставил ноги. Рыцарь может вымокнуть, но раскисать не имеет права. – Ты говорил с ней, как с какой-нибудь… И еще на улице! Как будто она…
Дед вынул руку из кармана, посмотрел на нее, будто в зеркало, а затем в хмурой сосредоточенности – на своего сына, словно на глазах деда распутывался сложный арифметический пример. До чего ж ему хотелось как следует влепить сыну! Ох, как бы кстати ему была хорошая, увесистая затрещина! Только дед совершенно не чувствовал злости, скорее сочувствие, но не злость. А что ж это за комбинация – сочувствие и затрещина?
– Срам, говоришь? – Дед не ждал ответа. Он сам себе кивнул с таким видом, словно выслушивал выговор перед строем. – Сраму не оберешься тогда, когда я перед ней надаю тебе по личику. Не нравится тебе здесь – собирай манатки и катись за счастьем в другое место. Я тебе не советчик, но и мешать не стану. Но быть сразу и тут и там… Это подлость.
Они даже не заметили, как пришла Марта. Ее железнодорожная форма потеряла новизну, на ней появились складки, а под глазами у Марты – тени. Со вздохом заметного облегчения она поставила служебную сумку и сумку, набитую покупками.
– Уж не деретесь ли вы? – спросила она как могла беззаботней, и веселость ее скрипнула песком на зубах.
Добеш оглянулся, испуганно вздрогнув.
– Что у вас? – Марта, придерживая стул, медленно села, словно не надеялась на его прочность. – Ты почему не на работе?
– Сейчас иду, – пролепетал Добеш, взглянув на деда, как на неуступчивого ростовщика. – Надо было кое-что… Кое-какие дела.
Тут только Марта заметила покупки, сделанные дедом и аккуратно сложенные на столе. Лицо ее приняло такое плаксивое выражение, словно она увидела обгоревшие останки своего дома. Нагнувшись к сумке, она дернула молнию и стала вынимать и выкладывать на стол рогалики, морковь, масло, молоко и вообще все, что уже лежало на столе, словно они с дедом сговорились.
– Дедуля, вы же знали, что сегодня я сама собиралась сходить в магазин, – прошептала она рыдающим голосом.
Деду показалось, что на него несется поезд. И как нарочно, в эту самую минуту раздался гудок локомотива на станции. Голос его был такой же приятный, как у разозлившейся цесарки.
* * *
Еника слышно было, наверное, на берегу Палавы. Просто удивительно, до чего голосисто умел мальчишка реветь при желании. Помнится, в день приезда Марты из родильного дома, когда все семейство в необъяснимом экстазе толкалось около него, Еник упорно и с удовольствием демонстрировал возможности своих голосовых связок и емкость легких. Был он не больше рукавицы, но голос его звучал громче церковного колокола. Дед сразу определил, что внука ждет военное поприще, с таким голосиной-то! И тут же высказал свое мнение вслух, хотя, конечно, не думал об этом всерьез. Чего только не скажешь в минуту, когда на кухонном столе в одеяльце лежит совершенно новый человечек, сучит ножками и орет что есть сил, а над ним склоняется вся семья, спаянная удивительной солидарностью, столь же редкостной, как и эта минута первого внимательного и горделивого знакомства, – солидарностью, которая нечасто проявляется в жизни, главным образом тогда, когда бывает или очень хорошо, или очень уж плохо.
Марта со смелом возразила деду, что предпочла бы увидеть его членом какого-нибудь серьезного музыкального ансамбля, скажем хора моравских учителей, а бабушка покрикивала на всех, требуя немедленно успокоить ребенка, не то с ним стрясется что-нибудь, а потом поздно будет винить себя. Бабушка понимала, какой хрупкий сосуд – человеческое существо и что цветы на лугу обойдутся без этого хрупкого сосуда, а вот сосуд без цветов – едва ли.
Дед проворно сбежал вниз по лестнице. Первый его взгляд был на стол: две груды покупок, по-прежнему аккуратно сложенные, все еще красовались на столе, как выставка конфискованной контрабанды. И пролежат еще сто лет, если кто-нибудь не выкинет их в окно. Марта умела быть упрямой, как коза.
– Что ты опять ему сделала? – крикнул дед.
Марта, оторопев, округлила глаза, но тут же гневно метнула молнии.
– Дедушка, дедушка, – отчаянно всхлипывал Еник, и прерывистые рыдания сотрясали его, как порывы ветра сотрясают флагшток. Щеки его были мокрые, волосы надо лбом вспотели, из стиснутых кулачков вытекала шоколадная жижа.
– Удивляюсь тебе… – Дед в недоумении покачал головой и с сожалением поглядел на Марту. – И тебе его не жалко?
У Марты заострился нос. Одному богу известно, как ей удавалось делать это в приливах злости.
– А я уже и удивляться разучилась, – с надрывом произнесла она. – Всему! – И посмотрела на стол.
У деда запылали щеки от прихлынувшей крови.
– Ну что такого страшного случилось, скажи на милость?!
– У Олина день рождения, а вы обещали, что у меня тоже будет, – вперемешку со всхлипами прорыдал Еник, – а вы мне… обещали, что у… меня… тоже… будет…
Дед задергал носом так, что раздался треск. Наибольшая хитрость детей заключается как раз в их бесхитростности.
– Ну конечно же, детка, у тебя будет день рождения, золотой ты мой… Съездим в город, купим тебе лошадку…
– А я хочу, чтоб у меня сейчас было рождение, – выпалил Еник деду, и надежда осушила его глаза.
Дед повернулся к Марте, но, натолкнувшись на ее взгляд, в котором сверкали искорки торжества, сразу понял, что бессмысленно искать у нее поддержки. В конце концов, ведь и он не пришел ей на помощь.
– Радоваться будущему дню рождения – самое приятное, – сказал он Енику, будто сообщая номера в лотерее с невесть каким выигрышем.
– Но у Олина уже был… – Еник набирал воздух для дальнейшего воспроизведения слез.
– Потому что он маленький, – находчиво перебил его дед. – Сначала празднуют рождение самые маленькие, а потом те, что побольше. У меня вот день рождения будет только зимой.
Еник испытующе посмотрел на деда промытыми глазами:
– Олин меньше меня?
Он раскрыл один из кулачков и принялся вылизывать растаявшую шоколадную конфету.
– Это он подарил тебе конфету? – проводил дед обходной маневр, потому что Олин был на целых полголовы выше Еника. – Так вот знай, что у тебя будет кой-чего получше.
– А что? – Еник изображал равнодушие так же неумело, как и не начавший еще бриться юнец изображает пылкие чувства. – Лошадку, а что еще?
Дед с загадочным видом потер лицо:
– Это тайна.
– Я хочу меч, и кораблик, и водолазные очки, и бассейн, и домик в саду, и попугая, и собаку, и цветной телевизор… – Еник задумался.
Марта невесело усмехнулась:
– Не так уж мало…
Еник снова закрыл лицо ладонью.
– Но больше всего я хотел бы вина.
Дед и Марта ахнули в один голос. Еник продолжал сохранять серьезный вид, какой он умел сохранять, когда приходил к выводу, что никто из взрослых все равно не поймет его.
– Мне пора, я пошел, – сообщил он и вышел.
– О чем это он? – робко произнесла Марта.
Дед опомнился первый.
– Ты же слышала, – гордо ответил он. – Из парня выйдет толк. Попомни мои слова.
– Вы его только балуете, – вздохнула Марта.
– Я?! – поразился дед.
– Водите его в трактир, талдычите про виноград…
– Я, значит, плохой?
Дед настороженно повернулся к Марте, словно хотел услышать, как прорастает семечко.
– Выйдет из него ваш сын! – выкрикнула Марта побелевшими губами.
Дед вытаращил глаза. Он глубоко и громко втянул воздух, приготовясь к защите себя и своего рода. Однако не произнес ни слова, только яростно махнул рукой.
Марта сообразила, что малость перебрала. Но не в ее привычках было спешить с извинениями.
– И все делаете мне назло! – Она разгребла покупки на столе. – Разве не повторила я вам десять раз, что иду в магазин сама?!
Дед горько усмехнулся. Он знал невестку настолько, чтобы понять, что на него кричит не Марта, а одна из множества женщин, дремлющих в любой из дочерей Евы, которые и делают их именно такими, какие они есть.
– И еще я прибрал весь дом… Это я говорю не для похвальбы, а чтоб ты не начала убираться заново.
Дед оказался прав. Марта вдруг сразу расплакалась.
– Вы бы наверняка ничего этого не делали, если б не знали, что устраивает мне ваш сын, – зарыдала она так же горько, как только что рыдал Еник.
Дед передернулся, словно его толкнули под холодный водосток. Он отступил к дверям и в ужасе, но как бы отстраняясь, пробормотал:
– Да что ты такое городишь, господи… Да ведь… Ты что, подозреваешь и меня?
Марта громко плакала, подвывая и пряча лицо в согнутой на столе руке, плакала и никого, кроме себя самой, не слышала.








