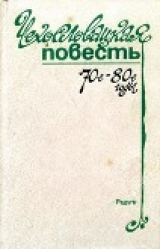
Текст книги "Чехословацкая повесть. 70-е — 80-е годы"
Автор книги: Владо Беднар
Соавторы: Любомир Фельдек,Валя Стиблова,Ян Костргун
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 45 страниц)
– Делаем уп-раж-нения дис-ципли-нированно… Или ко-му-то хо-чется в угол?
Рука ее, державшая перо, так и мелькала, а кончик языка как бы откликался эхом на это движение.
– Товарищ воспитательница, а Добеш его стукнул, – раздался певучий голос прилежного мальчика.
Воспитательница быстро вскинула голову, но Еник был резвее, и строгий блеск ее глаз беспомощно отразился от его невинно опущенного личика.
Однако прилежный блюститель порядка не унимался:
– И еще он обзывается…
Воспитательница только вздохнула, но головы больше не подняла и лаконически пригрозила:
– Ну погоди же, вот допишу…
Енику не хотелось этого ждать.
Аничка с сиреневым бантом величиной с голубя, та, что носила на завтрак по четыре булки или два куска хлеба с маслом, подбежала к столу, пыхтя как ежик, и взволнованно захлопала ресницами:
– Товарищ воспитательница, Добеш дерется!
Вылитая мамаша, подумала воспитательница, но уже стоя над кучкой ребят. Еник с Олином дружно колотили прилежного блюстителя порядка. Это был Рене, ну кто ж еще, только голос у него из-за насморка неузнаваемо изменился.
Аничка удовлетворенно ухмылялась.
Воспитательница привычными решительными движениями размотала клубок и трех виновников поставила перед собой по росту: Рене Микеш, Ольдржих Урбан и Ян Добеш – на полголовы ниже их обоих. Совершенно ясно, что они налетели на Рене вдвоем. А что Рене старался помочь ей в ее нелегкой воспитательской деятельности, она имела случай убеждаться не раз. И все же она понимала, что хвалить его нельзя, и на секунду задумалась перед вынесением приговора. Тут ее отвлек стук в дверь, можно сказать – буханье, и дверь отворилась.
Сначала в зал заглянул стеклянный глаз – на черной плюшевой голове лошадки-качалки, затем показалось лицо мужчины. Лошадка была упакована в полиэтиленовый пакет, а мужчина смущенно улыбался. Звали его Франтишек, а также «барский кучер», потому что он возил в черной «Татре-603» директора местной фабрички, производящей гребни и прочие полезные вещи из коровьих рогов.
Воспитательница частенько встречала его в столовой. Франтишек по большей части стремился обойти ее стороной и забивался подальше в угол. Гладкий вид «кучера» свидетельствовал о том, что он истребил немало кнедликов. Франтишек умел обворожительно смотреть на женщин. Слегка робея, но с восхищением, украдкой, и всегда так, что они обращали на него внимание. А сейчас непосредственная близость к миниатюрной, но привлекательной воспитательнице вывела его из равновесия, он краснел и потел.
– Добрый день, добрый день, – поздоровался он дважды с поклонами, поворачиваясь посреди зала с лошадью в руках. Наконец он приметил стол воспитательницы как наиболее удобное место для завершения продуманной во всех отношениях акции. Осторожно поставив лошадку на стол, он в отчаянии и растерянности не нашел ничего лучшего и качнул ее, чтобы показать воспитательнице и детям игрушку, так сказать, в действии, но тут одно из полудужий хромированной подставки раздавило лежавшую на столе ручку и по официальной бумаге поплыло пятно.
Гость искренне расстроился.
– Ой, простите… – выдавил он из себя заикаясь.
Воспитательница ободряюще улыбнулась:
– Вас давно не было видно. Уж не прячетесь ли вы от меня?
Так уж дурно устроен мир, что женщины в горячем и искреннем желании деликатно ободрить мужчин по большей части лишь обижают их. Причем настолько жестоко, что в эпоху галантного обхождения мужчины в таких случаях прикладывали к виску дула чеканных пистолетов, а всего лишь столетием позже бежали от мирской суеты и предавались нелепым увлечениям – разводили экзотических птичек, рыбок в аквариуме или выискивали и коллекционировали причудливые корни. Известны также случаи, когда из пострадавших таким образом мужчин выходили писатели. Как бы то ни было, нежной деве и в голову не пришло, что теперь Франтишек некоторое время наверняка станет от нее прятаться. Она еще не заметила разора на столе и приветливо глянула на него бархатными глазами, желая убедить юношу, что его робкие взгляды хороши, но нельзя же так долго ограничиваться взглядами.
– Товарищ директорша попросила меня, чтобы… И вот я… – лепетал Франтишек, отступая к двери.
Она последовала за ним, обернувшись на ходу и бросив залу:
– Я сейчас вернусь. Кто будет хорошо себя вести, потом покатается на лошадке.
Не встретить бы никого в коридоре, подумала она напряженно, и у нее зашумело в голове. Такое случалось с ней и накануне выпускных экзаменов в школе, но, слава богу, все обошлось.
В течение двух секунд дети, предоставленные самим себе, осваивались. Вокруг новой игрушки понемножку сужался благоговейный кружок. Еник же вскарабкался на стол и вскочил на коня.
– Сначала я, а потом ты! – распорядился он.
Приказ его был обращен к Олину, ревностно охранявшему сокровище от наиболее ретивых ребят.
Ну разве могли они заметить воспитательницу!
А она стояла над ними, онемев от ужаса и протирая глаза рукавом белого халата. И волосы ее покрывал легкий снежок нежного пуха. В мастерской по соседству только что грузили партию стеганых одеял, и Франтишек прямо-таки надрывался от усердия. В жизни не приходилось ей видеть, чтоб работали с такой радостью. Она выглянула в окно. «Барский кучер» хлопал себя руками по пиджаку, похожий при этом на гусака.
– Добеш, Урбан, Томашек и Микеш – все по разным углам! – воскликнула она. – Остальные сели, мы будем петь!
Только тут она заметила обломки вечного пера и забрызганные чернилами странички. Впору заплакать, если б не было стыдно. Плюшевая лошадка еще покачивалась, но на седле остались лишь зачарованные детские взгляды.
И тяжелы были худенькие ребячьи спины, вклиненные в углы зала, и поникшие головы.
Дети запели песенку:
Шел дударь,
ой, дед-ладо,
ты сыграй нам…
* * *
На постройку нового детского сада постоянно не хватало средств, зато для административного здания кооператива их оказалось предостаточно. Оно возвышалось за усадьбой хозяйства, внушительное, как генеральное управление всех существующих сельскохозяйственных кооперативов, вместе взятых, белокаменное, отделанное золотистым деревом и серым бризолитом. На хозяйственном дворе усадьбы ярко сверкали алюминиевые стены сушилки, дымящей густым белым паром, и все это обрамляли озаренные солнечными лучами склоны Опичих гор. Пологие южные склоны в свете солнца обретали оттенок липового чая; четко, до мельчайших подробностей, как на старинной гравюре, очерчивались кроны абрикосовых деревьев и листва виноградников. И будто печатный знак, возвышалась над виноградниками черная конструкция сторожевой вышки.
Фасад остекленного фойе управления отсвечивал тиснеными медными изображениями; из будки проходной улыбалась вахтерша. Старая Гомолкова!
Не будь дед мужчиной, он предпочел бы удрать. Был случай, когда он застукал эту самую Гомолкову на своих капустных грядках: она срезала кочаны, и он ее крепко шуганул. На зайцев, пировавших за его счет, дед смотрел сквозь пальцы, но загребущая Гомолкова довела деда до состояния невменяемости. В те поры она носила торчащие сборчатые юбки, низко на лоб повязывала белый платочек и ходила босиком.
– Что вам угодно? – спросила она.
– Не узнаешь меня, что ли? – поразился дед.
– Знаю и не знаю. А что?!
– Я к сыну пришел.
– Сядьте, я напишу вам бумажку и доложу о вас.
Дед окончательно онемел, и вложить сигарету в рот ему удалось лишь со второго раза. Опустившись в кожаное кресло под пальмой возле игрушечного столика, он закурил, но тут же встал.
– Слушай, ты почему, скажи, ради бога, выкаешь мне? – проговорил он в таком ужасе, словно его брали в рекруты.
– Я со всеми на «вы», – ответила вахтерша с достоинством. – У меня насчет этого есть приказ. И со своим Тонцеком. Здесь я и ему выкаю… Мы не в трактире, товарищ!
Дед вернулся назад под пальму, немного успокоившись, по крайней мере тем, что вахтерша его узнала и, насколько он понял, ни с кем не перепутала.
– Документ, удостоверяющий личность, у вас при себе? – крикнула она ему.
– Чего?! – Дед даже моргать перестал.
– Ну паспорт!
Бог знает сколько уже лет дед не держал в руках паспорта. Да и сохранился ли он вообще!
– Что за народ, ну что за народ, – негодующе проворчала вахтерша. – Никак не приучишь их к порядку.
Дед возвел очи горе́ и, кощунствуя, пожелал, чтобы эту бабу взяли черти. Над головой у него было перекрытие с квадратными углублениями, как в Ледницком замке. В тот момент под этим же перекрытием, на другом конце дома, мужчина протягивал руку, чтобы дотронуться до девушки. Она сидела за письменным столом, а он сзади наклонялся над ней. На вид ему могло быть за тридцать. Он погрузил лицо в ее волосы, но не совсем, а так, чтобы смотреть девушке за вырез. Глазам одним приятны густые леса, другие предпочитают любоваться тонкой отделкой женского белья. Беда мужчины заключалась в том, что он относился именно к этим вторым, и его беда постоянно отнимала у него немало сил. Хотя сплошь и рядом только и слышишь причитания, что лесов становится все меньше, по мнению мужчины, для страждущих глаз их вполне хватало, но он готов был поклясться, что становится все меньше девиц, согласных утешить страдающего мужчину. Особенно женатого. Чашечки девичьего бюстгальтера были как ласточкины гнезда. И вообще, они были совершенно ни к чему. Пальцы мужчины приближались незаметно, как пожарная машина. Девушка улыбалась, но в глазах ее сквозило высокомерие, и улыбалась она с явной насмешкой. Зазвонил телефон. Если бы голову мужчины раскроила циркулярная пила, он наверняка перенес бы это менее болезненно.
Девица подняла трубку. Мужчине показалось унизительным продолжать стоять с лицом, закрытым ее волосами.
– Отдел механизации, – сказала девица и затем уже только молча слушала, пока не произнесла: – Да. – И положила трубку. Повернувшись к мужчине, она поглядела на него снизу вверх. Он был красный и взъерошенный, как индюк, от прилива крови задергалась жилка на шее. Девица продолжала улыбаться. – Сюда идет твой папаша, – шепнула она и протянула руку к пачке накладных квитанций.
– Папаша, – испуганно ахнул мужчина, сделал два шага к своему столу, передумав, отступил к окну и, наконец, определил верное направление – к открытой двери в соседнюю комнату, где была маленькая кухонька с плиткой и стоял холодильник. – Меня нет, я вернусь только вечером после собрания, – пробормотал он сдавленным голосом, но еще попробовал молодецки улыбнуться и загадочно подмигнуть. Однако выглядел при этом так, будто свалился со второго этажа. И тихонько прикрыл за собой дверь кухоньки.
Появился дед и остановился у входа с почтительным видом, тиская в руках шляпу. Присутствие девицы его озадачило.
– Добрый день, – поздоровался он и оглядел помещение.
Увы. В комнате стояли напротив лишь два стола и два стула, чтобы сидящие за ними люди могли видеть друг друга. Второй стул был пуст, иллюзию рабочего беспорядка создавали разбросанные по столу хромированное пресс-папье, коробки с подшипниками, логарифмическая линейка, какие-то таблицы. А за вторым столом сидела пригожая девица в пестром легоньком платье.
– Добрый день, – ответила девица с блестяще освоенной бюрократической рассеянностью, которая способствует неприступности этих таинственных заведений. Она вся была такая официальная, что наводила страх. – Что вам угодно?
– Я… это… Как бы это… Я думал… Я ищу сына.
Слова из дедова горла продирались с трудом, будто он стоял перед прокурором. Вот и говори после этого, что человеку с чистой совестью все нипочем. К тому же эту чистую совесть надо еще и иметь! А у деда в этот момент было ощущение, что он по меньшей мере стронул с орбиты земной шар.
Девица приоткрыла глаза чуточку шире и подняла подбородок.
– Он тут у вас механизатор вроде, – объяснил дед без особой уверенности, втайне подозревая, что старуха Гомолкова направила его черт знает куда, к готтентотам!
– Вы пан Добеш?
– Ну… Правильно!.. Добеш… Старший… Молодой Добеш мой сын. Правильно.
Дед перевел дух и даже улыбнулся.
Тут и девица вспыхнула, как майский каштан всеми своими канделябрами. С сияющим видом она поднялась из-за стола:
– Простите, вот уж никак не предполагала… – И подала деду руку. – Кширова.
Дед замешкался, не зная, куда деть шляпу, и в итоге водрузил ее на голову с уверенностью, что открыл еще одну Америку.
– Очень приятно… Чего-то я вас раньше тут не видел.
– Почему же? – спросила девица немножко насмешливо, немножко ядовито.
– Почему?! – Деду показалось неприличным не переспросить. – Я ездил, пока работал в кооперативе, на лошадях, – с озабоченным видом принялся он объяснять, что было явно излишним. – А вот уже второй год, как я на пенсии… Это его стол?
Девица кивнула.
Дед осторожно сел, сперва погладил стол взглядом, затем одной ладонью и наконец обеими. Он был доволен, может быть, даже горд. Стол его сына помещался в настоящем замке, в таком кабинете! Выходит, сын его чего-то стоит.
– Тогда в конюшне еще было много лошадей, – добавил дед, чтобы девице окончательно все стало ясно.
Приличия ради девица улыбнулась, все еще не понимая, – что нужно старику? Не исключено, она услышит от него такое, что голова у нее пойдет кругом.
А пока они молча сидели друг против друга. Смотреть на девицу было довольно приятно. Летом она наверняка часто ходила купаться. Девица безуспешно пыталась прикрыть хотя бы незначительную часть ноги выше колена, но дед щурился, будто вовсе не замечал девицу. Он смотрел на нее, но при этом куда-то значительно дальше.
– Я сварю вам кофе, – вдруг спохватилась она. – Вы любите крепкий?
– Кофе? – Дед очнулся. – Сроду не пил, если вы говорите про настоящий.
– Быть того не может, чтоб вы никогда не пили настоящий кофе, – засмеялась девица. Этот дед был ужасно милый и трогательный. Она направилась в кухоньку. – Вода мигом закипит, – добавила она и открыла дверь.
Добеш младший стоял там истуканом.
Девица улыбнулась и, протискиваясь к плите, прижалась к нему. От нее исходил аромат, но совсем не духов. Добеша охватил ужас, как во сне.
Они услышали шаги деда.
– Нет, не надо, правда, – проговорил он.
Девица вышла, неплотно прикрыв дверь.
– Мне, это, внука навязали, сына его, значит… – Дед выжидательно помолчал – понимает ли она его? – Вот я и пришел спросить, не смог бы он забрать его из садика.
Девица прислонилась к косяку, все еще держась за дверную ручку. Она пригладила блестящие желтые волосы, пальцы ее дрожали. Вблизи дед разглядел странную блестящую краску, которой были обрамлены ее глаза, и быстро отвел взгляд, затем вернулся к столу.
– Товарища Добеша сейчас нет, – сказала девица. – Он вернется лишь вечером.
Дед обернулся.
– А вы почем знаете?
– Он мне сказал… – ответила девица. – Я отвечаю на телефонные звонки.
Дед сгорбился, будто поднимал тяжелую балку.
– Что поделаешь… Придется как-то устраиваться.
– Погодите, – остановила его девица. – Раз уж вы не хотите кофе, так хотя бы…
И снова исчезла. С глухим стуком открыв холодильник, она достала водку. Бутылка оказалась холодная, приятно холодная для горячей ладони. В то же мгновение она почувствовала сзади на бедре ладонь, еще более холодную, и чуть не вскрикнула. Рука медленно поползла по трусикам вверх к животу. Девица резко выпрямилась, больно стукнувшись теменем о что-то твердое, у нее все прямо заныло.
Дед продолжал стоять у дверей со шляпой в руке. Девица улыбнулась ему. Так ей показалось. Рюмки она вынула из ящика письменного стола и налила в обе примерно на три пальца. Одну рюмку протянула деду, другую прижала к вырезу своего платья.
– На здоровье, – ободрила она деда.
Сперва дед понюхал. Лишь после этого раздался легкий звон рюмки о рюмку. Скажи дед, что ему не понравилось, он соврал бы. Но никто не ждал от него признаний.
– Вы очень славная, – произнес он. – Правда… Большое вам спасибо.
– Не за что. – Тут девица уж и на самом деле улыбнулась.
Возвращая рюмку, дед снова поневоле глянул ей в глаза. В глазах у нее стояли слезы. Одна, прозрачно-чистая, выкатилась и соскользнула ко рту. Когда она остановилась на верхней губе, то оказалась голубоватой и даже с розовым оттенком.
Вот чудеса, размышлял про себя дед, спускаясь по лестнице. Вот чудеса-то. Разноцветные слезы…
* * *
Домик Яхима стоял на самом краю деревни. За белой оградой двора текла вонючая речка Тркманка. Посмотрев из окна, Яхим по составу отложений на ее дне мог рассудить, какие времена переживают люди в деревне на холме и еще выше, узнать, что им стало без надобности и чего они, с другой стороны, жаждут. Естественно, что Яхиму недосуг было глазеть из окна, но, когда ему случалось проходить тропинкой по берегу, взгляд его тянулся к младоницкой рощице за лугами. К чему огорчать себя раздумьями о прошлых днях, если тогда можно было, выбежав из дому, запросто наловить раков. Теперь настали во всех отношениях иные времена, и если б ему, к примеру, понадобилась печка, он смог бы достать ее со дна реки. Прежде такого не бывало. Порой Яхим прислушивался к шуму тополей. Он знал наверняка, что понимает, о чем они шумят. И если он еще мог слушать тополя и смотреть далеко за луга, далеко-далеко, куда хватал глаз, зачем ему была речка под окном?
Дверь со двора вела прямо в единственную жилую комнату домика, кухню и спальню одновременно. Здесь было все, необходимое человеку, и все было под рукой. Плита, кровать с высокими спинками и аккуратно расправленной полосатой периной, стол и два стула, шкаф для одежды и буфет для посуды. Два маленьких окошка, затененные геранью и белокрыльником. Полумрак, как на картинах голландских мастеров. Некрашеное дерево, отшлифованное просто руками. На темных балках потолка, а также столешницы и спинок стульев просвечивались блестящие дукаты сучков.
Дед вошел и глазами поискал в темноте хозяина этого замка. Он не относился к числу людей, способных истерически восхищаться вещами, чудом пережившими десяток-другой лет. Скажем, таким вот домиком, деревянным потолком и полом из кирпичей. Он даже никогда не говорил об этом с Яхимом. Живет себе человек и живет, как ему нравится. У таких домиков было одно явное преимущество: в нем нельзя было прожить всю жизнь взаперти. Такой домик охранял от холода и непогоды, но из него частенько приходилось выходить на двор. Новые-то дома, продуманные до тонкостей, легко превращаются в тюрьму для своих обитателей. Вне их стен нет ничего такого же удобного, как внутри. Дед как раз и жил в одном из таких домов и выходил оттуда главным образом потому, что был уже стар, и потому, что всю свою жизнь уходил из дому на рассвете и возвращался назад, когда дорогу освещала луна. Таких домов успела выстроиться целая новая улица, и некоторых соседей дед не встречал неделями.
Дед раздвинул листья герани. Яхим был во дворе, сидел на скамейке под старой корявой грушей, которой уже много лет никто не прореживал крону. К нижней ветке груши на толстой проволоке подвешена была рельса. Яхим поднял руку и ударил по рельсе какой-то железякой, словно отмерял некое таинственное время. Положив затем железку на колени, он оперся о нее ладонями.
Дед открыл окно и крикнул:
– Яхим!
Яхим обернулся к нему через плечо и, махнув, позвал к себе.
– Нет уж, раз пришли гости, сам заходи!
Сплюнув, Яхим еще дважды прозвонил на всю вселенную, прежде чем встал и медленно приблизился к окну. Был он примерно одного возраста с дедом, но пониже ростом и кряжистее; его левую щеку с детства разделял посредине грубый шрам. След от укуса собаки. Нельзя сказать, что внешность Яхима от этого как-то особенно пострадала. Шрам гармонически сочетался с выражением его лица, словно он родился с этим шрамом. Теперь-то неважно было, как Яхим выглядел, неважно – как и для всех в этом возрасте. Случаются, правда, моменты, когда мы не хотим верить, что это неважно. Яхима тоже когда-то нельзя было убедить, что его обезображенное шрамом лицо вызывает отвращение, и он остался бобылем и по сю пору. Никто никогда не видел его в грязной рубахе; весной, в канун пасхи, домик его сверкал нетронутой белизной, низ дома и дверной проем обведены были синей краской. В темноватой горнице всегда был порядок, как на Старой Белильне холстов, так что бог весть, так ли уж Яхим был одинок. Дед, разумеется, не ночевал у него, но в последние годы женщина явно обходила Яхимов дом стороной. Как бы там ни было прежде, но только ради чистой рубахи и вымытого пола женщина Яхиму определенно не была нужна. Так что, глядишь, Яхиму со шрамом даже повезло.
– Хороши гости! – проворчал Яхим. – Торчишь в окне, как святой Флориан в нише часовни.
– Скажешь, нету гостей? – засмеялся дед. Он осторожно расстегнул пиджак и показал Яхиму плоский шар с тонким ушком.
Яхим поднял на него вопросительный взгляд и изумленно выдохнул:
– Ливер!
– Он самый, – с довольным видом подтвердил дед. – Тебе. Можешь снова надраться и поддать его ногой.
Конечно же, Яхим утверждал, что в тот раз он поскользнулся, потому как дождь хлестал прямо в двери погреба, на глиняный пол натекло воды и стало скользко, будто на катке. Вполне возможно, дед допускал такое, в погребе случались дива почище. Однажды он дегустировал вино и, чтоб оправдать свою задержку в погребе, принялся надраивать бочки. Действовал он с таким усердием, что выбил нижнюю пробку на трехгектолитровой бочке, и зеленый вельтлин ударил вбок сильной струей. Пробка закатилась под бочки, и когда у деда снова забилось сердце, он зажал дыру ладонью и держал. Сроду не умел он молиться, но тут, по прошествии двух часов, он придумывал такие отчаянные молитвы, что, услышь его кто-нибудь на небесах, поневоле содрогнулся бы.
Пока не пропал голос, дед кричал и звал на помощь, но не дозвался никого ни на земле, ни в другом месте. Наконец под утро за ним пришла жена, не сомкнувшая всю ночь глаз от страха. Дед настолько окоченел, что, возможно, понадобилось бы сложное хирургическое вмешательство. Но понемногу он все же расшевелился и пришел в себя. Однако до сих пор, стоит ему дотронуться до пробки у дна бочонка, его передергивает, словно от удара током, и рука немеет до самого плеча, как и в тот раз.
Яхим великодушно не расслышал замечания деда.
– А я подсасываю вино через трубку, – пожаловался он.
– Это уж лучше вовсе не пить, – посочувствовал дед.
– Такая редкость… – Яхим смущенно скривил лицо и втянул голову в плечи. – Чем я расплачусь с тобой, друг…
– У меня их было две штуки, – перебил его дед.
– А я где только не искал. – Яхим посмотрел на солнце через прозрачную каплю стекла. – Даже в Прагу настропалился. Говорили, там ливеры бывают.
– В Праге все есть, – ухмыльнулся дед. – Если есть там Винограды[6], должны быть и ливеры.
Яхим вернулся к тому, на чем его перебили.
– Но я не могу от тебя взять просто так.
– Сегодня я тебе помог, завтра ты мне. Разве не так было всегда?
– Так-то оно так… Это верно… Да ведь плоский ливер большая редкость.
Дед не возразил. В магазине изредка появлялись ливеры, но были они ни на что не годные. Пузырь – с пивную кружку, ни его на гвоздик повесить, ни вина набрать – такое под силу разве что слону.
– Кому другому я б не дал, – заключил дед.
– Ну что, обмоем?
– Подождем молодого вина, а покамест повесь ливер где в холодке. Мне же пора на виноградник. – Дед посмотрел на Яхимовы лозы сразу за двором в саду. – Вот уж нет того лучше, когда все у тебя под рукой. А я пока дотащусь до своих холмов, то аккурат готовехонек, чтоб меня в гроб положили.
* * *
Но попробовали б его туда положить! Он упирался бы руками-ногами!
Пора сбора винограда была его самой любимой порой года, когда солнце уже притомилось, а все краски в полном расцвете.
Дед спешил на виноградник, как на поезд, и, вбежав в междурядья, не сразу замедлил шаг. В груди у него гудел пчелиный улей, и коленки стукались друг о друга. Нетерпеливо наклонившись над листьями, он первым делом приподнял несколько гроздьев, чтобы убедиться, что они действительно здесь, нетронутые, приятно оттягивающие ладони.
Медленно шел он по винограднику, время от времени задирая голову к небу и внимательно вглядываясь в его чистую вышину. Кое-где по соседству над участками серебристо поблескивали силоновые сети – самая надежная защита от скворцов. Но где было взять сеть и не украсть? На прилавке магазина дед еще ни разу такой не видел.
Он опустился на землю под орехом, оперся спиной о гладкий ствол и любовным взором собственника удовлетворенно оглядывал богатый урожай. Он все равно сидел бы здесь, даже если б над его лозами были растянуты силоновые сети в пять этажей, а вокруг виноградника была вкопана батарея пушек в полной боевой готовности. Он сидел здесь каждый год, сколько себя помнит. Каждый год было так же и всегда начиналось одинаково – страхом перед скворцами.
И всякий год, похожий на предыдущий, мы постигаем колдовскую власть труда. Двери винных погребов распахиваются настежь, распространяя вокруг ошеломляющий аромат, а виноградники день ото дня меняют свою окраску. Не сосчитать плодов на каждой грозди, и никакому живописцу не запечатлеть их бархатные оттенки. Все надо видеть самому, осязать, чтобы поверить и обрести покорность, понять суть преображения и всю остальную часть года пытаться выразить ее словами, сделать ее очевидной для самого себя и для других не только словами, но и самыми обыкновенными поступками, выразить радостью, молчанием и рукопожатием, выразить в страстном желании, в каждом своем шаге. Потому что дело тут не только в вине, как и ночью главное – не темнота, а днем – не одно лишь солнце.
Кто выпьет много вина, никогда не станет виноделом. Он ничего не понял, хотя поет и смеется.
Одно и то же повторяется каждый год.
Груз наполненных доверху заплечных корзин-«путен» будет оттягивать плечи так, что затрещат суставы. Гроздья будут прятаться за листьями, цепляться, обкручиваясь вокруг золотистых молодых побегов, врастать в ржавую проволоку, и рука, не раз тщетно нащупывающая плодоножку, в конце концов растерзает кисть, переживая при этом почти осязаемую боль.
И каждый год одно и то же.
С крутых склонов но́сите вы тяжелые путны, и ноги разъезжаются на глине.
Ох и тяжело, тяжеленько наполняются родники.
Не легко дождаться чуда преображения. Только что вам жаль было одной ягодки, а тут вы с огромным облегчением опрокидываете целую охапку гроздьев на ощетинившиеся валки мельнички, поворачиваете раз и другой рукояткой и в громыханье шестеренок даже не слышите, как тихо лопаются виноградины.
Но это лишь начало их мук. Им предстоит провести тяжкие часы в коробе пресса под перинкой из букового дерева. Журчащий поток зеленоватого сока скоро иссякнет, и каждую последующую каплю придется извлекать, подвинчивая чугунную тарелку на стержне.
Капли и минуты будут смешиваться, но прибывать будут медленно-медленно.
Пустые бочки просторны, как кафедральные соборы. В них можно войти, опуститься на колени, стать во весь рост, танцевать.
Только еще ни один человек не вырос, стоя на коленях.
Эхо наполнения настроено на басовый ключ.
Все произойдет, как и во всякий другой год.
Когда будет сделано все, что требовалось сделать, останется еще кое-что: необходимость ожидания.
Вполне вероятно, что вы долго, очень долго ходили в школу, прочли кучу книг. Но никто не сосчитает, сколько вы узнали людей, и никто никогда не изобразит все виденные вами краски. Скажем, вам известны закономерности колдовского преображения, происходящего в объятьях полных бочек, скрепленных обручами, ну и что? Как и в прежние годы, преображение началось в момент отсечения связи виноградной грозди с землей. Вы это знаете, ну и что?
Все равно вас будет мучить беспокойство, как если б вы вообще ничего об этом не знали. С нетерпением и недоверчивостью будете вы ждать момента, когда преображение станет для вас явным, даст о себе знать, зашепчет, обретет вкус и аромат.
Каждый год это происходит по-разному.
Иногда винодел дождется своего за день, а иногда мало недели, а то и двух. С каждым прибывающим днем возрастают и его сомнения. И напрасно пытается он припомнить, как же это было в прошлом году и как, собственно, произошло, что запрошлый год он дождался своего часа еще до того, как его стали одолевать страхи. Ведь из года в год все бывает одинаково, так чем же на этот раз ты не угодил изумрудно-зеленому цвету сладкого сока, что он закрылся перед тобой, будто раковина? Спехом? Медлительностью? Нечистой водой?.. Причин, как и ответов, много.
Прижав ухо к отверстию в самой верхней части бочки, винодел попусту ждет первого потрескиванья, которое известит его о том, что бродильные грибки настолько размножились, что им стало мало места, любые объятья им тесны, круговорот их рождения и умирания перешел в сферу астрономических исчислений.
Сусло побелеет, станет теплым, защиплет в носу и на языке новым и неведомым вкусом.
Молоко старцев, как говорится. Вероятно потому, что мы немножко старимся с каждым ожиданием…
Но кто напьется вина, обязательно помолодеет, хотя он и состарился на год.
Каждый год это происходит по-разному. В прошлом году вы собрали больше вины, чем винограда, а о нынешнем сборе винограда знаете пока лишь одно – что снова распахнутся настежь двери винных погребов, и снова за домами повеет удивительным ароматом, и виноградники с каждым днем будут менять свою окраску.
О каждом новом сборе винограда мы знаем наперед одно – что дело не только в вине, как и ночью главное – не темнота, а днем – не одно лишь солнце.
* * *
В былые времена деду случалось бегать не больше одного раза в году. А сегодня он бежал бегом уже второй раз за день. Итак, бежал, шел как можно быстрее и дышал, будто доменная печь. Так же жарко и так же тяжело. Даже ругаться больше не хотелось.
Еник стоял в одном углу зала, а в противоположном стояла лошадка-качалка. Воспитательница сидела за столом и что-то писала. Волосы, черные кудряшки, упали ей на лоб, а влажные губы по-детски улыбались. Она помогала себе кончиком языка, водила им направо-налево по нижней губе, ничего не заметила и не услышала.
Дед хмуро посмотрел на Еникову спину, вид которой был ему так же мало приятен, как вид чижика в клетке или щенка на толстенной цепи для коров. Он переступил раз и другой окованными сапогами.
Воспитательница испуганно подпрыгнула, будто всклокоченный чертик на пружинке. «Ушла, что ли, уже воспитательница?» – хотел было спросить дед. Он даже услышал, как язвительно это прозвучало. Злобных мужчин-коротышек он немало повидал на своем веку, но красивых женщин лучше было бы поменьше, чтоб они не вызывали излишнего уважения. Воспитательница и вправду была красива, просто куколка, игрушка, и этого факта никакая дедова злость изменить не могла. Очевидно, она сразу это поняла и убрала язык, после чего перевела глаза с деда на окно и затем снова посмотрела на деда.








