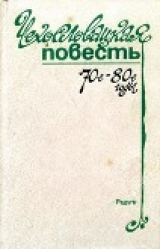
Текст книги "Чехословацкая повесть. 70-е — 80-е годы"
Автор книги: Владо Беднар
Соавторы: Любомир Фельдек,Валя Стиблова,Ян Костргун
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 45 страниц)
Мы с доктором Зеленым встречаемся взглядами. Он смотрит на меня немного напряженно – понимает, что я рассержен. И тут… в лице у меня что-то дергается, и оба мы начинаем смеяться. А что еще остается?
– Приготовьте его к операции, – говорю я. – Сделаю ее сам. Ассистировать будете вы.
– Я? А как же главврач Кроупа и…
– Да, вы! А то, я вижу, кроме вас, тут в один прекрасный день вообще никого не останется. И надо, чтоб вы знали, что вам делать.
Он вспыхнул от радости. Пообещал, что не пройдет и часа, как больной будет в операционной, и бросился из кабинета в коридор. Наконец-то начну диктовать реферат. Остается на это какой-нибудь час.
2
Быть может, молодому журналисту показался бы занимательным именно Узлик. Тогда пришлось бы вспомнить, что было почти два месяца тому назад. Впервые я услышал о нем на «бирже», как с незапамятных времен называем мы наши консультационные совещания, куда приходят врачи из других больниц предлагать нам своих пациентов для операции. Мы «торгуемся» с этими врачами долгие часы. Они сплошь и рядом не отдают себе отчета в том, что хотят от нас невозможного. Доцент Кртек встречает этих коллег латинской цитатой: «Timeo Danaos et dona ferentes»[45]. Гости этой остроте улыбаются – сами понимают, что их случаи иногда оборачиваются дарами данайцев.
Как раз таким случаем был Узлик. Детский врач пришла к нам на совещание где-то в конце апреля. Она была у нас на «бирже» впервые. Робко улыбалась и напоминала мне гимназистку Марушку Шибрабову, которую мы называли тогда «божья коровка Янинка» – по книге Карафиата «Жуки».
Она все доложила нам по памяти. У мальчика уже с двух лет начались приступы с отключением сознания, которые в последнее время участились. Он реактивен, умственно хорошо развит, никаких нарушений двигательных функций и других неврологических симптомов у него не обнаружено. Это внебрачный ребенок. Мать осталась где-то на чужбине, а он живет у деда. Фамилия мальчика Узел, такая же, как у деда.
По рентгеновским снимкам видно, что речь идет о большой опухоли. Провели ангиографию, пневмоэнцефалографию и даже томографию. Наш рентгенолог вынимает снимки из конвертов, систематизирует и кладет на стекло негатоскопа.
Мы долго молчим. Только Кртек не может удержаться от своего «timeo Danaos». Сейчас это действительно очень к месту. «Божья коровка» не сводит с меня умоляющих глаз. Тяжело ее разочаровывать.
– С этим решительно ничего нельзя сделать, – говорю я. – Не потому, что это эпендимома, и даже не из-за ее локализации, а потому, что она слишком велика.
Рентгенолог меня поддерживает:
– Действительно, ужасно она разрослась. Заполняет весь четвертый желудочек и, безусловно, давит на мозжечок, а может быть, и на ствол мозга.
Доктор из детского отделения не спускает с меня глаз, синих, как цветы на модранских кувшинах. Не останавливаясь, продолжает докладывать дальше, словно меня не слышала.
– Теперь ему уже пять лет, – говорит она монотонным голосом, будто рассказывает сказку в детском саду. – Неделю тому назад был очень сильный приступ с остановкой дыхания, мы его еле привели в себя.
– Вот видите, значит, уже явно задет дыхательный центр, – использую я это как аргумент. – Если мы станем его оперировать, эта область была бы поражена еще больше, развился бы отек мозга.
– Без операции он, может, протянет еще годик-другой… – подыгрывает мне Кртек.
«Божья коровка» покрывается румянцем:
– Кроме этого ребенка, у деда никого нет. Это такой… патриархальный лесник из Высочины. Никогда он не смирится с тем, что внука нельзя было спасти. Я полагаю, он к вам придет, профессор.
Обрадовала, ничего не скажешь! Наверное, сама и подбивала. Ей-богу, остается только руками развести. Коллег моих все это забавляет. Они-то знают, как трудно мне кому-нибудь отказать.
– Поверьте, – начинаю я убеждать молодого специалиста, – будь хоть капелька надежды, я бы не колебался ни минуты, вы такой красноречивый адвокат… – пытаюсь я обратить все в шутку.
Но она не желает ее понимать.
– На лекциях вы всегда говорили, – воинственно распрямляется она, – что при любой опухоли имеется какой-то процент надежды. Даже при метастазе, если он единичный.
Из «божьей коровки» она неожиданно превращается в Жанну д’Арк.
– Не можем мы списать этого ребенка, – теряет она самообладание, – год назад вы тут оперировали одного мальчика. Зика его фамилия, Вашек Зика – и как удачно! Зика здоров, ходит в школу.
– Это была спонгиобластома, – вспоминает Вискочил. – Ее убрали целиком.
– Слышите, коллега: убрали целиком. Здесь же будет кистообразная, сильно кровоточащая опухоль, хрупкая настолько, что едва ли позволит к себе прикоснуться. Доцент Кртек прав, не будем ее трогать – так он, пожалуй, протянет еще годик. Зачем напрасно мучить ребенка!
Но молодая коллега не соглашается с тем, что мы кончили обсуждать ее случай.
– Если бы это был мой ребенок, – говорит она взволнованно, – я бы настаивала на пересмотре решения. Для деда мальчика гораздо тяжелей год или два быть в ожидании смертельного исхода. Гуманнее прибегнуть к операции.
– Никоим образом! – обрываю я. – У вас нет опыта в этих вопросах.
Теперь она уже не домовитая божья коровка Карафиата, а какая-то меднолобая старая дева. Я сделал над собой усилие и заговорил насколько мог доброжелательней:
– Если бы он был ваш ребенок, вы никогда бы на такое не пошли. Уверяю вас, что это – вариант с ничтожнейшим процентом надежды.
– Я бы пошла на риск, – упрямо тряхнула она головой. – Мальчик такой красивый, такой умненький…
Я беспомощно развожу руками. Пусть объясняются с ней мои коллеги.
– Дело ясное, – прогудел Кртек, – я уже свое мнение высказал.
– Да мы и права не имеем решать по-другому, – подал голос Вискочил.
Ружичка нетерпеливо кивнул. Неужто еще тратить время, когда все так ясно? Один доктор Зеленый поднял руку.
– Я думаю… собственно, предполагаю…
Все недовольно оглянулись на Зеленого. У врача детского отделения блеснула в глазах искорка надежды.
– Что вы предполагаете, доктор Зеленый? – холодно спросил я.
Меня разбирала досада. Надо заслушать еще нескольких врачей, а мы торгуемся о невозможном.
– Я думаю, что стоит попытаться. При достаточном снижении давления, при нейролептиках…
– Пан Зеленый, уймитесь, – вполголоса пытается его образумить Румл, – взгляните на часы…
Зеленый не обращает внимания. Я его уже немного знаю. Кажется, тихий, но, если в чем-то убежден, не послушает и отца родного. Он откашлялся.
– Мне хочется напомнить о больном с цистицерком в четвертом желудочке. Он тоже казался безнадежным. У меня нет большого опыта… но ведь и тогда никто не верил, что мы его вытянем. У него падало давление и даже останавливалось сердце…
Я хорошо помнил того пациента. Сам его оперировал. Не только начали сдавать жизненные функции, но еще было обильное кровотечение. Кроме того, мы знали, что ни в коем случае нельзя допустить, чтобы эта паразитирующая киста лопнула – она бы инфицировала мозг. Кругом были сращения, проникавшие в стенки желудочка…
– Вы правы, – сказал я Зеленому, – эти два случая сопоставимы.
Перед глазами у меня стоял тот пациент. Мясник. Среднего возраста. При поступлении весил почти сто килограммов, а при выписке – неполных семьдесят. Я отчетливо вижу его, в смешном марлевом колпачке, какие наши операционные сестры делают для больных сами. Он был похож на Бивоя. Даже после операции щеки его не утратили пунцового румянца. Когда я высказал по этому поводу удивление, он засмеялся:
– А это, пан профессор, оттого, что мы привыкли пить сырую кровь!
Вот это здорово, подумал я. Мы его спрашиваем, не ел ли он плохо обработанного мяса, чтобы узнать, откуда у него солитер, а он, оказывается, пил сырую кровь!..
– Придется вам от этого отвыкнуть, – сказал я ему. – В другой раз может кончиться хуже.
– Сырая кровь еще никому не повредила, – не отступался он. – Мой дед дожил до девяноста, а отец до девяноста четырех, и оба пили ее каждый день. Мы все одной профессии.
– Пан доктор, – попытался я полемизировать с Зеленым, – вы вспомните, как выглядел этот мясник. Вы думаете, у малолетнего ребенка те же шансы?
– Я не хочу задерживать собравшихся, – неожиданно сказала Гладка, – но Ирка Зеленый заронил мне в душу сомнение. Что, если в самом деле рискнуть?
Она начала долго и нудно припоминать разные случаи желудочковых опухолей, как они проходили у нас в клинике. Вспомнила и фамилии больных – память на пациентов у нее феноменальная. Кртек с мученическим видом возвел глаза к потолку.
Я дал ей выговориться. Потом нанес удар из-за угла:
– Пани ассистентка, положа руку на сердце – вы сами взялись бы прооперировать этого мальчика?
Она парировала мой удар.
– Нет, пан профессор, – сказала она с типичным для нее мягким и вкрадчивым ехидством, – не взялась бы. Я знаю, как скептически вы смотрите на женщин в нейрохирургии, а тут нужна уникальная операция. Я же в таких вещах не имела возможности приобрести достаточного опыта.
Так прямо и сказала. Перед всеми, да еще в присутствии посторонних. В сущности, она права. Специалист Гладка уже немолодой и не идет дальше шаблонных операций. А положиться на нее в работе можно. Не оставалось ничего, как только рассмеяться.
На помощь мне поспешил Румл.
– Иржинка! – обнял он Гладку за плечи, – а почему бы тебе в самом деле не соперировать этого мальчика, раз пан профессор предлагает? Попробуй. Я у тебя буду ассистентом. Удивим мир! Хоть доцентуру получишь на старости лет…
Она рассмеялась. Высвободилась из-под его руки.
– Уйди, нахал! Нельзя уж и мнения своего высказать… – смотрела она на Румла помягчевшим взглядом.
Они понимали друг друга. Когда-то, много лет назад, был между ними коротенький и совершенно безнадежный роман. Теперь все это позади. У Румла семья, а Иржинка ждет первого внука.
Врач из педиатрии уже понимает, что потерпела фиаско. Встает, извиняется, что не может остаться. Снова спрашивает, можно ли прислать ко мне деда.
– А то он не поверит, что вы отказались заниматься его внуком, – с горечью добавляет она.
Ну разумеется, пускай приходит. Я знаю, что всегда все должен выносить на собственных плечах. Представляю, что ему «божья коровка» напела: «Нейрохирургия делает чудеса, все, разумеется, будет отлично!» Дед небось думает, что это чуть сложней, чем вытащить занозу.
К тому же она нас задерживает. Подает каждому руку. Врачи наши с ней церемонно прощаются, соперничая друг с другом в галантности, – комедию ломают. Черти! Ружичка демонстративно прикладывается к ручке. Вискочил кланяется чуть не в пояс, прижав ладонь к сердцу. Румл успевает даже игриво шлепнуть пониже спины. Безобразие!
Слово берет хирург районной больницы. Он не знает, потребует ли его случай хирургического вмешательства, хотел бы с нами посоветоваться. К ним пришел больной… вернее, приехал на своей машине из близлежащего леса после попытки застрелиться. Причина? Недостача на предприятии. Пуля прошла навылет слева от височной кости. Он сам добрался до поликлиники, еще успел все рассказать и потерял сознание. Его подробно освидетельствовали, сняли электроэнцефалограмму и даже сделали ангиографию, но никакой патологии не обнаружили. Изменения произошли только у него в характере. Жена утверждает, что раньше он был беспокойным, то и дело впадал в депрессию, грозил покончить с собой. Теперь ему все трын-трава, сидит и улыбается. Когда из службы безопасности пришли его допрашивать, он так острил, что они даже обиделись. Требует ли этот случай нашего вмешательства?
Мы посмеялись – случай действительно курьезный.
Иногородний хирург поставил на негатоскоп снимки. В обеих височных костях – аккуратные круглые отверстия.
– Не может ли там все-таки быть кровоизлияния?
Наш рентгенолог смотрит ангиограммы. Никаких изменений; кажется, все нормально.
– Но ведь было же пулевое ранение, – еще сомневается хирург.
Наблюдалась ли утрата движений или речи? Был ли он беспокоен? Появлялись ли судороги? – засыпают его со всех сторон вопросами мои врачи.
– Нет. Только эйфорическое настроение, как я уже сказал. На него еще повлиял разрыв с женщиной, ради которой он растратил эти деньги. В общем, неудивительно, что он хотел над собой что-то сделать. Зато теперь ведет себя как бравый солдат Швейк.
– Знаете, что произошло? – говорю я за всех. – Этот больной, собственно, произвел сам себе фронтальную лоботомию. Пуля нарушила обе лобные доли. В сущности, тот же эффект, который получается при оперативном разрушении белого вещества с целью вывести больного из состояния депрессии и страха.
– Убил двух зайцев одним выстрелом, – дополняет меня Кртек. – Совершил попытку самоубийства, что будет расценено как смягчающее обстоятельство, и излечился от депрессии, произведя самому себе лоботомию. Вот это я понимаю, счастливое попадание!
– Так, значит, его можно так оставить?
– А что с ним можно сделать? – говорю я. – Одного только следует опасаться: пройдет эта блаженная эйфория вместе с контузией. Но между нами говоря – чертовски повезло!
Затем идет ряд случаев выпадения межпозвонковых дисков. Докладывают как по конвейеру. Диагнозы не оставляют никаких сомнений. Передо мной ежедневник, который был целиком заполнен еще до начала конференции. Приходится назначать операции чуть не на июль месяц. Врачи пытаются выторговать у нас более близкие сроки. За одного просят, потому что молодой, у другого невыносимые боли, не может шевельнуться. А тот – культурный атташе, должен как можно скорее выехать за границу. Ну конечно, я вспоминаю, за него уже несколько человек ходатайствовало.
Я беспомощно оглядываю атакующих нас гостей.
– Друзья, подумайте, сколько нас тут всего-то оперируют! И какая у клиники пропускная способность. Ведь мы теперь после операции диска выписываем больного уже на шестой день.
Соглашаются, учтиво кивают. Разумеется, это ужасно, мы понимаем, но одного, вот этого, куда-нибудь уж пристройте!
Молоденький невропатолог из соседнего городка несмело обращается по поводу больного с выпадением диска, который уже второй день не мочится. Сколько ему лет? Двадцать четыре года? Бог мой, немедленно везите. Румл обещает прооперировать его в свое дежурство.
– Но дело в том, что пациент отказывается ехать, – растерянно признается молодой врач, – не знаю, удастся ли урезонить. Боится: говорит, у него трое детей, которых надо кормить.
– Так ты скажи, что он забудет о супружеских утехах, если этого не сделает, – говорит Румл. – Если упустит первые дни – не только мочеиспускание, но и половая функция нарушится.
Молодой врач стремительно встает:
– Сейчас же все устрою. Еще сегодня будет здесь. Он, собственно, подготовлен. И анализы сделаны…
– Вот давай торопись! – кричит ему вдогонку Румл. – Я такой грех на душу не возьму, хоть неврология и не моя специальность…
Мы смотрим друг на друга. Сколько еще сильных ощущений предстоит нам испытать!
Когда я был маленький, меня пугала сказка о девятиглавом драконе. И во сне виделось: одну голову отрубают, другая вырастает… Теперь у нас тут нечто подобное. Иногда я вижу во сне переполненный операционный зал. На столах оперируемые, а в предоперационной ждут все новые и новые…
Теперь на очереди эпилептики. Доктор Вискочил ожил. Диски его ничуть не трогают, но, едва открывается возможность вмешательства на коре больших полушарий, волнуется, как гончая, учуявшая дичь.
Идут пустые номера. Долголетний эпилептик без выявленной локализации – не подходит. Ребенок с врожденной эпилепсией и снижением интеллекта. Пожилая женщина с явной сосудистой аномалией. Все это не для операций. Вискочил снова погружается в летаргический сон.
Пражская невропатолог начинает сообщение об интересном случае. У больной бывают приступы, всегда начинающиеся с того, что она слышит одну и ту же мелодию. Вспомогательные исследования не показали опухоли, и только энцефалограмма говорит о поражении коры правой височной доли. Приступы начались после травмы.
Вискочил дождался наконец:
– Там явно глиозный рубец. Следовало бы провести кортикографию и в зависимости от размеров – вмешательство. Что это была за травма?
– Открытый перелом приблизительно за полгода до того, как появились эти приступы.
– Я был бы за резекцию всей эпилептогенной зоны.
– Постойте, Вискочил, – осаживаю я его. – Вы видели, какая у нас программа?..
– Это не терпит отлагательств, – заявляет он упрямо.
И задает невропатологу наводящий вопрос:
– Теперь эти приступы участились?
Невропатолог колеблется:
– Вообще-то да. Безусловно, они теперь чаще, – спохватывается она, сообразив, что это аргумент в ее пользу. – У нее даже испортился музыкальный слух. Прежде она будто бы хорошо пела, а теперь не в состоянии воспроизвести ни одного знакомого мотива.
– Смотри, как бы это не оказалось симптомом опухоли, – пытаюсь я заронить в Вискочиле сомнения, – вот был бы сюрприз при обследовании…
Но он не поддается.
– Тогда тем более надо быстрее поставить диагноз.
Наши доктора смеются, а Вискочил напыщенно произносит:
– Как вам угодно. Я свое мнение высказал.
Румл хлопает его по плечу:
– Послушай, ты еще не сказал пану профессору, что это был бы превосходный случай для демонстрации на лекции! Тогда бы уж он его безусловно не отвел.
Наконец засмеялся и сам доцент. Вздохнув, включаю больного в расписание. Со следующей недели будем оперировать каждый день допоздна. Ничего не поделаешь.
– Может, кто-нибудь отпадет? – размышляю я над раскрытым ежедневником.
– Скорее, прибудет, – отзывается Гладка.
– Еще что-нибудь есть?
– Спросил пан профессор, подняв пистолет, – острит Румл.
Окидываю взглядом наших гостей. У каждого, конечно, есть в запасе два-три случая, с которыми они не решаются обратиться.
Ружичка возле меня грозно таращит глаза и делает руками такое движение, будто сворачивает шею куренку. Нет, ни у кого уже ничего нет, можем заканчивать.
Главврач внезапно хлопает в ладоши:
– Наших сотрудников прошу немного задержаться – небольшое производственное совещание.
Все взглядывают на часы. В операционной ждут пациенты. Румл действительно говорит очень сжато: о новой форме статистики злокачественных опухолей, об экономии лекарств и перевязочного материала, о выдаче пропусков при посещениях в неустановленные часы. Я слушаю вполуха. Невольно возвращаюсь мыслями к обширной опухоли гипофиза, которую сейчас буду оперировать. Пациентка почти слепа, обратилась за помощью поздно. Опухоль вросла в переднюю черепную ямку, работа предстоит большая. Подходить придется лобным доступом – операционное поле будет более широким.
– Статистические таблицы заполняют неточно, – повышает Румл голос, потому что некоторые начинают потихоньку заниматься посторонними делами. – В том месяце положение в нашей клинике было хуже, чем в других. Врачам, которые относятся к этому недостаточно серьезно, директор будет снижать оценку за выполнение личных обязательств.
Принимается это без возражений – быть может, потому, что здесь сижу я. Незаметно оглядываю своих коллег. Один измотанней другого. Румл уж совсем седой. Когда он успел? Еще недавно была шевелюра соломенного цвета, а теперь оплешивел, как старый волк. У Гладкой сами собой опускаются веки – должно быть, после ночного дежурства. Она всегда говорит: «После дежурства я как выжатый лимон. Никуда не денешься – возраст». Действительно у нее такой вид. Курит сигарету за сигаретой. Даже у Зеленого под глазами круги. Сидит, флегматично уставившись в стол. В семье у него маленький ребенок. Говорят, набирает дежурства специально: дома удается поспать еще меньше, чем в клинике.
После совещания пойдут оперировать. Окончив, ненадолго вытянутся в ординаторской на диване – и сядут за пишущие машинки. Документации всякой невпроворот, и никто ее за нас не сделает. Секретарша едва справляется с официальными бумагами, врачи все пишут сами: протоколы операций, сводки, статистические подсчеты, истории болезней…
Не будь меня, они давно бы уже послали Румла куда подальше. Главврач это знает и потому рад, что я здесь. Мне ясно, что статистику они и дальше будут вести неточно, а директор никому оценки за выполнение личных обязательств не снизит. Сейчас разойдутся по своим местам, и каждый станет выполнять работу за двоих. Плюнут на время, забудут, что отдежурили ночь… Люблю я их.
В комнату, где мы заседаем, проскальзывает операционная сестра. Та, новая, Гедвика, красивая девица с точеными ногами. Сестры в большинстве своем остались при мини-юбках. Доктора демонстративно оборачиваются, ожили. А она проплывает лебедью – знает себе цену.
– Пан профессор, вас к телефону.
Встаю. Понимаю, что зря меня беспокоить не стали бы.
Звонит Итка. Обыкновенно, когда у них в неврологии что-нибудь срочное, переговоры со мной ведет только она. Объясняет мне, что у них в клинике больной с большой сосудистой аномалией. Она сейчас как раз смотрит на ангиограмму – оперативное вмешательство не терпит отлагательств. Было бы хорошо, если бы это обсудили на сегодняшней конференции.
– А нельзя подождать до следующей? – защищаюсь я. – У нас график забит до предела!
Она отказывается меня понимать. Аномалия огромная, и времени терять нельзя.
– Видишь ли, если она слишком велика, то уже это само по себе… – тяну я.
– Разумеется. Я знаю, что для операции предпочтительны меньшие. Да только…
– Что «только»? Если б ты знала, как тут все сложно… Я уже не могу требовать от врачей большего.
– Понимаю. Можешь мне не рассказывать. Да только… это ведь Микеш.
– Какой Микеш?
– Сколько ты знаешь Микешей?
– Микеш из интерната Главки?
– Он самый, – подтверждает она. – Вы его звали Митей.
– Откуда ты знаешь, как мы его звали?
– Да уж знаю. Может кто-нибудь прийти с его историей?
– А сама ты не можешь?
– Нет, у меня амбулаторный прием. Вот что, – произносит она приглушенно – должно быть, не хочет, чтобы ее слышала сестра, – придет, наверно, наш доцент. Ему не терпится показать вам эти снимки лично.
– Я счастлив!
И снова она ратует за то, чтобы взять Митю пораньше. У него уже что-то вроде вялого паралича руки и начинает двоиться в глазах. Как бы не началось кровотечение.
– Ну ладно, пускай доцент приходит прямо сейчас, – говорю я.
И, не утерпев, добавляю:
– А как вы узнали, что он был со мной в интернате? Он спрашивал про меня?
– Не думаю, да и какое это имеет значение, – нетерпеливо перебивает она. – Только, пожалуйста, не отказывай ему сразу. Взвесьте все. Вспомни, сколько аномалий ты оперировал, и большей частью успешно…
– Ну, насчет большей части ты преувеличила, я тебе покажу цифры, сейчас я как раз делаю таблицу для конгресса.
– Ну, поступай как знаешь. Просто я думала…
– Я понимаю, товарищ по интернату, но пойми, я сначала ведь должен увидеть!
Иду назад к врачам. Митя… Внешность молодого Вертера, меланхолическое бледное лицо, темная волнистая шевелюра. И характер был романтический. Писал стихи, некоторые даже печатали. В интернат пришел позже меня. Учился на философском. Мы некоторое время жили вместе. Потом ко мне переселился Поличанский, тоже медик, нам было удобно вместе заниматься. А Микеш как раз договорился с Фенцлом – они прожили в общей комнате до самого закрытия интерната. Ни один из них не успел тогда завершить курса: пришла оккупация, и все полетело к чертям.
Врачи меня ждут: производственное совещание кончилось. Приношу извинения, должен их ненадолго задержать. При слове «аномалия» покорно садятся. Я знаю, что они думают. «Аномалия – конек шефа!» Вижу по ним, что случай их не очень заинтересовал.
Танцующей походкой вошел доцент Хоур из неврологической клиники. Итка любит его копировать. Берет молоточек двумя пальцами и встряхивает головой:
«Студенты, неврологическое обследование должно выглядеть эстетично. Молоточком проверяют рефлексы, а не забивают гвозди».
Он приветствует нас преувеличенным поклоном, пространно извиняется, что должен нас немного задержать. Наконец достает снимки. Врачи уже не кажутся индифферентными. С любопытством сбились возле негатоскопа. Видим образование, похожее на светлый клубок. От него вьются приводящие и отводящие сосуды. Наш рентгенолог показывает нам сосуды, которые, очевидно, питают аномалию. Молчим. Всем ясно, что ситуация неразрешима.
Первое слово за мной. Нерешительно говорю:
– Ужасно она большая. Нечто подобное я оперировал два года тому назад, и это было невероятно сложно…
– Убрать ее полностью просто невозможно, – полагает Кртек.
– Слишком глубоко она залегает, уже в одном этом серьезный риск… – поддерживает его Румл.
Суждение Гладки особенно категорично.
– Бессмысленно, – говорит она. – Там уж наверняка атрофия прилегающей ткани. А если вспомнить, что это лобная и височная доли…
Хоур встряхивает головой и патетически возвышает голос:
– Но у него ни малейших нарушений высшей нервной деятельности, атрофии серого вещества безусловно нет. Он высокоинтеллектуален, я сам его обследовал. Мы с ним немного поговорили на французском. Это его область. Он даже читал мне в оригинале Вийона, Элюара…
Румл лукаво подмигивает Гладке и ухмыляется. Наверно, думает: «Мне бы его заботы!..»
Я действительно не знал, как поступить. Мы снова просматривали снимки один за другим, снова взвешивали все «за» и «против». Брать этот случай решительно никому не хотелось.
Доцент глядел на нас с укором.
– Хорошо, если бы удалось ему помочь, – сказал он тихо. – Он превосходный человек. На операцию пойдет спокойно. Просит только раньше времени не говорить жене.
Я обещал, что приду посмотреть Микеша еще сегодня, потом решим, что делать.
– Он будет рад, – сказал мне на прощание Хоур, – говорит, он вас знает – в студенческие годы жили в одном интернате, но сам к вам обращаться не хотел.
Этого только недоставало! Всем стало ясно, что, не будь особых обстоятельств, я этот случай отклонил бы. Но тут был Митя. Он стоял у меня перед глазами, когда я шел в операционную и после – когда мылся перед операцией на гипофизе. Я представлял его себе все более явственно и живо. В самых разных видах, каким я его знал: в рубашке апаш и с гитарой, в толстом свитере с кашне вокруг шеи (он был не закален, а в интернате топили экономно) и даже в фехтовальном костюме. Ловкостью и силой он не отличался, а фехтование просто не любил, но спортивные тренировки были необходимым условием для получения стипендии, учрежденной Главкой.
Я невольно улыбаюсь. Представляю себе, как мы стоим с Митей друг против друга, а фехтмейстер отдает нам приказы, сбиваясь на родной польский язык:
«Маски на глову, маски на вниз».
Митя при этом ужасно томится. Стремительные, четкие движения – не его стихия. Когда кончаем, с кислым видом стягивает капюшон:
– И почему я не пошел в семинарию?..
А я шлепаю его рапирой и подсмеиваюсь:
– Где твоя твердость духа, рыцарь Главки?
Он, не стесняясь в выражениях, посылает меня куда подальше – для семинарии он еще явно не созрел – и собирается на свидание. Брюки мы из принципа не гладили, а клали на ночь под матрас. Митя настроен романтически, должен преподнести барышне хоть букетик фиалок. А так как денег достать негде, продает обед. Но есть-то ему хочется, и он идет к табльдоту «мародерствовать». Это очень просто. Садишься на освободившееся место, где кто-нибудь оставил на тарелке два-три кнедлика. Потом протягиваешь ее интернатскому служителю пану Дробилкову. Говоришь, что хотел бы добавку соуса и еще один кнедлик. И на подъемнике поступает к тебе целая порция.
Мы постоянно хотим есть. Поднимаем шум: «Что это за ужин? Две сухие сардельки и кусок хлеба!..» Митя кричит больше всех. Из дома он ничего не получает, бегает по урокам и еще старается отослать крону-другую матери.
Я завязываю марлевую маску, надеваю перчатки. В операционной все на своих местах. Передо мной подготовленное операционное поле. На мгновение мне кажется – это Митя.
Начинаю. Вычерчиваю скальпелем большой подковообразный разрез. Идут в ход зажимы, пинцеты, электрокоагулятор. Мне ассистируют Ружичка и Кроупа. Возле анестезиолога топчется Зеленый. Он хорошо фотографирует. Если потребуется, может сделать снимок во время операции.
Операционная сестра внимательно следит за каждым моим движением. Глаза над марлевой повязкой вполне могли бы принадлежать какой-нибудь восточной красавице, если б глядели из-под покрывала, а не из-под белой косынки. Они серо-голубые и ясные. Медсестра Ольга действительно очень хороша. Протягиваю руку, и она подает мне зажим. Всегда именно то, что нужно.
Я распрямился – немного перевести дух. Доцент быстро скоагулировал все сосуды, так что нигде ничего не кровоточит.
И неожиданно меня охватывает радость. Я знаю, эти люди вокруг стоят вместе со мной на страже каждой ниточки сосуда, каждого волоконца нерва, каждого вдоха и выдоха, доносящегося из респиратора.
Делаю широкую трепанацию. Под открытой костью нежно-пульсирующие лобные доли. Их надо приподнять и отодвинуть в сторону. Под ними видно что-то серовато-белое. Да, это опухоль, которая пробилась и в переднюю ямку черепа. Обволакивает оба зрительных нерва. Но она мягкая и не срослась с ними, так что их можно высвободить.
Зеленый с нацеленным фотоаппаратом ждет, когда я разрешу ему сделать снимок. Я на минутку прерываю операцию. Операционное поле снова промывают и осушивают. Останавливают кровотечение. Теперь можно сделать и снимки. Лучше спереди, чтобы были видны зрительные нервы.
Продолжаем. Ольга пододвигает мне винтовой табурет. Так будет удобней. Я улыбаюсь ей. Даже под маской видно, что она зарделась. Подставляет лоток, куда я кладу мягкую ткань иссеченной опухоли. Стрелки часов на противоположной стене то и дело пролетают еще на двадцать-тридцать минут.
Шапочка Кроупы уже насквозь промочена потом. Струйки его стекают по лбу и попадают в глаза. По временам он зажмуривает их и моргает.
– Хотите отдохнуть? – спрашиваю я (главврач с периферии у нас гость, он не привык к операциям, длящимся несколько часов).
Кроупа отрицательно качает головой. Зеленый берет кусок целлюлозы и вытирает ему лоб. Продолжаем. Вспоминаю, что наши врачи рассказывали о Кроупе перед прошлым семинаром. Главврач живет в общежитии, как и все, кто тут проходит курс усовершенствования. На воскресенье обыкновенно уезжает домой. Один раз для него это оказалось неудобным. Он позвонил по междугородному жене и стал пространно объяснять, что оперировать придется и в субботу утром, так что приехать он ни при каких условиях не сможет. Кто-то из врачей услышал это и сыграл с ним шутку. Включил селектор, микрофон которого находился рядом. Врачи во всех комнатах слышали объяснения Кроупы и помирали со смеху.
Прошу его еще немного отвести мягкие ткани. Он очень искусно выполняет это. Умелый. Его особенно интересуют операции при травмах головы – он работает вблизи зимнего курортного центра. Наши все любят Кроупу, веселого, общительного толстяка.








